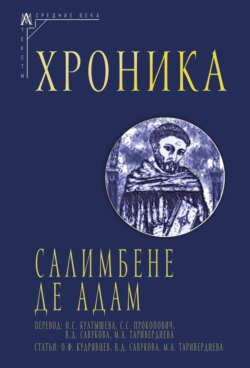Читать книгу Хроника - - Страница 14
«Хроника» францисканца Салимбене де Адам: историописатель и время
О. Ф. Кудрявцев
Образ человека: типическое и особенное
ОглавлениеВопрос о том, «что есть человек», в общем, абстрактно-метафизическом плане не интересовал Салимбене. Но и конкретные черты человека, его особенные свойства или их неповторимое сочетание редко привлекали внимание хрониста. Описание многочисленных персонажей, которые встречаются на страницах труда Салимбене, как правило, не передает специфические, частные качества каждого конкретного лица. Оригинальность, самобытность характера воспринимались чуть ли не как нарушение установленного порядка вещей, как своеволие, в иных случаях приравниваемое или даже отождествляемое с ересью[185].
Индивидуальное в человеке Салимбене не ценил и не подчеркивал, в лучшем случае он его подавал, если воспользоваться словами русского историка, «как просто феноменальное обнаружение типического»[186], причем все то, что составляло неповторимое своеобразие единичного, им отбрасывалось. Как и другие средневековые писатели, Салимбене всякое частное пытался соотнести с общим, указать в нем черты, свойственные некому классу явлений; человек в его описании типизирован, выступает прежде всего как социально определяемый субъект[187]. Ни о каком рождении индивидуальности, ни о каком ощущении личности в творчестве Салимбене или культуре его эпохи речь, конечно же, идти не может. Человек должен являть собой характерные признаки того целого, к которому он относится, того класса, сословия, корпорации, членом которой он состоит; поэтому человек сам по себе, в своей неповторимости и исключительности, остается неузнанным, скрыт за личиной, навязанной ему его социальной группой. О собственном отце – а с ним Салимбене расстался в таком возрасте, в котором был уже способен хорошо запомнить обстановку домашней жизни и особенности родных людей, – он сообщил только то, что свидетельствовало о нем как о представителе знати, рыцаре: «Упомянутый же отец мой Гвидо де Адам был мужем красивым и храбрым; некогда, во времена Балдуина, графа Фландрского, он участвовал в походе за море для защиты Святой Земли…»[188] В подобных характеристиках, по верному наблюдению П. М. Бицилли, Салимбене «предан шаблонам и готовым формулам»[189]. Слова «красивый», «сильный», «умелый воин», как показал в своем исследовании Жак Поль, в разнообразных, но близких по смыслу словосочетаниях очень часто употреблялись Салимбене при описании типичного представителя знати[190]. Даже наиболее развернутая из характеристик, в которой Салимбене представил графа ди Сан-Бонифачо воплощением рыцарственности и христианской доблести, составлена из расхожих клише, общепринятых штампов, годных для изображения идеального типа, но мало что сообщающих о конкретном лице: «Человек добрый и святой, мудрый и добродетельный, и сильный, и хорошо владеющий оружием, и опытный в военном деле»[191].
Собственную мать, которую Салимбене должен был знать, конечно же, лучше других людей и в отношении которой имел возможность сообщить частные свойства натуры и быта, индивидуализирующие ее облик, он представил средоточием нравственных качеств, присущих доброй христианке, женщиной благочестивой, кроткой, творившей дела милосердия и помогавшей бедным, то есть такой, какой, с его точки зрения, – точки зрения францисканского монаха – обязана быть всякая мирская женщина: «Мать моя, госпожа Иммельда, была смиренной и набожной женщиной, много постившейся и охотно подававшей милостыню бедным. Никогда ее не видели разгневанной, никогда не поднимала она руку на служанку. Из любви к Богу в зимнее время она всегда давала приют какой-нибудь бедной горянке… наделяла ее одеждой и пропитанием…»[192] Вот почти все, что можно узнать из «Хроники» о госпоже Иммельде. Особенные, присущие только ей черты характера стерты общими словами, более обнаруживающими взгляд автора на то, что должна являть собой женщина, нежели передающими конкретный женский образ.
Сходным образом Салимбене держался и в отношении клириков, превознося их за те качества, которые полагал подобающими им, и, наоборот, порицая за отсутствие такого рода качеств[193]. Как всякий средневековый писатель, в оценках человека Салимбене руководствовался тем, что приличествует каждому «чину», прилагал к нему общепризнанную мерку сословия, класса или корпорации. В человеке поэтому он выделял не его частные свойства в качестве конкретного лица, но прежде всего социально значимую функцию, соответствие или несоответствие ей[194].
185
Показательно, что наиболее выпукло, рельефно, в некоторых случаях даже зримо изображены в «Хронике» те немногие персонажи, разрыв с нормами церковной жизни и учения которых у ее автора не вызывал сомнений. Так, например, Салимбене сообщал не только много подробностей о жизни, деятельности и отдельных выходках основателя секты «апостольских братьев» Герардина Сегарелли, но и о том, как он одевался, как выговаривал слова (Ibid. Р. 369–384; С. 392–404), так что портрет ересиарха, пусть даже несколько карикатуризированный пристрастным описанием, получился весьма конкретным и вполне наглядно представляемым.
186
Бицилли П. М. Элементы средневековой культуры. СПб., 1995 (1‑е изд. – 1919, Одесса). С. 53.
187
См. в этой связи: Бицилли П. М. Салимбене. С. 133, 146; Гуревич А. Я. Средневековый мир: культура безмолствующего большинства. С. 204; Idem. La nascita dell’individuo nell’Europa medievale. P. 226.
188
Cronica. P. 52 (C. 106).
189
Бицилли П. М. Салимбене. С. 138.
190
«pulcher homo et valens» (Cronica. P. 928); «pulcher homo et magnus bellator» (Ibid. P. 75); «homo pulcher et nobilis» (Ibid. P. 927); «pulcher miles et fortis bellator» (Ibid. P. 99) (C. 91, 114, 138, 488, 491, 536, 537). Подробнее об этом см.: Paul J. Elogio delle persone e ideale umano // Paul J., D’Alatri M. Salimbene da Parma. (P. 35–58). P. 38–42.
191
«bonus homo et sanctus, sapiens et honestus et fortis et probus in armis et doctus ad bellum» (Cronica. P. 534; C. 536).
192
Ibid. P. 77 (C. 131).
193
См. об этом: Paul J. Op. cit. P. 47–54.
194
Ibid. P. 55, 56.