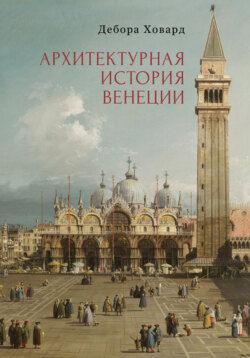Читать книгу Архитектурная история Венеции - - Страница 9
Глава II
Средневековый город
Строительные материалы и техника
ОглавлениеВенеция основана на песке, иле и глине, а в более высоких местах, таких как площадь Сан-Марко и Риальто, – на гравии. Большинство туристов считают Венецию плоской, но каждый, кто живет в городе некоторое время, вскоре узнает, что здесь есть небольшие перепады высот, поскольку более низкие части чаще затопляются во время приливов. В действительности площадь Сан-Марко больше не является одной из самых высоких точек; ее уровень опустился не только из-за проседания грунта в результате удаления артезианской воды из подстилающей породы лагуны, что повлияло на весь город, но и из-за большого веса зданий вокруг площади, который сжимал грунт на протяжении веков. На улицах брусчатка уложена прямо на песок, что хорошо видно при проведении ремонтных работ. До XV в. лишь немногие улицы были вымощены – это были просто дорожки из утрамбованной земли.
Здания, естественно, требуют более сложного основания, чем мощение улиц. На первых заселенных участках земля была достаточно твердой, и можно было обойтись без специальных фундаментов. В этих местах ольховые колья длиной около метра поддерживали горизонтальную платформу (известную как дзаттерон или большая плита) из вяза и лиственницы, а также стенки фундамента из больших каменных блоков. В других местах фундамент зависел от прочности грунта и веса возводимого здания. Главный принцип венецианского строительства заключается в том, что здания, по сути, были спроектированы так, чтобы «плавать» на влажном песке и грязи для противостояния постоянному движению, вызываемому приливами и отливами. Из-за высокой стоимости дубовых бревен свайные фундаменты использовались только в случае крайней необходимости: например, на краях каналов, под тяжелыми или высокими сооружениями или на исключительно мягком грунте.
Важно помнить, что сваи не достигали твердой породы, а служили для стабилизации конструкций в мягком иле лагуны. Каждое значительное здание на плохо укрепленном участке должно было опираться на дубовые сваи, забитые глубоко в аллювиальную глину бригадами рабочих с тяжелыми молотами, подбадриваемых ритмичными песнями. Длина этих свай составляла не менее трех метров. Большинство из них вбивалось под основные стены здания, несущие наибольшую нагрузку. Внутренние перегородки имели менее основательные фундаменты, что во многих случаях приводило к проседанию. Как и деревянные дзаттероны, сваи остаются постоянно влажными, что позволяет им противостоять гниению на протяжении веков. Более того, свайные фундаменты можно использовать снова и снова, что способствовало неизменности венецианских архитектурных планов.
Подготовка участка к строительству была сложной процедурой. Глину выкапывали из-под сплошной линии свай, обозначавших стены по периметру. Вдоль края канала сооружался вал из свай, обшитых деревянными брусьями, чтобы вода не попадала в фундамент во время строительства, а по краям выкапывался ров, прежде чем участок осушался. При необходимости под несущими стенами, а иногда и в промежуточном пространстве, вбивались дополнительные сваи, после чего земля засыпалась слоями щебня, камня и лиственничных лаг, уложенных на известковом растворе. Верхушки свай сглаживались примерно на три метра ниже уровня прилива, чтобы служить основанием для дзаттерона, состоящего из двух слоев лиственничных досок, каждый из которых располагался под прямым углом к нижележащему, что помогало распределить вес на мягкий грунт. Здания могли проседать при неравномерном распределении нагрузки на дзаттерон из-за постоянного движения приливов и отливов по грунту. Фундаментные стены строились очень широкими у основания, постепенно сужаясь к уровню прилива. Горизонтальные слои непроницаемого истрийского камня в фундаменте препятствовали проникновению влаги. Если вся стена фундамента не была сложена из истрийского камня, то снаружи она облицовывалась слоем белого камня, а изнутри – глиной.
Кирпич был самым распространенным строительным материалом в венецианской архитектуре, поскольку он был экономичным, легким и пористым (позволял влаге высыхать). Кирпичи, изготовленные из глины с близлежащего материка, имеют насыщенный красно-коричневый цвет, который придает характерный элемент теплоты городскому пейзажу. Терракотовая черепица поступала из того же источника. В кирпичных стенах для кладки использовался традиционный известковый раствор, достаточно эластичный, чтобы позволить определенное движение на неустойчивом фундаменте.
Многие из кирпичных стен, которые сейчас обнажены, когда-то были полностью покрыты тонким слоем штукатурки. Типичной венецианской штукатуркой была cocciopesto, изготовленная из измельченных терракотовых плиток на основе гашеной извести и воды, дающая теплый красный цвет, как у кирпичной кладки. Более блестящую отделку можно было получить, используя марморино – штукатурку аналогичного состава, но с добавлением гранул истрийского камня без песка. Подобные примеры до сих пор можно увидеть, хотя современная лепнина окрашивается искусственно. Некоторые из оштукатуренных стен были покрыты светло-серой штукатуркой, а затем расписаны фресками, но настенные росписи вскоре погибали во влажной, соленой атмосфере. Фрагменты фресок Джорджоне и Тициана, спасенные из Фондако-дей-Тедески, теперь можно увидеть в Ка-д’Оро и Академии изящных искусств.
В непосредственной близости от лагуны нет местного камня. Мягкий желтоватый известняк, добываемый в окрестностях Падуи, как и песчаник из Виченцы, так легко выветривается, что его нельзя было использовать в Венеции. Строительным камнем, наиболее широко используемым в городе, был белый, похожий на мрамор известняк из Истрии, который можно было экономично перевозить из каменоломен по морю. Несмотря на свою твердость, истрийский камень легко поддается резьбе благодаря своей мелкой, равномерной зернистости. В то же время, будучи практически непроницаемым, он удивительно устойчив к атмосферным воздействиям, даже в условиях влажной, соленой и ныне сильно загрязненной атмосферы Венеции.
Выразительная картина Каналетто, хранящаяся в Национальной галерее в Лондоне и известная как «Двор каменотеса», показывает каменотесов, подготавливающих огромные блоки истрийского камня для нового фасада близлежащей церкви Сан-Видаль. Такие детали, как оконные рамы, капители и основания, карнизы, водосточные трубы, ступени, балюстрады и дверные проемы, как правило, выполнены из истрийского камня. Как уже упоминалось, использование одного и того же камня до уровня стояния воды в здании помогало предотвратить появление сырости в стенах. (К сожалению, в результате оседания грунта эти водоотводящие каналы утратили свою эффективность). Начиная с эпохи Возрождения, большие здания облицовывались полностью истрийским камнем, скрывая под ним кирпичные стены. Эти фасады излучают ослепительную яркость при солнечном свете, особенно когда они подвергаются воздействию дождя, который смывает с них скопления грязи и копоти.
В более дорогих зданиях для резных деталей, таких как порталы и камины, импортировался красный мрамор из Вероны. Этот камень при полировке имеет блестящий ржаво-красный цвет, хотя при выветривании он приобретает более грубую бледно-розовую поверхность. Процесс выветривания хорошо демонстрируют два красных мраморных льва на Пьяццетте-дей-Леончини за Сан-Марко, спины которых отполированы до блестящего красного цвета многими поколениями венецианских детей, катавшихся на них, в то время как остальные части их тел стали тускло-розовыми. Реставрация Лоджетты у подножия кампанилы Сан-Марко в 1970-х гг. оживила красную полированную поверхность веронского мрамора, которая потускнела в результате того же эффекта выветривания. К сожалению, с тех пор смола, использованная для замазывания только что очищенного камня, стала молочного цвета и потускнела. Клетчатый узор из красного мрамора из Вероны или Котора и белого истрийского камня также был популярен для мощения помещений первого этажа, таких как андроне и церковных нефов.
Драгоценные мраморы иного происхождения повышали престиж здания. Как мы уже видели, Сан-Марко украшен редкими восточными мраморами, многие из которых были вывезены из Константинополя. Фасад дворца Вендрамин-Калерджи (ныне зимнее казино), построенного в начале XVI в., украшен порфиром, серпентином, а также инкрустацией из восточного мрамора. Очистка и реставрация фасада Скуола-Гранде-ди-Сан-Рокко в 1990-х гг. выявила потрясающее изобилие редких, дорогих мраморов. Помимо только что упомянутого красного веронского мрамора, Лоджетта, построенная Якопо Сансовино в 1538–1545 гг., имеет резные детали из белого каррарского мрамора, истрийского камня и темно-зеленого камня, известного как verde antico, а ее колонны выполнены из различных редких восточных мраморов. Тот же архитектор, отправленный на восстановление церкви в Поле (ныне Пула) в Истрии, снял бесценные мраморные колонны для использования для своих собственных построек, главным образом для Библиотеки. (В Поле он заменил их кирпичными опорами, но уже через десять лет «восстановленная» церковь там превратилась в полные руины). Одним из самых замечательных примеров демонстративного использования дорогих материалов стал Ка-д’Оро, построенный Марино Контарини в начале XV в. Как мы увидим, строительные отчеты показывают, что фасад был не только украшен драгоценными мраморами, но и когда-то был окрашен ультрамарином (самым дорогим красящим пигментом из всех, изготовленным из молотого лазурита) и золотом.
Дерево также служило незаменимым сырьем для венецианского строительства. Оно требовалось не только для свай, но и для потолочных и кровельных балок. Далматинский дуб, импортируемый по морю, был самой прочной древесиной для свай, хотя его длина и была ограничена. Поставки дуба также осуществлялись по речным артериям в Венецию из Фриули и из окрестностей Тревизо. К началу XIII в. хвойная древесина, в основном лиственница или пихта, уже доставлялась в Венецию по рекам из лесов региона Кадоре в Доломитовых Альпах. Этот более мягкий вид древесины был особенно полезен для потолочных балок, не только благодаря длине бревен, но и их легкому весу, эластичности и высокой прочности, а также содержанию смолы, противостоящей сырости. Обычная длина деревянных балок варьировалась от 5 до 6,5 метров. Это определило стандартное расстояние между несущими стенами, что придало городу удивительно последовательную дробность. На неустойчивой венецианской почве требовалась максимальная гибкость здания, чтобы оно могло воспринимать незначительные сдвиги фундамента. По этой причине сводчатые потолки редко встречаются в Венеции, за исключением церквей, где они обычно поддерживаются деревянными связующими балками.
Потолочные балки были расположены близко друг к другу, чтобы равномерно распределить нагрузку, а также прибиты к горизонтальной деревянной балке, вмонтированной во внутреннюю поверхность стены. Кроме того, через равные промежутки к балкам можно было прикрепить железные стяжки, закрепленные на блоках истрийского камня во внешней части стены. Такие каменные блоки, до сих пор видимые в фасадной кладке, указывают на расположение внутренних перекрытий. Балки были покрыты двумя слоями деревянных досок, расположенных под прямым углом друг к другу – так называемый потолок Сансовино. Видимые бревна часто были богато украшены росписью или резьбой. Из-за огромного спроса на древесину – особенно на дуб – для венецианского кораблестроения, к концу XV в. леса на материке сильно истощились. В результате цена на древесину резко возросла, но заменить ее в строительном деле было невозможно. Только фундамент мог стоить до трети общей стоимости здания. В строительных отчетах, сохранившихся после реставрации и расширения Ка-Джустиниани в 1470-х гг., указано, что на дерево пришлось 43% от общей стоимости материалов.
Дерево также требовалось для строительства крыши. Как заметил Франческо Сансовино, «крыши [частных] зданий обычно шатровые [in quattro acque]». Его формулировка напоминает нам о важной функции крыши как места сбора дождевой воды, которая должна была собираться в непрерывный водосток из истрийского камня по периметру крыши. Как и потолки, бревна для крыши использовались из лиственницы или сосны. Стропила располагались близко друг к другу и перекрывались более тонкой обрешеткой, на которой располагался слой плоской черепицы, служивший основанием для верхнего слоя из характерной изогнутой черепицы, полукруглой в сечении. Во всех больших зданиях для перекрытия всей крыши необходимо было использовать систему ферм, либо размещая фермы над внутренними перегородками, либо используя так называемую палладианскую ферму, к которой с помощью железных ремней подвешивался потолок.
Потребность в гибкости также способствовала развитию в Венеции специальных типов полов. В самых простых домах полы представляли собой голые деревянные доски или иногда кирпичную плитку, а в комнатах первого этажа – отбитую землю. Более элегантная поверхность, известная как пастеллоне, состояла из молотых плиток и кирпичей, уложенных на известковый раствор и отполированных для придания красного терракотового цвета, который усиливался добавлением пигмента киновари в верхний слой. Начиная с XV в., пастеллоне был вытеснен более декоративным вариантом, называемым терраццо. В жилых квартирах эта поверхность, как и пастеллоне, была уложена поверх досок, покрывавших потолок этажом ниже. Она состояла из двух слоев толченого кирпича и камня на известковом растворе; каждый слой хорошо отбивался тараном в течение нескольких дней. Между укладкой двух слоев должно было пройти несколько месяцев. Верхний слой также содержал кусочки цветного мрамора, поэтому, когда его сглаживали с помощью мельничных камней и смазывали льняным маслом, эффект напоминал беспорядочную мозаику. Как и в случае с пастеллоне, известковая основа и мелкие камни придавали поверхности пола определенную эластичность, так что он мог выдерживать незначительные нагрузки и напряжения, не трескаясь. Если же трещины все-таки появлялись, то достаточно просто было уложить сверху еще один тонкий слой терраццо. По словам Франческо Сансовино, полы из терраццо были настолько отполированы, что в них можно было увидеть собственное отражение, а чтобы на полах не оставались следы ног, на них стелили ковры.
Другой венецианской строительной практикой, производившей большое впечатление на иностранцев, было широкое использование стекла в окнах. Стекольная промышленность на острове Мурано и даже в самой Венеции процветала к концу XIX в. В 1291 г. стекловаренные печи были окончательно запрещены в Венеции из-за риска пожаров, и промышленность сосредоточилась на Мурано. Франческо Сансовино, писавший в 1581 г., утверждал, что даже самые скромные здания в Венеции того времени имели стеклянные окна, тогда как в других городах приходилось обходиться промасленным холстом или пергаментом. Круглые диски из прозрачного бутылочного стекла удерживались свинцом и железом в деревянных оконных рамах, что хорошо видно на картине Карпаччо «Сон Святой Урсулы» в Академии изящных искусств». (Эта картина дает яркое представление о венецианской спальне конца XV в.). Некоторые окна из бутылочного стекла всё еще существуют в Венеции, хотя большинство из них были заменены листовым стеклом. Как мы видели, венецианские здания нуждались в максимально больших окнах, чтобы пропускать свет в узкие помещения, но без местных поставок стекла большие окна были бы немыслимы в венецианском климате.
В Венеции железо использовалось не очень широко, поскольку в сыром климате оно склонно к коррозии, но небольшое количество железа всё же требовалось в каждом здании для дверных замков, оконной фурнитуры, петель, перил и других подобных деталей. Уже упоминалось о пользе железа для крепления балок пола и подвески потолков к фермам. С XIX в. стало обычной практикой закреплять наклонную конструкцию с помощью железных стяжных балок. Ранее для этой же цели использовались железные цепи. Ни один из этих методов не оказался удовлетворительным в долгосрочной перспективе, поскольку железо слишком жесткое, чтобы учитывать незначительные движения конструкции. Здания, восстановленные таким образом, имели тенденцию к образованию серьезных трещин в каменных блоках, где было закреплено железо. Кроме того, ржавление железа в местах контакта с атмосферой вызвало коррозию стен вокруг мест установки скоб или цепей.
Каждая строительная техника выполнялась мастерами-специалистами, принадлежащими к отдельным гильдиям ремесленников. Были каменщики, камнерезы, терраццеро, плотники, стекольщики и кузнецы. Эти ремесленники должны были пройти пяти-семилетнее обучение, которое обычно начиналось в возрасте 12–15 лет, после чего в течение двух-трех лет они работали помощниками у одного из членов гильдии. В конце обучения они должны были сдать экзамен, чтобы доказать свою компетентность, после чего их принимали в качестве capomaestri или мастеров-ремесленников. Сыновья членов гильдии, если они были учениками своих отцов, освобождались от выпускного экзамена. Кандидаты, успешно сдавшие экзамен на звание терраццеро, который включал в себя изготовление пола площадью восемь венецианских квадратных пассо (шагов), должны были не только заплатить взнос, но и пригласить экзаменаторов на ужин. Рабочие, помогавшие мастерам, не были членами гильдии, за исключением каменотесов, а были наемными работниками, получавшими плату.
Витторе Карпаччо. Сон святой Урсулы, 1495 г., c изображением венецианской спальни XV в. (Галерея Академии, Венеция)
В каждой мастерской был один мастер, который нанимал двух-трех помощников в дополнение к своим сыновьям и подмастерьям. Заказчики или группы лиц, желающие возвести здание, обычно сами привлекали субподрядчиков. Они запрашивали смету у разных мастеров на каждую работу и заключали контракты с мастерами, предлагавшими наиболее выгодные условия. Только каменщики сами поставляли себе сырье, поскольку им приходилось выбирать наиболее подходящий камень для каждой работы. В противном случае меценат должен был заключать отдельные контракты с поставщиками кирпича, извести, песка, дерева и железа, а также с лодочниками для перевозки тяжелых грузов, таких как грязь, вычерпываемую из каналов, или щебня для фундамента. При такой системе каждому ремесленнику требовалось совсем немного капитала. Он просто должен был владеть или арендовать мастерскую и иметь собственные инструменты. И действительно, у него было мало возможностей для накопления денег. Как практика субподряда со стороны заказчика, которая ограничивала рост крупных фирм, выполняющих все строительные работы, так и уставы отдельных гильдий препятствовали приобретению богатства или власти одним ремесленником. Квалифицированный ремесленник был уважаемым членом венецианского общества, но его прочно удерживали на своем месте.
Как и в других странах средневековой Европы, проектировщики зданий, как и другие художники, редко назывались по имени или записывались в документах, и лишь немногие из их произведений искусства были подписаны. Однако не следует думать, что в Средние века здания росли почти органично, подпитываемые неким общинным стремлением к строительству. Большинство архитектурных проектов, вероятно, были результатом тесного сотрудничества между заказчиком и главным мастером, обычно каменщиком, и до потомков дошли именно личности заказчиков, а не исполнителей. До эпохи Возрождения, когда ценность творческого гения, наконец, стала пользоваться таким же уважением, как богатство и предприимчивость покровителя, редко удается определить личность отдельных архитекторов. Тот факт, что титул architectus не использовался в Венеции вплоть до 1470-х гг., за исключением одного известного единичного примера в 1455 г., символизирует изменение отношения, произошедшее в это время.