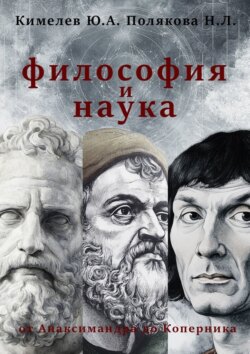Читать книгу Философия и наука. От Анаксимандра до Коперника - - Страница 4
Часть I.
Античность
от Анаксимандра до Прокла
Глава 2.
Священные фигуры и числа: Анаксимандр, пифагорейцы, Платон
ОглавлениеУ истоков греческой математической астрономии стоял Анаксимандр (VI в. до н.э.). Строение космоса у Анаксимандра представляет собой исторически первый образец того видения космоса, которое станет типичным для всех греческих астрономических теорий. Это видение являло собой прямую противоположность мифологической картине мира, основанной на действии персонифицированных божественных сущностей.
Структура мира, как она представлялась Анаксимандру, имеет следующий вид. В центре мира располагается Земля, имеющая форму цилиндра, высота которого равна одной трети его основания. Ближайшим от Земли кругом является круг созвездий, над ним располагается круг Луны, а самым внешним является круг Солнца. Расстояние между круговыми орбитами конструируется исходя из особой роли числа 3, т.е. внутренние диаметры звездного, лунного и солнечного колец должны относиться соответственно как 9, 18 и 27. Солнце у Анаксимандра является самым крупным по размерам.
Совершенно очевидно, что конструкция Анаксимандра носит неэмпирический характер. Это явствует уже из того, что мир структурируется исходя из принципов обратной, а не прямой перспективы: чем больше – тем более удалено. Кроме того, он строится на основе геометрических форм и священных чисел. Геометрическая форма строения мира, также, как и обратная перспектива, – все это взято не из опыта. Видимость и опыт дают совершенно иное: каждый день возникает на Востоке Солнце, путешествует по небу и падает на Западе. Замкнутого кругового движения мы не видим.
Конечно, система мира Анаксимандра – это еще не математика и не научная астрономия, это еще философема, но философема, положившая начало математической астрономии. И начало вполне типическое для греческого мышления: совершенно неэмпирический, без всякого измерения, просто как фигура или число создается образ, точный и одухотворенный. Курт Шиллинг пишет: «Круглый шар бытия Парменида, вечное и священное строение мира Аристотеля, геометрически-гениально сконструированное Евдоксом и Каллиппом, и наконец, система мира Птолемея, просуществовавшая до Коперника, является продолжением этой первой, еще архаической, но уже вполне геометрически оформленной системы мира Анаксимандра»3.
Непосредственными преемниками традиции Анаксимандра в астрономии стали пифагорейцы (2-я половина VI – начало V в. до н.э.). Их космос – тоже космос математический, создававшийся по законам чисел и числовой гармонии. Число лежит в основе мира. Как говорит о них Аристотель, «…пифагорейцы, занявшись математикой, первые развили ее и, овладев ею, стали считать ее начала началами всего существующего»4. Но математика пифагорейцев – это не точная и абстрактная наука в современном смысле слова, это метафизика: каждое число – символ, несущий в себе сакральный смысл. И потому их математически точный космос символичен и метафизичен. Выстраивается же он исходя из мистического значения числа 10. Философско-метафизические представления «строят» космос, а явления подгоняются под это строение. Лучшим примером этому служит космологическая система Филолая.
По Филолаю, в центре Вселенной находится огонь -Гестия, вокруг которого вращается сферическая Земля, описывая за сутки полную окружность. Так возникает смена дня и ночи. Центральный огонь невидим для нас, потому что мы живем на противоположной ему стороне Земли, или же потому, что между Землей и Гестией расположена Антиземля -Антихтон, темное тело, подобное нашей Земле. Солнце -прозрачный как стекло шар, который получает свет и тепло от Гестии и от огня, находящегося за пределами небесной сферы.
Доподлинно неизвестно, в каком порядке следовали друг за другом светила и сколько им приписывалось вращений. Но это и несущественно для данного изложения. Важно то, что всех светил 10, что они вращаются вокруг Гестии, или центрального огня, и что к семи известным блуждающим светилам (так греки называли планеты, Луну и Солнце), Небу и Земле добавляется Антихтон, которого никто и никогда не видел, а тот факт, что его никто и никогда не видел, объясняется весьма остроумной геометрической конструкцией.
Такой приоритет метафизических представлений над явлениями у пифагорейцев выявил уже Аристотель. Характеризуя их взгляды, он писал, что числа занимали у них первое место во всей природе, что «элементы чисел суть элементы всего существующего и что все небо есть гармония и число. И все, что они могли в числах и гармониях показать согласующимся с состояниями и частями неба и со всем миро устроением, они сводили вместе и приводили в согласие друг с другом; и если у них где-то получался тот или иной пробел, то они стремились восполнить его, чтобы все учение было связным. Я имею в виду, например, что так как десятка, как им представлялось, есть нечто совершенное и охватывает всю природу чисел, то и движущихся небесных тел, по их утверждению, десять, а так как видно только девять, то десятым они объявляют «противоземлю».
Система Филолая имела столь широчайшее распространение, что многие, в том числе и Аристотель, относили ее не конкретно к Филолаю, а ко всем философам. Однако филолаевская астрономия не была унифицированной пифагорейской картиной мира. Сам Пифагор, например, помещал в центре мира Землю, тогда как Филолай – Гестию5. Но для нашего изложения не важна конкретная мировая схематика. Важен тот факт, что структура космоса у пифагорейцев в целом являлась производной от их метафизики, а точнее, от метафизически понимаемой математики. В этом смысле астрономические построения пифагорейцев сходны со взглядами Анаксимандра, но в одном существенно отличаются от них. Если у Анаксимандра метафизические представления однозначно жестко интерпретировали явления, то у Филолая уже осознан разрыв между его метафизической схемой и явлениями, более того, он пытается как-то подогнать явления под схему путем различного рода объяснений, почему никто и никогда не видел Антихтон.
Дальнейшее развитие пифагорейской астрономии в системах Экфанта, Никета, Гераклида Понтийского шло по линии увязывания метафизически интерпретируемой мировой схематики с наблюдаемыми небесными явлениями. Образец увязывания метафизических представлений с эмпирическими явлениями был дан еще Пифагором. Пифагор попытался, и ему это удалось, разложить видимую сложную спираль, описываемую каждый год Солнцем, на два составляющих равномерных круговых вращения: одно – суточное, с востока на запад вокруг оси мирозданья; другое – годичное, с запада на восток по эклиптике. Разложение движения вокруг двух различных осей имело кардинальное значение для всего дальнейшего развития астрономии. Был создан образец, которому надлежало следовать, была создана программа. П. Дюгем, ссылаясь на Гемина, так воспроизводит пифагорейскую астрономическую программу. «Вся астрономия строится на том принципе, что Солнце, Луна и пять планет совершают равномерные и круговые движения в направлении, противоположном суточному обращению мира. Пифагорейцы, первыми начавшие подобные исследования, полагают круговыми и регулярными движения Солнца, Луны и пяти планет. Они считают невозможным, чтобы эти божественные тела двигались беспорядочно – то быстрее, то медленнее, то совершенно останавливались, что мы наблюдаем у пяти планет.
Действительно, трудно вообразить себе здравомыслящего человека, с нормальной походкой, который передвигался бы столь странным образом. Жизненные обстоятельства могут заставить его идти то быстрее, то медленнее, однако подобные причины не властны над нетленной природой светил»6.
Оценивая вклад пифагорейской астрономии в развитие античной астрономии, нельзя не сказать, что именно пифагорейцы попытались не только сформулировать, но и применить принцип «спасения явлений», ставший основой их программы: ими была сформулирована аксиома кругового равномерного движения и сделаны попытки описания наблюдаемого движения светил на ее основе. В сущности, это была, на наш взгляд, первая в истории астрономии попытка научного объяснения явлений, положившая начало астрономии как науки. При этом не надо забывать, что пифагорейцы еще не утратили наивного чувства нерасчлененности и единства мира, явления и числа.
Во многом то, о чем писал Платон (427—347 г. до н.э.) относительно астрономии и космологии, основано на учениях пифагорейцев. Он и сам говорил об этом в своих диалогах. Диалог «Тимей», в котором обсуждаются проблемы космологии, после небольшой вступительной беседы превращается в монолог известного пифагорейца Тимея, философа и общественного деятеля, современника Эмпедокла, Зенона, Анаксагора и Филолая. Видимо, в «Тимее» изложена та часть пифагорейского учения о космосе, которую признавал Платон и которая стала частью его собственных взглядов. Платон пишет, что «тело [космоса] было сотворено гладким, повсюду равномерным, одинаково распространенным во все стороны от центра, целостным, совершенным и составленным из совершенных тел»7. Совершенным же телом для Платона был шар, а совершенной фигурой – круг. Космос Платона, так же, как и космос пифагорейцев, являет собой иерархически упорядоченное бытие сущностей, организованное согласно принципам математической гармонии. Ряд чисел 1, 2, 3, 4, 8, 9, 27 отражает гармоническую структуру сфер Луны (1), Солнца (2), Венеры (3), Меркурия (4), Марса (8), Юпитера (9), Сатурна (27), концентрически расположенных вокруг Земли как центра.
Точно так же, как и у пифагорейцев, у Платона громадное значение в космологии имеют понятия гармонии и прекрасного, в основе которых лежит мера. Только в соответствии с мерой созданный космос может быть благим, прекрасным и гармоничным. Основанием же гармонии является математика; она предстает как принцип, который лежит в основе мира и оформляет его, поэтому и астрономия строится у Платона как математическая наука. Для того чтобы подготовить натуры, способные усвоить астрономические знания, следует предварительно обучить их науке о самих числах, «но не о тех, что имеют предметное выражение, а вообще о зарождении [понятий] „чет“ и „нечет“ и о том значении, которое они имеют по отношению к природе вещей. Кто это усвоил, тот может перейти к тому, что носит весьма смешное имя геометрии»8. Людям дано созерцать божественную природу зримых вещей, но без указанных наук никто этого сделать не может. Таким образом, космос Платона сферичен, строится на основе принципов математической гармонии и постигается в рамках математики. Но на этом и исчерпывается общее у Платона с пифагорейцами.
Организация мира согласно принципам математической гармонии подчинена у Платона иной системе представлений. Не математическое видение мира лежит в основе мировоззрения Платона, основу его составляет переживание времени, преходящести, текучести бытия. Это лучше всех в Платоне понял Аристотель. В «Метафизике» Аристотель указывает, что в основе платоновского учения об идеях лежало гераклитовское учение об изменчивости чувственных вещей и стремление найти противовес этому вечно изменяющемуся потоку. Таким противовесом и явился мир вечно пребывающих идей, которые единственно могли стать предметом истинного знания. Аристотель прямо пишет, что к учению об идеях «пришли те, кто был убежден в истинности взглядов Гераклита, согласно которым все чувственно воспринимаемое постоянно течет; так что если есть знание и разумение чего-то, то помимо чувственно воспринимаемого должны существовать другие сущности (physeis), постоянно пребывающие, ибо о текучем знания не бывает»9.
Платон отказывается от идеи однородного космоса, каковым он был у пифагорейцев, четко разделяет две качественно различные области: небо – область божественного, единого, вечного и неизменного бытия, и землю – область преходящего, изменчивого и иного. Небо и его кругообращения, имеющие божественное происхождение, созданы для того, чтобы дать людям наглядное представление о вечности. В «Тимее» Платон пишет, что когда демиург усмотрел, что порожденное им движется и живет, он решил еще более уподобить творение образцу и, устрояя небо, «замыслил сотворить некое движущееся подобие вечности» и создал «для вечности, пребывающей в едином, вечный же образ, движущийся от числа к числу, который мы назвали временем»10. Таким образом, вечность является основным атрибутом божественного и проявляется в цикличности, в вечном и единообразном повторении движений светил и предстает людям как время.
Солнце, Луна и пять других светил, именуемых планетами, размещенные на семи орбитах, созданы для того, чтобы «определять и блюсти числа времени»11. «Таким образом и по таким причинам возникли ночь и день, этот круговорот единого наиразумнейшего обращения; месяц же [появляется] тогда, когда Луна, завершив свой оборот, нагоняет Солнце, а год – когда Солнце обходит свой круг… Вот как и ради чего рождены все звезды, которые блуждают по небу и снова возвращаются на свои пути, дабы [космос] как можно более уподобился совершенному и умопостигаемому живому существу, подражал его вечносущей природе»12.
Космос являет людям доказательство существования богов. В 10-й книге «Законов» Платон прямо пишет, что доказательством того, что боги существуют, является Земля, Солнце, звезды, вся вообще вселенная, весь этот «прекрасный распорядок времен, подразделение на годы и месяцы»13.
Из божественности космоса, которая проявляется в вечности и цикличности его кругообращений, в вечном и единообразном повторении, следует, что все светила могут двигаться только равномерно, кругообразно и в одном и том же направлении. Платон пишет в «Тимее», что «телу (космоса. – Авт.) из семи родов движений он (демиург. – Авт.) уделил соответствующий род, а именно тот, который ближе всего к уму и разумению. Поэтому он заставил его единообразно вращаться в одном и том же месте, в самом себе, совершая круг за кругом»14. Кроме того, в движении космоса «наблюдается стройный порядок, так как над светилами и прочими телами господствует все упорядочивающий ум»15. Поэтому, говорит Платон, «мнение о блуждании Луны, Солнца и остальных звезд неправильно. Дело обстоит как раз наоборот. Каждое из этих светил сохраняет один и тот же путь; оно совершает не много круговых движений, но лишь одно. Это только кажется, что оно движется во многих направлениях… Ведь бегуны – только люди», а здесь «речь идет о богах»16. Здесь текстуально зафиксирована аксиома кругового равномерного движения. Она формулируется как философский постулат, не имеющий прямого отношения к реально наблюдаемым движениям.
В подтверждение нашей точки зрения приводим мнение известного немецкого философа и историка науки Юргена Миттельштрасса, посвятившего специальное монографическое исследование истории принципа «спасения явлений». Ю. Миттельштрасс пишет: «то, что планеты движутся равномерно, до Евдокса не мог утверждать никто, так как это утверждение полностью противоречит наблюдениям. Платон подчеркивает эту аксиому еще до открытия Евдокса и убежден в ее правомерности, но для Платона она метафизически постулат и правомерна только в рамках его наднебесной астрономии. Платон никогда не выражал мысль, что явления соответствуют этой аксиоме»17.
Подчеркнем, что у Платона еще отсутствует принцип «спасения явлений» в той форме, в какой он реконструируется Дюгемом. У Платона присутствуют лишь две составляющие этого принципа – аксиома равномерного кругового движения небесных тел и различение между являющимся и истинным движением. Что же касается задачи воспроизвести видимость, видимое движение светил, то постановка такой задачи очевидно противоречит философии Платона. Задача «воспроизвести видимость», воссоединить явление и сущность не могла быть поставлена Платоном. Для него мир явлений – это мир не-сущего, мир неистинного бытия, это мир множественности, текучести. Платон стремится постичь вечно сущую природу космоса, а не подражающие ей явления. Поэтому Платон в принципе не может ставить задачу «соблюсти видимость» или «спасти явление».
Платон всегда во всех своих диалогах оставался прежде всего философом, и его астрономическая программа была лишь производным продуктом его метафизической космологии. Астрономия Платона, построенная строго математически, не является, тем не менее, наукой в современном или даже аристотелевском смысле слова. Астрономия у Платона – это, прежде всего, путь постижения божества и носит характер божественной педагогики. Задача астронома заключается в том, чтобы за внешними нерегулярностями движения планет постичь их божественную, вечносущую природу.
В «Государстве» Платон пишет об этом вполне недвусмысленно: «я… не могу считать, что взирать ввысь нашу душу заставляет какая-либо иная наука, кроме той, что изучает бытие и незримое. Глядит ли кто, разинув рот, вверх, или же, прищурившись, вниз, когда пытается с помощью ощущений что-либо распознать, все равно, утверждаю я, он никогда этого не постигнет… Эти узоры на небе, украшающие область видимого, надо признать самыми прекрасными и совершенными из подобного рода вещей, но все же они сильно уступают вещам истинным с их перемещениями друг относительно друга, происходящими с подлинной быстротой и медленностью, в истинном количестве и всевозможных истинных формах, причем перемещается все содержимое. Это постигается разумом и рассудком, но не зрением… Небесным узором надо пользоваться как пособием для изучения подлинного бытия, подобно тому, как если бы нам подвернулись чертежи Дедала или какого-нибудь иного мастера либо художника, отлично и старательно вычерченные. Кто сведущ в геометрии, тот, взглянув на них, нашел бы прекрасным их выполнение, но было бы смешно их всерьез рассматривать как источник истинного познания равенства, удвоения или каких-либо других отношений… Мы будем изучать астрономию так же, как геометрию, с применением общих положений, а то, что на небе, оставим в стороне, раз мы хотим действительно освоить астрономию»18.
Как видим, Платон не ставил задачу воссоединения явления и сущности, «спасения явлений». Задача воспроизведения видимости в качестве философски обоснованного методологического требования не могла возникнуть ранее Аристотеля, у которого мир явлений впервые становится областью действительно сущего.
В космологии Платона в текстуально зафиксированном виде мы находим также концепцию сфер, которая присутствует во всей математической астрономии, начиная с Анаксимандра. Платон считал, что движения планет являются результатом вращения материальных тел, заключенных друг в друге «как валы веретена Ананке». Разъясняет он это в «Государстве» следующим образом: «Устройство вала следующее: … в большой полый вал вставлен пригнанный к нему такой же вал, только поменьше, как вставляются ящики. Таким же образом и третий вал, и четвертый, и еще четыре. Всех валов восемь, они вложены один в другой, их края сверху имеют вид кругов на общей оси, так что снаружи они как бы образуют непрерывную поверхность единого вала, ось же эта прогнана насквозь через середину восьмого вала»19.
Подводя итог анализу платоновской астрономии, подчеркнем следующее. Во-первых, Платон не был создателем принципа «спасения явлений», как это приписывает ему Поль Дюгем. Влияние, оказанное им на дальнейшее развитие математической астрономии, было, скорее всего, ограниченно продуктивным, поскольку его астрономические взгляд были подчинены и производны от его метафизических представлений, в рамках которых явления и чувственный мир обладали второстепенным онтологическим статусом. Позицию Платона в астрономии можно рассматривать как известное отступление от рубежей, достигнутых пифагорейцами, пытавшимися воссоединить явления и сущность, спасти явления через аксиому кругового равномерного движения. Во- вторых, Платон намечает концепцию гомоцентрических сфер, получившую дальнейшее развитие у Евдокса, Каллиппа и Аристотеля, которая, несомненно, внесла свой вклад в античную космологию, однако порождала известные трудности для развития математической астрономии.
Концепция космоса как сферы или нескольких сфер была устойчивым и постоянно воспроизводимым элементом греческой астрономии. У Платона она изложена в мифологической форме в диалогах «Государство» и «Тимей», но, несмотря на форму изложения, эта концепция приобретает у него более четкий, жесткий и качественно другой характер, чем у его предшественников. Космос Платона не просто сферичен. Космос – это созданный по определенному проекту механизм, в котором число сфер жестко соответствует числу планет. Земля располагается в центре мира.
Это означало появление онтофизической гомоцентрической концепции строения мира, принципиальным образом отличной от математико-геометрической астрономии. Эта гомоцентрическая концепция свидетельствовала о зарождении в греческой астрономии физической теории, отличной от математических и натурфилософских построений. Вершиной этого развития, как мы покажем позже, явился Аристотель.
3
Shilling K. Weltgeshchichte der Philosophie. – B., 1964. – S. 216—217
4
Аристотель. Соч.: В 4 т. – М., 1976. – Т.1. 985 b25.
5
См. об этом: Рожанский И. Д. Развитие естествознания в эпоху античности. – С. 234—248
6
Duhem P. Le systeme du monde… – Р. 104—105.
7
Платон. Тимей. 34 a-b.
8
Платон. Законы. 900 c-d.
9
Аристотель. Метафизика. 1078 b 9—17.
10
Платон. Тимей. 37 d.
11
Там же. 38 с.
12
Там же. 39 с-е.
13
Платон. Законы. 886 а.
14
Платон. Тимей. 34 а.
15
Платон. Законы. 996 е.
16
Там же. 822 а.
17
Mittelstrass J. Die Rettung der Phanomene: Urspring und Geschichte eines antiken Forschungsprinzips. – B., 1962. – S. 155.
18
Платон. Государство. 529—530 с.
19
Там же. 529—530 с.