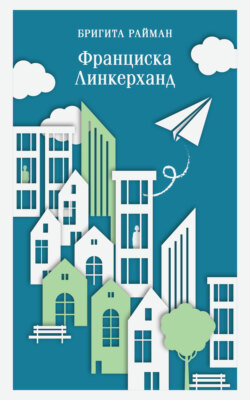Читать книгу Франциска Линкерханд - - Страница 4
Глава 3
ОглавлениеI get grasshoppers in may pillow,
Baby – huh,
I get crickets all in my meal…[5]
Где же твое плечо, Бен, самая сладостная в мире подушка… В моих туфлях живут сверчки, мама, они прячутся в каблуках… Джанго. Джанго. Как его звали на самом деле? Забыла. Мы звали его Джанго, Колдун, Цыган, Банджист. Друг Вильгельма, моя первая любовь, теперь всего-навсего «кто-то», и остальные тоже «кто-то»: фон Вердер, Зальфельд – знаменитость, профессор, с тремя десятками самых фантастических идей, которые понимают от силы десять человек во всем свете, ученый из детской книжки с картинками, вечно витающий в облаках, в двух левых ботинках, о да, Зальфельд, кое-что из него вышло, он избранник среди тысяч других, снискавших славу, а мы, все прочие, были векселем, который никогда не будет оплачен… Но у меня, Бен, у меня до сих пор в подушке живут кузнечики, и я не могу спать спокойно.
Джанго сумел устроиться, он мертв, он ходит по улицам, рассказывает своим ученикам о гамма-лучах, каждое утро надевает чистую рубашку, и все-таки он мертвец. Как-то раз я встретила его, мы не виделись сто лет, встретила кого-то, похожего на него, как чертеж на эскиз, а эскизы, любимый мой, всегда красивей и мужественней, они вольно блуждают в царстве фантазии, точно летние облака, точно стадо молодых животных, они – сны, в которых ты раскидываешь руки и летишь, а воздух несет тебя, словно морская вода… Мгновение, когда ты проводишь карандашом первую линию, тонкую, серо-черную, как потемневшее серебро, волнует больше, чем первый поцелуй мужчины, который, возможно, станет твоим возлюбленным, это еще колеблется между случайностью, пробой и всеми великими возможностями, а ты дрожишь от любопытства… Пикассо говорит, что иногда просто не может видеть незаписанные плоскости. Ты понимаешь это? Я уже понимаю. Я строю мысленно, а иной раз, когда вижу белые газетные поля или картонный кружок в пивной, ах, да к черту все! Мы же не хотели больше говорить об этом…
Мертвец Джанго избрал для себя золотую середину, и никакой сверчок уже не залезет в его солидные югославские ботинки. Кто украл наши сны? Где старые друзья? Лицо за окном автомобиля, мимо, мимо, рука на поддельном мраморе столика в кафе, синяя видовая открытка из Майами от Как-же-все-таки-его-зовут или газетная заметка о д-ре X, ленивая собака, смотри, пожалуйста, он уже добыл себе звание доктора и даже треплется на разных конгрессах о возбудителе рака, которого он все никак не найдет, a Y женился на Z, она на классной фотографии крайняя слева, с косичками, подвязанными баранкой, он влюбился в нее на уроке танцев, как хорошо, что такое еще бывает… Вот они стоят, мои одноклассницы, причесанные тщательно, волосок к волоску, в старомодных юбках ниже колен, в грубых сандалиях, и, как дети, ждут, когда же из фотоаппарата вылетит птичка, они смотрят на тебя пожелтевшими фотобумажными глазами, канувшие в прошлое, выпавшие из твоей жизни.
Даже Вильгельм все больше отдаляется от меня… или я от него… но дело тут не в двух тысячах километров между нами, ведь иногда, Бен, я это чувствую, иногда и ты бываешь далеко от меня, и я хотела бы протянуть к тебе руки, удержать тебя, просить: возьми меня с собой… а ты лежишь рядом, и я могу до тебя дотронуться, нет, не до тебя, только до твоего образа, доступного моему взгляду… Когда я впервые увидела тебя, я чуть не закричала: Вильгельм, Вильгельм, чуть не бросилась тебе на шею. Но ведь он рыжий, огненно-рыжий, и раньше, когда у него была пышная шевелюра, он был похож на пылающий терновый куст, из которого бог воззвал к Моисею (ты ведь знаешь, что Моисей заикался? Заика с перебитым носом) …
Покуда ей не исполнилось семнадцать лет, Вильгельм обрек свою сестренку на бытие личинки в коконе. Он жил своей собственной жизнью, отмежевавшись от жизни семьи, скорее как пансионер, который, поев, бросает на стол салфетку и исчезает до следующего обеда. Он изучал ядерную физику, был загребным на канадском каноэ (я видела его несколько раз на регатах: здоровенный детина, летящий над порогами Миссисипи в облаке брызг и криков), водил небесно-голубой «Дикси», грохотавший, как молотилка, и одевался щеголевато, по последней моде.
У него была светлая голова, он мог играючи сделать то, над чем другие мучились, ему все доставалось без труда: и девушки, и блестящие отметки по общественным наукам. Я считала, что он не заслуживал ни девушек, ни отметок, и сказала:
– Ты циник.
Я тогда не была знакома еще ни с одним циником. Он положил руку мне на голову и ответил:
– Награды дают не за убеждения, пуританочка!
На уроке истории мы читали «Коммунистический Манифест», я целый день ходила сама не своя, потрясенная пророческой силой этой программы, пафосом ее фраз, навеки запавших мне в душу: Призрак бродит по Европе… Мне виделись эти слова выбитыми на каменных плитах, и, сказать по правде, Бен, тогда у меня все немного путалось в голове: Моисей и бородатый Маркс, манифест и скрижали горы Синай, потому что я воспитывалась в страхе божьем, хорошо ориентировалась в Ветхом завете, два года назад весьма скептически приняла причастие, ничуть не взволнованная таинством и разочарованная пресным вкусом облатки, потом начиталась Фейербаха и наконец отказалась от религии, не без угрызений совести перед бедным старым господом богом… правда, еще не окончательно, это произойдет позже, в дымно-бурой полутьме деревенской церкви, двери которой всегда открыты для сирых и страждущих, где негасимая лампада рубиново-красным светящимся жуком покачивалась в нише, в этой странно осязаемой тишине, прохладно и немного затхло оседавшей на лицо и руки, – в тишине, простеганной тиканьем часов с маятником в боковом приделе, между хоругвями из толстого шелка, пестрыми гипсовыми фигурками святых и завернутыми в бумажные кружева букетами увядших цветов, источавших острый запах осени…
Вильгельм, услышав, что она громко разговаривает в своей комнате, взял в руки свернутую красную тетрадку и сказал:
– Раньше ты учила наизусть монологи Гретхен. Ты населила свой мир иллюзиями, к сожалению, и политическими тоже. Философия, дочь моя, стала самой бесполезной из всех духовных дисциплин… Классовый вопрос – это же прошлогодний снег. – Неужто ему доставляло удовольствие сбивать ее с толку? – Я не знаю больше никаких классов! – крикнул он вдруг, нахмурил брови, покрутил воображаемый ус, и она уже была уверена, что он смеется над ней, покуда он не продолжил изменившимся голосом: – Для меня есть три категории людей: те, кто понимает квантовую механику, те, кто в состоянии ее понять, и все остальные.
Он считал Франциску потешной, как лисенок, и настолько незначительной, что никогда не обращал внимания на эту единственную свидетельницу его случайных приступов меланхолии. Он тогда сидел на лестнице, уставившись в одну точку на стене, в страшный таинственный знак, расшифровать который только ему было под силу. Он опять далеко, думала Франциска, видевшая лишь светло-серую стену и закрашенное окно, весеннюю ласточку над холмом и лесом, зеленеющие поля. Иногда он швырял о стену стаканы. Первый раз, когда Франциска увидела эти осколки, его сосредоточенное лицо, сонно-пьяные движения, она вскрикнула. Вильгельм приложил палец к губам.
– Не мешай, – прошептал он, – на меня опять нашло это.
Что это? – подумала Франциска. И бросилась прочь. В прихожей сидела Важная Старая Дама и курила.
– Бабушка, идем, он сошел с ума! – взвизгнула Франциска.
Бабушка улыбнулась, и за увядшими губами показались те самые роскошные зубы, что десятилетия назад вдохновляли доморощенных поэтов ее круга.
– Оставь ты мальчика в покое, – сказала она снисходительно, – он сейчас не в себе.
Она потушила сигарету о мозаичный столик в прихожей. Бабушка курила сигареты «Хаус Бергман» – вот что значит иметь родственников на Западе, да еще несколько земельных участков в Кёльне, в центре города, а цены на землю росли и росли до умопомрачения – и угощала его преподобие, молодого священника, дарившего ей духовное утешение, крепкой голландской сливовицей, но при этом всегда опережала его на несколько рюмок. Позор на ее седую голову, говорила фрау Линкерханд… Борьба за бабушкину нераскаивающуюся душу тянулась долго, и по средам Франциска благоговейно смотрела через замочную скважину на красивого, одетого в черное молодого человека, который не имел права жениться. Господи, до чего же он романтичен… Впрочем, этот бабушкин земляк был полон поистине ангельского терпенья, когда они слушали переложение «Карнавала», и бабушка, подпевая, заливалась слезами, она была готова хоть «на своих двоих» идти в родной Кёльн. Он также брал ее с собой за город, в обитель святого Якоба. Сейчас он ездит в громадной машине, вокруг которой на стоянке всегда собираются детишки – поглазеть, но тогда у него был ветхий «Форд», останавливавшийся на каждом взгорке, с заднего сиденья слезали дюжие монашки и, махая рукавами, как крыльями, толкали машину в гору вместе с его преподобием и бабушкой, а из-под покрывал блестели круглые томатно-красные лица…
– А что с ним? – спросила Франциска.
Бабушка сложила руки на золотом крестике, болтавшемся у нее на животе, и потупила живые, черные, лукавые татарские глаза.
– Его тоска гложет, дитя мое, – степенно отвечала она.
Следующим летом Франциска, уже семнадцатилетняя, опять увидела, как ее брат швыряет в стену стаканы, она испугалась, на нее пахнуло холодом от его печали, но она не ушла, а спокойно спросила немного погодя:
– А ты не мог бы расколотить эти мерзкие бокалы?
Вильгельм очнулся и увидел гибкую талию, чувственный рот и копну коричнево-медных волос.
– Ну, прощай, missing link, – сказал он. – Что вы сейчас проходите по математике?
– Сферическую тригонометрию, – ответила Франциска.
Он смотрел на нее задумчиво и ошарашенно.
– Я буду тебе помогать, девочка. – Он положил руку ей на голову, как прежде, но это было лишь повторением забавного жеста, без прежней снисходительности, и, когда его пальцы зарылись в гущу волос, он ощутил потребность защищать ее.
Она теперь опять допускалась в его комнату, – комнату двадцать первого столетия, как объявил Вильгельм, у которого тогда был период отшельнического служения-чистой-науке, комната стерильная и целесообразная, свободная от пыльного барахла, создающего уют, и от избытка жизни, – пластмасса и математически правильно расставленная мебель. Франциска говорила:
– Тут сидишь как будто в учебнике геометрии.
Он сжег даже свою коллекцию пивных подставок и на желтых, точно воск, блестящих стенах терпел только портреты Эйнштейна и Отто Гана.
Он представил Франциску своим друзьям. Тощий блондин фон Вердер поцеловал ей руку, деликатно поцеловал воздух в предписанном миллиметре от ее крупной руки с коротко подстриженными ногтями. Другой свистнул сквозь зубы, похожий на цыгана парень, неряшливый, сильный, с горящими глазами, Джанго, он играл на скрипке, сочинял и пел под банджо религиозные баллады. Она была так неосторожна, что улыбнулась ему, и он по уши в нее влюбился, в ее губы, в ее улыбку простодушной и любопытной девочки.
Она все еще неловко чувствовала себя в чужой компании. Со своими сверстниками она обращалась высокомерно и снисходительно – желторотые юнцы, которые во время урока танцев наступают на ноги своим дамам и вместе с гибким, перетянутым в талии человеком во фраке разучивают поклоны, а лбы их блестят от пота и бриллиантина, юнцы, которые говорят только о мотоциклах, читают глупые журналы, и фантазия их не идет дальше оригинальной идеи – с помощью маленькой катапульты стрелять в классе бумажными шариками, а свою наглую доблесть, свое презрение закоренелых холостяков эти недоросли демонстрировали девчонкам, лишь когда целой ватагой шатались по школьному двору.
Друзья Вильгельма были мужчинами. Они маршировали в «последнем резерве», дети в болтающихся мундирах, слишком больших касках. Мать Джанго выбросилась из окна ванной комнаты с седьмого этажа во двор доходного дома, когда ей надо было идти в отправляющийся на восток эшелон. Зальфельд во французском лагере военнопленных ел траву и сдирал кору с деревьев, а теперь буквально помешался на еде, постоянно терзаемый неутолимым голодом, его карманы были набиты горбушками хлеба и недозрелыми яблоками, которые он подбирал у забора. Швандт дезертировал, попал в плен, был приговорен к смерти, своими ушами слышал ночные расстрелы, в первые майские дни на Эльбе был выпущен из тюрьмы, из черной сырой камеры, где еще солдаты Фридриха в пятом часу утра ожидали костяной барабанной дроби и небесного утешения. Наконец, фон Вердер, восемнадцати лет вернувшись с войны, нашел свой дом в развалинах, знаменитый дом на Лангенгассе, его пышно изукрашенный фронтон; венчающие элементы дверей со свирепыми зверями, с грудастой и толстоногой богиней охоты можно было найти в любом справочнике по немецкому зодчеству.
Франциска еще помнила тот сенсационный учебный год, когда вернулись в школу оставшиеся в живых старшеклассники. С ними в старую чопорную гимназию Августы-Виктории ворвался запах мятежа, «Лаки страйк»[6] и пропотелых мундиров. Они презирали учителей, издевались над швейцаром, на все наплевав, курили на лестницах, а мелюзга из четвертого класса восхищенно слушала шум в благопристойных гимназических коридорах, четкие ритмы «Каледонии» и насмешливую песню «Народ, к оружию!» на мотив «In the mood» Миллера. Во время выпускных экзаменов они подняли черное знамя анархии и пьяными явились на устный – проба сил, желание принудить учителей осознать свою вину. Один учитель был изгнан – жертва, которую беспомощный педсовет обрек на заклание на шатком алтаре респектабельности.
Они были мужчинами. Они очаровали Франциску своими язвительными шутками, своим небрежным гениальничаньем, они были знающими и неверующими и говорили на языке медиков… они ненавидели затасканные лирические слова школьных дней: родина и героизм, народ и отечество, к черту брехню, хватит с нас, больше этому не бывать, твердили они с мазохистским ожесточением… Но теперь я думаю, Бен, что на самом деле все-таки каждый на них таскал за собой сундук, полный всякого тряпья – моральных оценок, политического лиризма и разных новых жупелов. У них были свои боги, но молились они одному – Планку, и даже мой Рыжик называл все разговоры об отечестве мистической чепухой (потому что он тоже шагал в строю под знаменем – за хлеб и свободу, шагом марш, запевай, раз-два, и стук сапог по испуганной мостовой: святое отечество, мы идем…), даже Вильгельм был способен громким голосом провозглашать банальности, вроде: отечество физика – весь мир…
… В тот вечер, вспоминала Франциска, они, крича, спорили о деле Оппенгеймера, а Зальфельд слушал их вполуха и время от времени, погруженный в свои возвышенные размышления, ронял какую-нибудь незначащую фразу… итак, Зальфельд, развалясь в кресле и беспрерывно жуя, сказал: «Right or wrong, my country»[7], а Вильгельм на него напустился – неужто этот процесс еще не убедил его в том, что именно на них, на молодежь, ложится бремя будущей ответственности? – и, постучав по выпуклому лбу своего доброго и равнодушного друга, крикнул: «Да здравствует беззаконие!» и «Ты сделаешь карьеру, идиот с вывихнутыми мозгами!», хотя знал, что тот никогда не помышлял о карьере и номенклатуре.
– Туча нависла над всей планетой. Оппенгеймер обязан был отказаться. Уже сегодня… – обратился Вильгельм к сестре, – уже сегодня достаточно нескольких десятков бомб, чтобы сделать землю необитаемой. Существуют супербомбы с силой взрыва в пятнадцать мегатонн, что соответствует пятнадцати миллионам однотонных бомб, если тебе это что-нибудь говорит.
Она покачала головой. Остальные скучливо прислушивались. Они знали счет и миллионам тонн, и миллионам убитых.
– Посчитаем иначе, – сухо сказал Вильгельм. – Тринитротолуол известен тебе из химии… Нет? Чему, черт побери, вас учат? Опускают красную лакмусовую бумажку в кислоту… Итак, ТНТ, чтобы ты могла схватить своим воробьиным умишком, довольно дешевая взрывчатка, и одного фунта достаточно, чтобы ты, голубка моя, вместе со всем семейством взлетела на воздух… Вторая мировая война обошлась почти в три миллиона тонн ТНТ. Сегодня мощность такой бомбы составляет пятнадцать миллионов тонн тротила. Одно нажатие кнопки, видишь… – Он схватил ее руку и легонько ткнул указательным пальцем в запястье: иногда он пытался представить себе руку того пилота, этот драгоценнейший, мудреный аппарат из костей, сухожилий и кожи. – Помнишь бомбоубежище? Ты не забыла ту ночь, когда разбомбили Старый рынок? Каких-то жалких две тысячи фунтов для ратуши, четыре тысячи – для Святой Анны. Поразмысли-ка над этим.
… Я представляю себе то существо, Бен, и по ночам просыпаюсь, мокрая от пота, от жутких снов, в которых его дитя смотрит на меня циклопическим глазом в чудовищно распухшем лбу… Чем он заслужил такое испытание? Что вы делаете за этими толстыми бетонными стенами? – спросила я, а он усмехнулся и ответил: мы творим волшебство, цветочек мой, мы вешаем солнца над Северным полюсом, чтобы обогреть все ваши дома несколькими каплями воды… В то время, Бен, он казался мне могучим, как Иисус Навин, – сегодня я иногда вижу его крохотным, беспомощно скрюченным между стальных щитов, из которых вырываются красные молнии и пронзают его насквозь, и тогда сердце бьется у меня в горле и я думаю: мой бедный маленький брат, милый, милый Рыжик…
– Но это только цифры, – сказал Вильгельм, – через десять лет каждый глоток молока, которое ты пьешь, и каждая капля дождя, падающая на твою красивую, гладкую кожу, будет отравлена.
Франциска схватилась за щеку.
– Оставь ее наконец в покое, – нетерпеливо сказал Джанго. – Ничего изменить ты все равно не сможешь, до бога высоко, до Лос-Аламоса далеко, а мы ведь еще живы.
Зальфельд вежливо и рассеянно заметил, что он верит в силу разума…
– Закон природы – разум! – насмешливо отвечал Вильгельм. – Идиот несчастный! Скоро ты опять поверишь в бога и в его воинство: «Добро, которое господь сделает нам…»
И так вечер за вечером.
Франциска видела на стене дома в Хиросиме сожженную чужим солнцем, обращенную в камень тень человека, чье сердце, угаснув, испарилось, растаяло в воздухе: я вдыхаю его, с ужасом представляла себе она, когда не думала об уроках, о Жераре Филипе, о глазах Джанго и о новой моде, все больше укорачивающей юбки.
Летними ночами они с Джанго бегали по улицам, стены домов еще дышали дневным жаром, небо на западе было зеленым, а в садах безрассудно расточали себя кусты роз. Они презирали медленные прогулки – бок о бок – любовных парочек, их глупые взгляды и томный шепот, наполнявший парк, как хлопанье крыльев большой темной птицы. Они носились по улицам и лепили из твердой синевы вечернего воздуха купола и башни своего будущего, они были безумно талантливы и безумно честолюбивы, они затыкали за пояс Хиндемита и Ле Корбюзье и, наконец, неузнанные любимцы богов, спускались на землю в кондитерской, где уписывали творожный торт и водянистое ванильное мороженое.
Джанго избегал знаменитого кафе со светящимися розовым цветом занавесками в угловом доме, этажи которого пустыми глазницами окон пялились на Старый рынок и на устрашающее изящество поверженных колонн и арок, на почернелый крест церкви Святой Анны, словно рука, в немой мольбе подъятая к небу. За розовыми окнами раздавались мелодии Легара. Раньше это кафе славилось не меньше, чем кафе Кранцлера в Берлине. И теперь старые дамы, словно всю войну пересидевшие в холодильнике, опять были тут, профессорские вдовы и обнищавшие баронессы в причудливых шляпах, с гранатовыми брошками на высохшей груди.
– Склеп плерезов, – сказала Франциска, прижимаясь носом к стеклу. – Давай зайдем внутрь, хоть посмеемся над мумиями, которые едят пирожные со сливочным кремом.
Джанго, босой, в штанах, завернутых над худыми загорелыми икрами, нетерпеливо приплясывал на мостовой.
– Очень мне надо заводиться из-за пережитков капитализма, – сказал он, выворачивая пустые карманы. – Пойдем лучше к «Пиа Мариа», у меня завалялось несколько марок, можно слопать по пирожку с рыбой.
В следующий раз, проходя мимо углового кафе, что красным пятном губной помады светилось на темном лице Старого рынка, Джанго сказал:
– Раньше у них на дверях висела табличка «Евреям вход воспрещен».
Он никогда не говорил о своей матери, ее лица он уже не помнил, помнил только окно, занавески, летний цвет мальвы, открытое окно в узкий двор и большую черную сумку. Когда его мать шла по улицам, она прижимала эту сумку к груди, чтобы не видна была звезда.
Однажды сентябрьским вечером в саду Вильгельм и Джанго нарвали яблок и крупных золотистых слив, обрызганных капельками смолы, и теперь отдыхали с набитыми животами, сытые, усталые, пьяные от липкого сока и осеннего запаха деревьев. На садовом столе горела керосиновая лампа, мошкара вилась вокруг пузатого стекла. Джанго, молчаливый и недовольный, лежал в плетеном кресле, перевесив ноги через подлокотник, распахнутая на груди рубашка была покрыта пятнами смолы и обсыпана древесной трухой.
Потом пришел Зальфельд. Франциска принесла большую корзину яблок и слив, поставила ее у ног Зальфельда. Он не поблагодарил ее, а рассеянно и невнятно сказал, вонзая зубы в яблоко:
– Это не имеет значения, Джанго, не волнуйся.
Франциска сидела в траве, и молочный свет, струящийся сквозь стеклянный колпак, падал на ее руки, на кирпично-красную юбку, на округлость плеча в полосатой сине-белой тельняшке. Джанго опустил глаза и, увидев, как она пальцами босой ноги срывает стебельки травы, впервые почувствовал, что его подружка слишком еще молода, беззаботный пестрый зверек, и он ненавидел ее за свои собственные упущения, за ее неведение послушной дочки и за то, что она проронит по нем несколько слезинок и будет с другими бегать по синим улицам. Своим друзьям (друзья, как же; друзья, такие же надежные, как эта садовая идиллия, тихий вечер, яблоня, нежный свет лампы; Вильгельм, меланхолик, денди с хронически нечистой совестью, буржуа, севший между двух стульев, и Зальфельд, чувствительный, как логарифмическая линейка, вундеркинд, если успеет, заткнет за пояс де Бройля, гений, но для знающих его – проходимец с холодным, как лед, сердцем), своим друзьям он повторил то же, что весь вечер говорил себе:
– Готов поставить голову против старой шляпы, что на сей раз я повержен, казнен… по всем нормам демократии.
Вильгельм успокаивающе кивнул головой, подмигнул – печальный клоун с красными глазами, погоди, только не при малышке… вообще, ничего еще не решено…
– Ты забыл Цабеля? Я – нет, – сказал Джанго. – Голосование было всего лишь фарсом, и ты это знал, и я знал, и все академическое стадо – тоже. О’кей. А мы голосовали? Я – да.
Франциска закрыла ноги подолом.
– Встань, Франци, уже выпала роса, – сказал Вильгельм, – трава совсем мокрая.
– Ничуть она не мокрая, – отвечала Франциска угрюмо.
Зальфельд, разумеется, сразу сказал «нет», победитель де Бройля, «нет», порывшись в корзине, он надкусил яблоко, чавкнул, проглотил, нет, он не откажется голосовать против Джанго, одним голосом больше или меньше, это значения не имеет. Вильгельм взглянул на Франциску, она встала.
– Пойди в дом и принеси свои наброски, – сказал он, – Джанго умирает от любопытства.
Она ушла, покорно… Как будто я не знала, что у цыгана есть другие заботы, помимо линкерхандовского Cite Radieuse[8]. Джанго, с его талантом, так оскандалиться… сумасшедший парень, горлодер, наивный или пройдошистый, кто знает… последний год, во время праздника по поводу исторического события, – какого-то очередного, кто их все упомнит, мы живем в великие времена – газеты каждую неделю сообщают о поворотном моменте в истории, – во время праздника в большой аудитории, когда выбирали почетный президиум, – великий Сталин, великий Мао Цзэдун – Джанго встал и предложил избрать великого Людвига ван Бетховена. Вильгельм от восторга свалился со стула. Three cheers for mr. Beethoven[9]. Джанго с улыбкой, исполненной кроткой глупости… Он хоть и был хитер, но неосторожен, как другие, те, что аплодировали любой чепухе и никогда не болтали лишнего, нет, Джанго мог себе кое-что позволить, во всяком случае, больше, чем мой брат, подозрительный уже из-за своего происхождения, сын эксплуататора, классово чуждый, если не классово враждебный элемент…
Джанго был фигурой из ряда вон выходящей, жертвой, к нему все относились снисходительно, даже с нежностью, от которой его воротило. Академический благотворительный базар, говорил он, в пользу бедного еврейского сиротки… Он носил свое прошлое как амулет, даже из потасовки в студенческом кабаре он вышел с синяком под глазом, с настоящим фингалом, потому что у выхода со сцены получилась свалка после первого и последнего представления, освистанного клакерами, навлекшего хорошо организованное народное негодование. Эти юнцы стали слишком дерзкими… и Джанго оказался в самом центре этой неразберихи со своими насмешливыми песнями из сточных канав, из грязных низин декаданса.
Несколько студентов стали экс-студентами, один сбежал на Запад (два года назад я видела в Берлине на афишном столбе его имя, он играл на тенор-саксофоне в знаменитом джаз-квартете), а Джанго получил строгий выговор. Ладно, я в курсе дела, и Вильгельм не должен был отсылать меня, как раньше отсылал отец, когда слушал Лондон. Не так уже я глупа. Бедный мальчик. Ему стыдно…
Когда она вернулась, все трое молчали, как будто только что, услышав шорох ее шагов по траве, прекратили разговор, а Джанго приветствовал свою юную подругу взволнованной улыбкой. Встав позади него, она отдала ему картон, пустой белый лист… в нижнем правом углу он увидел наспех нацарапанную строчку, стих из баллады о Фрэнки и Джонни… любящие, видит бог, знали толк в любви: «Sworn to be true to each other, just as the stars above…»[10] Она наклонилась над спинкой кресла, и ее грудь в матросской тельняшке коснулась плеча Джанго. Ои вздрогнул. Она подняла глаза и встретила взгляд брата, его лицо внезапно оцепенело от нервного напряжения, и он сказал:
– Сейчас же ступай спать, Франци! – Голос его дрожал от смущения и ревности.
– Я тебя провожу, – сказал Джанго, холодно и вызывающе взглянув на своего друга.
Позже Вильгельм зашел в комнату сестры. В углу красовались фотографии Жерара Филипа и Питера ван Эйка. Повсюду валялись книги, из которых торчали обрывки газет, карандаши и шпильки – Франциска читала беспорядочно, то из одной, то из другой книги, а стены были увешаны картинами, которые Вильгельм – до чего ж это противно! – находил скучными, хотя и достойными преклонения: Сикстинская мадонна, Дама с горностаем, Тицианова рыжеволосая «La Bella», Мона Лиза – ее сытая улыбка раздражала Вильгельма – и мадонна Фра Филиппе Липпи на византийском золотом фоне. Комната ужасов, говорил Вильгельм, ненавидевший церкви и музеи.
Франциска лежала на кровати все еще в кирпично-красной юбке и полосатой тельняшке.
– Ну? – сказал Вильгельм.
Она села. Сквозь тонкую материю он мог бы пересчитать все ребра, все мускулы ее спины. Вильгельм прислонился к двери, скрестил ноги и закурил. Его сестра холодно произнесла:
– Можешь передать своему другу, что ему незачем больше сюда ходить.
Вильгельм выпустил дым в ее сторону и радостно спросил:
– Чем ты недовольна?
– Он меня лапал.
Вильгельм засмеялся.
– Ты его здорово распаляла, малышка.
– О, я же не нарочно, – быстро возразила она, и вправду, она вовсе не нарочно наклонилась над плечом Джанго, во всяком случае, она не имела в виду ничего, кроме того, что хотела ему сказать строчкой из той песни, а ее романтическое обещание быть «верной, как звезды там, вверху» было так же благонравно и так же ни к чему не обязывало, как и вся ее школьная Любовь, от грубости физического прикосновения спасающаяся бегством к высокомерной чистоте. Но в то же мгновение взгляд ее упал на напряженное лицо Вильгельма, она ощутила всю соблазнительность своего тела и на секунду опьянела от сознания своей власти…
– Я не нарочно, – повторила она слабо, и на лице ее отразился неподдельный ужас, словно она опять стряхивала с себя назойливую руку.
– Так как твоя добрая мать ничего тебе не говорит… Я имею в виду не твой вкус и не костюм, который наверняка имел бы громадный успех на острове Бали… Ты уже не ребенок, Франци, и не пошлешь же ты нашего бедного друга ко всем чертям только потому, что он увидел в тебе что-то, кроме возвышенной души… Ты ведь под платьем совсем голая, и видно все… все, – сказал он, повысив голос. – Ручаюсь, что ты не носишь лифчика.
Она опустила голову, пряча высокомерную улыбку.
– Но я же могу себе это позволить, правда?
– О, что касается этого… – пробормотал Вильгельм, встревоженный ее прямотой, и спросил себя, слишком невинной или слишком продувной была его младшая сестра.
Она опять откинулась на подушки и вздохнула:
– Так начинается падение… пояс, лифчик и все это оборудование… Вильгельм, ты даже не представляешь себе, как я это ненавижу. Скоро мне понадобятся корсет и накладные волосы, и вставная челюсть, и, наконец, резиновые чулки от расширения вен… Женщина за сорок – существо среднего рода. Почему мы должны стареть, Вильгельм? У меня уже морщинки в углах глаз, видишь?
– У тебя кожа, как шоколад со сливками, и ты здорово красивая для того, кто что-то смыслит в шоколаде со сливками. – Он подошел к окну и выбросил сигарету. Перегнувшись через подоконник, подставил лицо тихому влажному ветру, пахнущему прелью, увядшими астрами и перезрелыми грушами, которые мягко шмякались в траву. Согнув руку, Франциска влюбленно водила пальцем по голубым ручейкам вен, проступавших под смуглой кожей на сгибе локтя.
– А раньше мне хотелось стать мальчишкой, – изумленно проговорила она.
Вильгельм обернулся.
– Это ты еще успеешь. Небольшая производственная авария в гормональном хозяйстве… – Он подсел к ней и решительно произнес: – Послушай, Франци, все это не так уж важно…
В плоской глубине его глаз она различила тень прежней тоски и, обвив руками шею брата, притянула его голову к себе.
– Ты знаешь, что ты фантастический урод? – Она с улыбкой смотрела ему в глаза. – Ты никогда мне не рассказывал, кто тебе разбил нос.
– Я его простил, – ответил Вильгельм, – он оказался резвее меня.
Его лицо просветлело, и Франциска, хитро вызвавшая приятное ему воспоминание, сказала:
– Странная у тебя манера спорить.
– Небольшое расхождение во взглядах с медиками. По субботам, после последней лекции, мы выстраивались у лестницы и спрашивали каждого спускающегося: физик или медик? Обычный вопрос, мы знали своих клиентов. Физиков пропускали, врачам давали по морде. Мы работали быстро и четко, мы были тем испытанием, которое небеса пунктуально посылали врачам каждую субботу… Пока однажды Его Сиятельство не спустился по лестнице с самой вызывающей рожей на свете… Что ж, храни его Господь, он был шустрым парнем. Надеюсь, тем не менее, сейчас он служит сельским врачом где-нибудь между Анкламом и Путбусом…
Ночью она постучала в дверь Вильгельма, не услышав ответа, проскользнула в комнату и пошла на красную светящуюся точку – горящую сигарету.
– Вильгельм, – прошептала она, – Вильгельм, ты же не спишь.
Его голова на подушке шевельнулась. Франциска присела на край кровати, высоко подтянув колени.
– Что ты мне хотел сказать, Вильгельм? Что-то важное?
Но момент откровенности был упущен, он устал от самобичевания и ответил ей:
– То да се. Например… что ты можешь по вечерам смотреться в зеркало и тебе не хочется плюнуть в свое отражение…
Он затянулся сигаретой, и Франциска увидела его лицо, перебитый нос, тяжелые, всегда красноватые веки, прямые брови, сходившиеся над переносицей и придававшие его лицу болезненно-напряженное выражение.
– Иногда ты похож на одинокую старую гориллу… У тебя много было девушек?
Он открыл глаза. Ее белая ночная рубашка мерцала в полутьме, смешно и трогательно выглядела она в этой детской рубашонке, застывшими складками спадавшей до щиколоток, с рюшкой вокруг шеи.
– Много – понятие относительное, – отвечал он уклончиво.
– Может быть, три?
Он рассмеялся.
– Ну… да.
– А может, шесть?
– Оставь, Франци!
Немного погодя она снова начала:
– Знаешь, что очень странно?
Вильгельм подвинулся, она сунула ноги под его одеяло, и он тщательно их укутал. От удовольствия она даже вздохнула. Вильгельм терпеливо спросил:
– Что же, скажи на милость, ты находишь таким странным?
– Что у нас одинаковый череп. – Она улеглась поперек его груди, уткнулась локтем в шею и с любопытством разглядывала его лицо, челюсти, высокие скулы и глазницы. – До чего ж у тебя потешная голова, наверно, ты будешь похож на того несчастного неандертальца, которого мы недавно навещали в музее… Помнишь, как я боялась «господина Лемана», того, что стоял у Петерсона в библиотеке? Ты называл его «Йорик»… – Она тихонько рассмеялась. – А помнишь, как ты его нарядил, чтоб он хоть чуть-чуть по-людски выглядел? – Она прислонилась к его согнутым коленям. – Сегодня вечером, – задумчиво продолжала она, – в темноте я ощупывала свое лицо и все узнавала вновь, ну, ты сам знаешь… и вдруг мне стало так жутко, как будто кто-то заглянул через мое плечо… нет, даже не заглянул, он просто был рядом со мной, он был еще ближе, так близко, что мне казалось – он дышит моим ртом…
– О ком ты говоришь? – сердито воскликнул Вильгельм.
– Зажги свет, Вильгельм!
Он нажал кнопку на раме кровати, и механизм включил софит над изголовьем, лампочку в книжном шкафу и радио. Франциска смотрела на него широко раскрытыми глазами.
– Ах, Вильгельм, почему мы должны умереть?
Диктор Би-би-си из Лондона пожелал своим слушателям спокойной ночи.
– Смирно, – скомандовал Вильгельм, когда раздался британский национальный гимн. Он крутил ручку приемника в поисках музыки. – Ты невозможная особа. Принимаешь ночных визитеров, господина Лемана, или Йорика, или как его еще там зовут, вместо того чтобы подумать, как тебе следует жить.
– Но я ведь это и так знаю, – поспешно отвечала она с той самоуверенностью, которая очень забавляла Вильгельма и в то же время будила в нем зависть.
Внезапно он вспомнил, как однажды июльским утром, стоя у окна, провожал ее взглядом: небо было еще бледным, холодным и напоминало свежий вкус желтосливника и снежную синеву чистой, расстеленной на лугу простыни и еще что-то такое, что он знал только по книгам и называл «деревенским утром», а его сестра в белых полотняных брюках и белой рубашке навыпуск показалась ему такой же холодной, чистой, беспечной, как это утро. Весь ее дорожный багаж состоял из висевшей на плече пляжной сумки, которая при каждом шаге била ее по ноге; Франциска шла быстро и неловко, ее деревянные сандалии стучали по мостовой тихой улицы, где на влажных кустах сирени блестели первые лучи солнца, а в конце улицы прыгали и махали руками одетые в белое фигурки… Сегодня, задним числом, Вильгельм усмотрел в своих тогдашних ощущениях горькое желание быть с ними, быть одной из этих белых фигурок, быть семнадцатилетним, без всяких страхов плыть на моторке старшего брата вниз по Эльбе, носиться по озерам между тихими лесистыми берегами. Когда я был в ее возрасте… Он мысленно употребил эту формулу, всегда раздражавшую его в устах старших. Почему-то больше всего взволновал его быстрый деревянный стук сандалий; грубые деревянные подошвы, которые в его время носили все – атрибут всеобщей одинаковой нищеты, – стали нынче модным предметом с кокетливыми пестрыми ремешками или узлом между пальцев.
– Счастливая юность! – воскликнул он, разражаясь сердитым смехом. – Ваша несложность вызывает зависть, у вас уже в школьном портфеле лежит план целой жизни, вы доверчивы и ненасытны – гоп-ля, мы живем!
– Ну, не совсем так, – сказала Франциска. – Только не говори со мной как ветеран и не кури так много. – Она задула спичку, которую он поднес к новой сигарете. – Ты всего на восемь лет старше меня.
– Это целая вечность, дитя мое, почти что время от русской революции до «окончательной победы» Колченогого… У нас аллергия к известным вещам… Когда ты впервые появилась в романтической синей блузе – твой исключительный такт заставил тебя выйти в этом костюме к обеду, на глазах твоей милой мамы, – я бы с удовольствием тебя отколошматил. Погоны… Я не в состоянии больше видеть никакой формы… – Немного погодя он продолжил уже спокойнее: – Чтобы ты ясно себе представляла… Я хочу тебе сказать… почему я убеждал твою милую маму, что ты выйдешь из лодки своих друзей такой же невинной девицей, какой села в нее десять дней назад… Потому, что вы чертовски порядочные и наивные, и еще потому, что у вас много времени, слышишь? У вас есть время, и вы это сами знаете, время для любви и для школы и… для всего. – Он все-таки закурил, и Франциска увидела, что у него дрожат руки. – Когда я был в твоем благословенном возрасте, – начал он, запнулся и нарочито грубо свернул разговор: – Мы потребляли девиц из Союза немецких девушек, которым было уже не до того. Они истерически боялись русских, а моя первая любовь была невинна, как старый фельдфебель санитарной службы.
– Почему ты меня в этом упрекаешь?
– Ни в чем я тебя не упрекаю, дурища. – Он торопливо курил, держа сигарету, как солдат или лесоруб, большим и указательным пальцами, тлеющим концом внутрь. Ему хотелось теперь побыть одному, и он громко зевнул: – Женщина, довольно! Если ты мне задашь еще хоть один из твоих идиотских вопросов, я тебя убью.
– Только один, последний, – сказала Франциска. – Что вы сделали с Джанго?
– Мы? – закричал Вильгельм. – При чем здесь мы? – Хотя он ждал этого вопроса, ее тон задел его, и больно задел. – Я ничего не могу изменить, – отвечал он. – Его предостерегали, и беседовали с ним, и статья была в стенной газете, где ему и его джазистам приписывались чуть ли не грубые политические ошибки, начиная с преклонения перед западным образом жизни и кончая идеологической бесхребетностью. Мы не приняли это всерьез, во всяком случае, не очень всерьез… Неделю назад в студенческой столовой должен был состояться вечер джаза, его запретили, разразился скандал, барабанщика посадили под домашний арест. Вчера они вызвали Джанго. Он знал уже все вариации на тему: нам-незачем-плясать-под-западную-дудку, ему было скучно, и, насколько я его знаю, он скучал так явственно, что в протокол, несомненно, будет занесено его провокационное поведение. Он музыкант… он абсолютно не понимает, за что он должен нести ответственность… или поймет это, лишь когда они начнут клеить ему космополитизм и зазнайство. Наконец один из них упомянул музыку негров, совсем зеленый, непосредственный такой парнишка из студенческого деканата, который ничего при этом не думал… Джанго клялся, что слышал «музыка ниггеров», он совсем потерял голову и крикнул: «Неужто мы опять до этого докатились?»
Франциска скрестила руки на его коленях и уткнулась в них подбородком. Вильгельм представил себе, как она, вот так же полуоткрыв рот, делает уроки за своим столом, и пожалел, что вовремя не отослал ее, как тогда, в саду, когда он исключил сестру из круга взрослых вместе с ее детской математикой, все делившей на справедливость и несправедливость, на добро и зло.
Франциска молчала и не шевелилась, а Вильгельм видел под лохматой шевелюрой только кусочек ее щеки и желто-коричневый крапчатый глаз, который, немного кося, пристально глядел на него.
– Я тебя умоляю, избавь меня от комментариев, – сказал он, – конечно, наш друг многого не приемлет… Будь добра, не играй у меня на нервах, ладно? Иногда ты ведешь себя как полоумная. Я… я всегда забочусь об объективности… Пытаюсь поставить себя на место тех людей, которые верят или говорят, что верят, будто Чарли Паркер – агент мирового империализма…
– Заткнись ты, ради бога, – сказала Франциска. Высвободив ноги из-под одеяла, она поднялась. Со смущенной улыбкой он протянул руку и схватил ее за волосы. – Дитя мое, если ты сделаешься поручителем за ближнего твоего, то ты связана речью уст твоих и заключена в темницу словами уст твоих… Спасайся, как серна от руки охотника и как птица от руки птицелова… Это, царица Савская, послание от благонамеренного друга твоего Соломона.
– Что он будет делать?
– Кто? Джанго?.. Завтра попросит исключить его из списка студентов. Не станет дожидаться нашего решения.
– Здорово же тебе повезло, – холодно сказала Франциска…
В этот момент я презирала его, лицемера и труса, не пожелавшего вступиться за друга. Я бы предпочла благородную смерть… В семнадцать лет ты строгий судья, приговоры твои суровы и зиждятся на незыблемых принципах; сама еще не сдавшая экзамена, я экзаменовала брата… Я гордилась своим чувством справедливости и чуть не лопалась от высокомерия: я никогда не лгала, а значит, и никто другой не смел унизиться до лжи, я ни на кого не доносила и, с тех пор как у нас в школе стал проводиться «час критики и самокритики», с рвением флагелланта камня на камне не оставляла от своей совести. Ах, что это была за справедливость, три этажа над истиной, напрасная и нетерпимая, с моральными мерками вымышленного мира, страны солнца…
Вильгельм сказал поспешно:
– Он поедет в деревню, отбудет год и вернется, чтобы учиться дальше…
– Но я ведь тогда уже кончу школу… – пробормотала она.
Вильгельм прижал к своему плечу ее мокрое лицо.
– Ну-ну, – шептал он, – подумаешь, год! И год пролетит быстро, вы сможете переписываться, он же не умер…
Джанго уехал из города. Он работал на МТС в Тюрингии, по субботним вечерам играл на танцах в доме культуры и, казалось, был доволен. В первые месяцы они писали друг другу длинные, бесконечные письма, но общие воспоминания иссякли, письма становились скупее и вежливее, а весной – Франциска готовилась к выпускным экзаменам, а Джанго работал на тракторе в дневную и ночную смены – переписка их прекратилась.
Во время пасхальных каникул Вильгельм взял сестру с собой на регату… но тут начинается новая глава, а мы не хотим так просто отпустить Вильгельма из старой – равнодушным, достойным презрения не меньше, чем Зальфельд, который коротко и ясно говорит «нет», когда Вильгельм еще изворачивается по мере сил, уславливается со своим другом о компромиссах, а на следующий день, наверно, опять швыряет стаканы в стену… Слово «компромисс» было для меня почти ругательством, покуда я ничего не смыслила в том, что возможно, а что невозможно. Ну а ему что же еще оставалось? Ничего, разве что проявить идиотский героизм и вместе с тобой пройти через огонь и воду…
Только позднее, в университете, сама сотни раз задетая за живое, униженная, я поняла, почему он не верил себе, почему чувствовал себя виноватым: так мы расплачивались за грехи отцов. Он должен был сомневаться в себе самом, если не хотел брать под сомнение общество в целом. Он пытался подчиниться установленному порядку – я говорю «подчиниться», а не «приспособиться», как зверь, что приспосабливается к лесу, например, хитро меняя защитную окраску, – не только во имя мира и спокойствия. Он старался, я тебя уверяю, но что он мог поделать с классовым инстинктом? Он читал «Капитал», потому что это был труд ученого, который основал, доказал, сделал логические выводы. Социализм был для него такой же точной наукой, как и физика, а потому догматы веры и не поддающиеся определению чувства ничего общего с наукой не имели… Итак, если ты хочешь знать мое мнение: у бедного Рыжика было слишком мало фантазии, он не видел, что тут есть немножко и фейерверка, и шаманства, ибо человеку не обойтись без Веры, Надежды, Любви, а самым точным исследованиям – без спекуляций и безумных идей. Каждая формула восходит к мечте.
Но это уже другая проблема… Мы оба восстали против нашего старого мира, а новый не принимал нас или принимал с оговорками. Что это было за время, Бен, мы были как одержимые, исполненные решимости, нетерпимые до жестокости, мы отрицали самих себя, слепые, глухие, мы на все говорили: да, да, да!.. Как мне это объяснить тебе, Бен из Берлина-Кройцберга, флигель, комната и кухня? В восемь лет ты продавал газеты под мостом городской железной дороги, и твоей наивысшей честолюбивой мечтой была средняя школа, потом, может быть, место мастера на заводе, а может, служащего, во всяком случае, что-то лучшее, чем у отца, и оклад вместо недельной зарплаты… Вильгельм в твоем возрасте видел перед собой начертанный семьей путь: гимназия, путешествия с целью образования, конечно, Греция и Италия, затем, согласно склонностям, медицина, или юриспруденция, или искусствоведение. Я – лицей, уроки музыки, несколько семестров в каком-нибудь учебном заведении, покуда не явится мужчина с розами и в шапокляке, который сможет в дальнейшем возглавить издательство.
Мы отреклись не только от устаревших, ставших сомнительными условий жизни, но и от их идеалов, от их позиций, ты понимаешь меня… Или мы хотели своим пылом убедить других?.. Но это всего лишь полуправда. Мы были ренегатами… Знаешь, что я сегодня думаю об этом? В то время мы должны были для самих себя подыскивать подтверждения того, что сделали правильный выбор, что перешли в лучший из всех миров – он должен был быть совершенным, ведь мы не смели заблуждаться.
Мы были «прочими»… Сдавая экзамены на аттестат зрелости, мы заполняли анкеты. Для графы «классовая принадлежность» имелось три буквы: Р, К и П – рабочие, крестьяне и прочие. Видишь, я и по сей день помню о таких пустяках, проклятая буква «п» больно задела меня. У кальвинистов, кажется, есть понятие «предестинация», предопределение, то есть ты можешь биться как угодно, хоть на голове стоять, избран ты или не избран, высшая власть давно за тебя решила, раньше, чем ты издал свой первый крик, – небо или преисподняя. Точно так же мы чувствовали себя – если уж буржуа, то на веки вечные. Я не могу тебе передать, как мы от этого страдали…
Ах нет, не происходило ничего потрясающего, у меня не было оснований встать и крикнуть: смотрите, над нами совершено преступление! Подозрения, булавочные уколы, идиотская мелочная возня из-за книг (потому что у нас, конечно же, были декадентские вкусы), из-за микропористой подошвы на туфлях Вильгельма (потому что он, конечно же, не чуждался западной моды), наши заботы – интеллектуальные бо-бо… Господи, зачем повторять всю эту чушь? Старые истории, которые никому неохота слушать. Мы от этого не умерли. Мы научились держать язык за зубами, не задавать бестактных вопросов, не нападать на влиятельных людей, мы – немножко недовольные, немножко нечестные, немножко искалеченные, а в остальном все в порядке. Вильгельм защитил докторскую, его посылают за границу, он получает машину из специального резерва, у него четырехкомнатная квартира, которая целый год пустует, пока он работает в Дубне, его жена покупает в «эксквизите» модные платья от Жака Хейма, а его клуб [настолько] элитарен, что я захожу туда с ним только для того, чтобы поглазеть на профессиональных жен, которые курят Queensize, читают Constanze и не одобряют мою самодельную стрижку. Он ходит туда только из-за жены, этой глупой гусыни; он говорит, что ему всегда хочется нагадить там на ковер…
Пора уже наконец продолжить наш рассказ. На пасхальные каникулы Вильгельм взял сестру с собой на регату. Франциска стояла на причале, когда его команда тащила каноэ из сарая, и он с неудовольствием заметил, как она долгим, бесстыдным взглядом смотрела на одного из парней. Она толкнула брата и, смеясь, прошептала:
– Жан Маре в двадцать лет.
Вечером они встретились в пивной палатке.
– Я знаю тебя по фотографии, – сказал Вольфганг, – только я думал, что ты подруга Вильгельма.
– А у вас есть сестра? – спросила Франциска.
– Еще бы. Целых три, – отвечал он просто. Он смотрел на нее. – Но не такие, чтобы ими хвалиться.
Лысый человек в синем тренировочном костюме подозвал Вильгельма к стойке.
– Смотри за ней в оба, – сказал он. – Вольфганг не упустит случая подтвердить свою репутацию неотразимого мужчины. – Он широко улыбнулся, но за спиной Франциски бросил на красивого юношу холодный взгляд.
Нахлынувшая в палатку волна людей, смеющихся, возбужденных, распаренных, оттеснила их от Вильгельма и отбросила к колеблющейся брезентовой стене. Франциска вдыхала сильный, здоровый запах солнца и пота и еще какой-то другой, острый запах, шедший от его одежды, от его кожи (господи, как я потом возненавидела этот рыбацкий запах!), и вдруг в шумной, душной от кружащегося в воздухе песка пивной палатке в памяти ее всплыл ветреный день у моря, белые и розовые ракушки, влажная пена на пляже и пучки гниющих водорослей, которые ночью выбросил на берег шторм. Оставшись наедине с ним, она сгорала от смущения. Когда молодой человек через головы стоящих вокруг увидел, что Вильгельм пытается пробиться к ним, он быстро сказал:
– Мы могли бы сходить в кино… Если вы, конечно, решитесь пройти по улице с простым рабочим.
(Потом я без конца слышала эти слова… я, как простой рабочий… то с упреком, то с извинением… но всегда – пасынок судьбы, происхождение – своего рода гандикап. Как он надоедал мне со своим ленивым фатализмом! Набитый дурак! Должно быть, я сошла с ума. Но он и вправду был красив до сумасшествия… Помнишь лицо юного Давида в пастушьей шляпе с венком? Эта единая прямая линия лба и носа, короткие пухлые губы и зелень глаз… самые зеленые глаза, какие я когда-либо видела, о его фигуре мистера Универсума я даже говорить не хочу. Классическая статуя. Он был бы совершенством, если б господь лишил его дара речи…)
Отправляясь в кино среди недели, Вольфганг надел выходной костюм и галстук, душивший его сильную загорелую шею. Испуганный и обиженный, бродил он вдоль горделивой садовой решетки. Наконец Франциска кивнула ему из окна, полчаса простояла она за гардиной, заставляя его дожидаться… ее уже уязвлял этот новый опыт, она уже мстила за новые ожидания, неизвестность и даже страх. Ну вот он пришел, теперь всего лишь какой-то красивый парень, чья решительность льстила ей. Сперва она думала: пусть подождет пять минут, потом еще пять, и еще, и, наконец, на улице она не устояла не перед его улыбкой (вернее, только подобием улыбки, ибо этот невозмутимый герой дансингов неестественно вытягивал шею, покачивал плечами и шел на негнущихся ногах), а перед жалким видом его костюма, вонявшего пятновыводителем и тесного в груди и в плечах. Это уже не был юный рыбак, пахнувший рекой и дикими травами, как вчера в брезентовой палатке. Она была разочарована. Он выглядел совсем не авантажно. Из-за меня, подумала она. Сам того не сознавая, он сделал самый ловкий ход, чтобы завоевать сестру щеголя Вильгельма: растроганная, она торжествовала.
Любовная история, все как по нотам. Банальная история Паоло и Франчески, Ганса и Гретель, Джека и Пегги. Ты меня любишь? Я люблю тебя. Ты всегда будешь любить меня? Вечно. Вечно. На краю света стоит гора, вершина ее в заоблачной выси, и каждые сто лет прилетает крохотная птичка, чтобы крохотным клювиком клюнуть гору, и, когда гора будет склевана, это значит, что истекла первая секунда вечности… Они были первой любовной парой на земле, серьезные и усердные дети, они открывали, что трава – зеленая, небо – синее, что звезды… Сегодня ночью, когда небо станет темно-темно-синим, мы встретимся… Рука об руку, кино, мороженое, ярмарка, чертово колесо, притворный страх в шаткой гондоле, ярко освещенная каморка, где Вольфганг стрелял в плюшевых медведей и в красные бумажные розы, поцелуи в подворотнях, воняющих мусором и рубероидом, поцелуи на улице, в коротком тоннеле темноты между двумя фонарями, поцелуи в высокой траве прибрежных лугов, его рука на ее груди, сжатые колени, ты не покинешь меня, я обещаю тебе, никогда, и долгое прощание перед садовой калиткой. А за жалюзи караулила фрау Линкерханд.
Франциска обязана была являться домой ровно в девять, за несколько минут опоздания на нее сыпались оплеухи, ей учинялся допрос, где ты шляешься, погоди, ты еще кончишь на панели, попомни мои слова… или жалостные сцены, материнские слезы: ведь мы же хотим тебе только добра, а ты не слушаешься… тары-бары, пять иголок, у старухи язык долог… каждый вечер, каждый вечер, она кого угодно доконает, подавит любой мятеж, заговорит насмерть, умучает. Линкерханд корпел над своими книгами, тихий и чужой, сквозь лупу его глаз казался расширенным, как у совы. Фрау Линкерханд, занудливая, точно затяжной дождь: «Одно я тебе скажу, пока ты живешь в родительском доме…» Пока. Если. Я сбегу, кричала Франциска, я покончу с собой, это же невыносимо… Она лежит, холодная, белая лилия Франциска на белой подушке с благочестиво сложенными руками, на груди – цветы, Линкерханд в сюртуке, фрау Линкерханд под черной вуалью, они склоняются над гробом и каются и плачут, а громче всех рыдает Франциска, она, так рано от нас ушедшая, ей было больно, но она их простила… Линкерханд с головой альбиноса вынырнул из Эгейского моря и растерянно щурился: как может быть, дочка, как может быть мир на земле, если в одной маленькой семье нет согласия?
Кто знает, возможно, если бы не ее неопытность, она стала бы для молодого человека просто очередным приключением. Она была еще невинна – на него это произвело впечатление. Он учился чувствам нежным и церемонным, прежде казавшимся ему глупыми и немужественными. Разве раньше пошел бы он по улице с букетом цветов, стал бы читать книгу только потому, что она понравилась девушке, вспомнил бы стихи, с ненавистью заученные в школе? Разве мешал бы ему заснуть недружелюбный взгляд, мрачное настроение? Он считал ее загадочной – впервые в жизни он думал о девушке.
Из боязни показаться смешным он сделался раздражительным, сторонился друзей, «мировых ребят», и был способен по три дня не видеть Франциску. Она усмехалась, когда он путал «мне» и «меня», морщила нос, когда употреблял какое-нибудь грубое выражение, она смеялась над ним, а его все больше влекло к ней… Я тебе еще покажу, тебе и твоей изысканной компании… Его убогой фантазии хватало на одиночество, лесные чащобы, насилие (впрочем, девушки любят чуточку насилия), а на самом деле он был благодушным и до такой степени добродетельным, что деловитость подруги пугала его.
Франциска читала специальные книги доктора Петерсона, точно знала латинские названия человеческих органов, все стадии беременности и презирала поэтические описания неаппетитного биологического акта между мужчиной и женщиной. Она знала все, но была наивна. Вильгельм, желавший оградить сестру от разочарований, явно пересолил, сказав:
– Все мужчины хотят одного. Переспать или не переспать, вот в чем вопрос. Они говорят о твоей душе, а думают о грудях. И не попадись на удочку болтовни о последнем и главном доказательстве, о вершине любви… Настоящая любовь… – Он запутался, растекся в словах.
Фрау Линкерханд, стыдливая, но упрямая, довершила это воспитание, внушив Франциске пуританский страх перед грехопадением.
Теперь ей исполнилось восемнадцать, она была капризна и черства, смеялась без причины и плакала без причины… говорила Важная Старая Дама, которая по-прежнему пила сливовицу, то с одобрения викария, то без оного, по-прежнему прыткая сообщница, серо-шелковая, она совала Франциске деньги и сигареты и весело и уверенно пыталась вносить в обычные вечерние сцены толику разума. У Франциски было два месяца каникул до начала первого семестра, она скучала и слишком много размышляла о своем романе.
Фрау Линкерханд, обшарив все ее ящики в поисках писем и предательских дневниковых записей, жаловалась Вильгельму:
– Очень уж она стала хитра, все скрывает, у нее нет ни капли доверия к родителям.
Вильгельм пожал плечами, какой смысл спорить, у матери уже глубокие морщины и толстая, с намечающимся зобом шея истеричной женщины. Вечером за столом, увидев сестру, бледную от возмущения, он подумал: ее хоть со всех сторон огороди запретами, она улучит минутку и перепрыгнет через ограду.
Однажды августовской ночью они купались в реке. Ночь, темная и вялая после дневной жары, луна за ветвями ольхи, кваканье лягушек в камышах… Медная луна, сводница-луна… и меланхолическое кваканье, как по заказу, отвратительная, шумная лягушачья чернь… А про мост я тебе еще не рассказывала? В сорок пятом его разбомбили – руины, над которыми катила свои воды пылающая река, унося обломки и останки машин, лошадей, беженцев, крейслейтера, чемоданы, перины… теперь это опять мост с высокими пролетами, с бетонными опорами, которые омывают мирные волны, с надежными чугунными перилами на высоте десяти метров над водой или двенадцати, во всяком случае, слишком высоко, чтобы у меня хватило смелости прыгнуть вниз… один шаг… и ты падаешь, как на туго натянутый брезент. Но Вольфганг… Она уже сидела на берегу, завернувшись в купальный халат, и видела… красные пролеты, суриковые… спустя семь лет стояла она там в последний раз, октябрь, ветер, у реки уже холодно, со мной был профессор, я видела его руку на перилах, маленькую белую жирную руку, она дрожала… но это ничего не значило, он был до ужаса нервный и, насколько я его знаю, всегда находился на грани крушения, апоплексии, катастрофы, и всегда неваляшка, мы оба неваляшки, говорил он, у нас, как у кошек, семь жизней. Ранний вечер, в парке еще достаточно светло, виден маленький дворец и высотный дом, который мы вместе строили, а ты знаешь, что это такое – здороваться со своим домом? Я тогда вышла из города… и увидела темное блестящее тело ее друга, прыгающего с моста.
Он вскарабкался на высокий берег и стряхнул капли воды с рук и с груди красивым размеренным движением, запечатлевшимся в памяти Франциски, потом подошел к ней. Стянул с ее плеч купальный халат. Она сносила все молча, с любопытством, исполненная ужаса перед собственным телом, послушным чужому влажному рту, и ей казалось, оно меняется под чужими руками, становится больше и податливее.
На пути домой Франциска дрожала в ожидании мига, когда обнаружит, что на лбу ее запечатлен Знак. Она терла ничуть не изменившееся лицо и не чувствовала ничего, кроме облегчения, как будто решила задачу и наконец осталось позади что-то угрожающее, чего все равно не избегнуть. Она думала: и об этом пишут стихи, господи ты боже мой, об этом поют песни… Фрау Линкерханд вошла в ванную комнату, увидела дочь, стоящую перед зеркалом, увидела ее испытующий взгляд, вспыхнувшее лицо, отвернулась, выбежала в слезах, яростных слезах обиженной святоши.
– С этим плебеем! – кричала она.
Франциску подвергли домашнему аресту. Вильгельм должен был каждый день заезжать за ней в университет. Он являлся на своем трескучем «Дикси», как телохранитель, отдавал ей честь, стараясь развеселить сестру, и доставлял записочки. Его забавляли недостойные психологические маневры семьи, а на самом деле Франциска использовала время, проведенное взаперти, когда она даже ела одна в своей комнате и не видела никого, кроме надзирателя Вильгельма, вовсе не для самоанализа и покаяния – двух недель разлуки оказалось довольно, чтобы новым светом озарилось столь разочаровавшее ее событие. Я могла бы быть независимой, сказала она себе, снять комнату и жить на стипендию. Вильгельм добродушно посмеивался над ее планами.
– Бедная малышка, к сожалению, ты не умеешь считать. Несчастная и рыдающая, вернешься ты в лоно семьи. А Вольфганг? Ему девятнадцать лет, он только еще хочет быть мужчиной. По мне, так можешь с ним спать, сколько угодно… Эй, не выцарапай мне глаза! Для меня нет ничего святого, да, я циник, ну и прекрасно… Как говорится, брак – это не только живот на живот… – Он перекрикивал ее: – Дурища, через три года он будет тебя лупить!
Отцу он сказал:
– Она весьма романтическая особа, теперь страдает из-за любви и читает «Ромео и Джульетту», впрочем, в оригинале, она ведь честолюбива, а если вы еще месяц продержите ее в одиночке, мы потеряем самого сильного гребца в команде, потому что она женит его на себе.
Ей разрешили выйти из дому, и она полетела в объятия возлюбленного.
Однажды вечером Вильгельм вернулся домой с подбитым глазом, и она услышала о том, что ребята из спортклуба устроили пирушку в честь своего товарища Экса, в честь его победы, двойного триумфа: девушка оказалась девушкой, да еще студенткой. Вильгельм избил соблазнителя своей сестры… хотя…
– … хотя, – сказал он, – он выдал тебя только своей идиотски блаженной рожей…
Она заплакала, а у него недостало решимости сказать ей, что она была объектом пари, которое Вольфганг заключил с «мировыми ребятами», пари почти забытого, но наконец выигранного.
5
Я ловлю кузнечиков на подушке, Спи, моя детка, А в тарелке – сверчков (англ.).
6
Марка американских сигарет.
7
Хорошая или плохая, это моя страна (англ.).
8
Лучезарный город (франц.).
9
Да здравствует мистер Бетховен (англ.).
10
И поклялись быть верными друг другу, как звезды там, вверху (англ.).