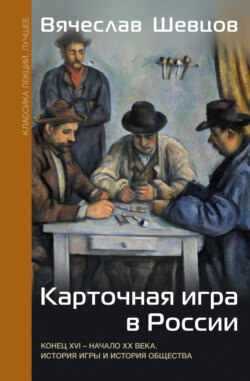Читать книгу Карточная игра в России. Конец XVI – начало XX века. История игры и история общества - - Страница 4
Глава вторая
Карточная торговля и производство игральных карт в России
ОглавлениеВ XVII веке игральные карты были предметом импорта из Западной Европы и попадали в Россию главным образом по Северному морскому пути. Карты, как и другие ранее не упоминавшиеся в источниках вещи, были известны прежде всего в городах, вовлеченных в транзитную торговлю товарами иностранного производства. Из Архангельска небольшие оптовые партии этого товара переправлялись в города бассейна Северной Двины, центральных районов страны, Урала и Сибири. Одним из главных мест распродажи иностранных товаров, идущих из «города», был Устюг Великий. В 1633–1636, 1650–1656 и 1675–1680 годах из Архангельска в Устюг в общей сложности было доставлено около 2225 дюжин (26 700 колод) игральных карт, которые затем отправлялись в Москву, Вятку, Благовещенск, Соль Вычегодскую и Камскую, Пермь, Казань. Наиболее крупные партии закупались для отправки в сибирские города[17]. Наряду с серьезными «отъезжими» торговцами, карты приобретались мелкими скупщиками. В 1626–1627 годах среди городового товара, доставленного в Устюжну Железопольскую, были и карты, оцененные в 50 копеек[18]. В 1642 году торговый человек Лальского посада привез из Устюга разнообразного товара на 38 рублей («аглинское» сукно, фимиам, очки, шелк и так далее), в том числе и игральные карты[19]. Этот товар присутствовал и среди предметов русско-шведской торговли (прежде всего с городами шведской Прибалтики). В 1610–1611 годах 25 дюжин игральных карт были привезены в Новгород[20]. В 1660-х годах они зафиксированы на рынке Тихвинского посада[21].
В таможенной книге города Томска 1624–1627 годов имеются две записи о привозе в город торговыми людьми игральных карт в количестве 7,5 дюжины, а также других принадлежностей для игр («двои тавлеи говяжих» и «10 кости игровые»)[22]; 7,5 дюжины карт оценивалась в 3 рубля 25 алтын, в то время как тавлеи – в 6 алтын 4 денги, кости – в 10 алтын. Приведем для сравнения цены на другие товары в тех же партиях: аршин сермяжного сукна – 4 алтына, полпуда свеч и воска – 4 рубля, 117 ложек «корельчатых красных» – 3 рубля 17 алтын, «однорядка аглинская ношена» – 3 рубля. По данным именных книг 1626 года, жалованье томским служилым людям составляло от 12 до 14 рублей у детей боярских, 7–8 рублей – у подьячих и 4 рубля с четью – у рядовых пеших казаков[23]. Как видим, таможенная оценка игральных карт в Сибири была довольно высока (дюжина – 50 копеек), чтобы сделать их предметом индивидуального обихода.
Наличие в ассортименте европейского импорта игральных карт указывает на знакомство русского городского населения с этим элементом западной светской культуры. Несмотря на обширную географию распространения игральных карт в Московском государстве, очевиден факт привоза их в небольшом количестве в масштабах страны и незначительный характер торговых операций с данным товаром на внутреннем рынке. Небольшой спрос на игральные карты объясняет и отсутствие в XVII веке каких-либо свидетельств о существовании ремесленной специальности, связанной с их производством. Отсутствие карточного производства можно объяснить и дефицитом бумаги (отечественная бумага была низкого качества, и допетровская Русь пользовалась почти исключительно привозной бумагой).
А. Колпашников. Изготовление бумаги. 1784
В начале XVIII века спрос на игральные карты заметно повысился. Только с 1716 по 1723 год через Архангельск и Петербург было ввезено в Россию 2873 дюжины (34 476 колод)[24]. В условиях европеизации быта, коснувшейся в основном привилегированных сословий, карты находили все больше потребителей. Возникла необходимость в заведении отечественного карточного производства.
Одним из первых производителей русских игральных карт мог стать известный экономист и публицист петровского времени И.Т. Посошков. В 1704 году он хлопотал о получении откупа на их производство и продажу за плату 2000 рублей в год. От Оружейной палаты Посошков и два купца-компанейщика получили 200 рублей «подъемных», однако по неизвестным причинам открытие этой мануфактуры не состоялось[25].
Первая карточная мануфактура в России начала действовать с 1722 года. В 1718 году это убыточное казенное предприятие по производству бумаги было передано «безденежно» и в вечное владение купцу Василию Матвеевичу Короткому, специально обучавшемуся писчебумажному делу за границей. На его восстановление им была получена ссуда в 3000 рублей, общие же затраты составили 12 000 рублей. Годовая продукция мануфактуры, по расчетам владельца, составляла 4000 стоп бумаги, 1200 аршин шпалер и 340 дюжин карт. Эта бумажно-карточная мануфактура оказалась жизнеспособной и развивалась и в послепетровское время – если на момент открытия в производстве было задействовано 18 человек (два мастера и 16 учеников), то по переписи рабочих в 1738–1740 годах их числилось уже 95. Это довольно значительное количество, в два-три раза превышавшее число рабочих на бумажных, парусных, пуговично-булавочных мануфактурах того времени. При этом среди рабочих были и иностранные специалисты – девять поляков и два шведа. В 1730-х годах мануфактура несколько раз страдала от разрыва плотины. После смерти Короткого в 1744 году его сыновья просили о пособии от казны для восстановления полуразрушенной мануфактуры, однако Мануфактур-коллегия исключила ее из числа подведомственных ей предприятий за неудовлетворительным состоянием. Находилась эта мануфактура на р. Яузе, под селом Богородским в вотчине Чудова монастыря[26].
В 1724 году голландец Николай Фандерстам также получил разрешение на заведение карточной мануфактуры с условием «довольствовать картами всю Россию и без вывозу из других государств». Этот небогатый купец-предприниматель начинал свою карьеру в России поручиком, но после 1709 года вышел в отставку и занялся мелкооптовой импортной торговлей. Карточная мануфактура Фандерстама находилась в Москве, в Белом городе, в приходе церкви архидьякона Евпла. В год ее открытия было выработано 200 дюжин карт, в 1725 году вдвое больше – 433 дюжины, в 1726 году было поставлено 519 дюжин, причем уже двух сортов – «первого и второго нумеров». Процесс изготовления игральных карт начинался с подклейки бумаги, которая производилась на деревянных досках. Подклеенные листы поступали под пресс, а затем сушились на особом стане. Готовая бумага разрезалась от руки, затем нарезанные куски механически обрезались на стане ножницами.
Следующим этапом было печатание. Фигуры печатались на резных медных или деревянных досках, «пестрые карты (вероятно, фоски – карты от 2 до 10) – на других досках, и, наконец, на третьих – сорочки (обратные стороны карт). Отпечатанные карты «малевались», то есть раскрашивались особыми щетками. Заключительный этап состоял в разглаживании карт «гладилом». В 1747 году карточная мануфактура Фандерстама была продана его вдовой иноземке Анне Линде за 200 рублей. В такую же небольшую сумму продавались и непромышленные площади – двор в Земляном городе (1000 квадратных метров), погреба, лавка в Китай-городе. Со сменой владельца мануфактура изготовляла 1210 дюжин карт в год, в 1753 году – 1900 дюжин, всего на 1950 рублей[27].
В конце 1730-х – начале 50-х годов, кроме мануфактур Короткого и Фандерстама – Линде, в Москве, в ведомстве Мануфактур-коллегии, находилось еще четыре: бумажно-карточная Василия Евреинова, карточные Федора Ширмова, Петра Цивилина и Василия Кареинова. По двум последним сохранились более подробные сведения. Мануфактура П. Цивилина, с капиталом «в обращении» 1200 рублей, в 1742 году изготовляла 800 дюжин, в 1753 году – 1320 дюжин игральных карт. Мануфактура В. Кареинова, с капиталом до 1000 рублей, в 1745 году производила 650 дюжин, в 1753 году – 1400 дюжин. Эти мануфактуристы нанимали рабочую силу и не имели купленных и приписных крестьян, что свидетельствовало о недостаточности средств и незначительных размерах производства[28]. В конце 1760-х годов в Москве в ведении Мануфактур-коллегии значилось всего пять карточных мануфактур[29].
Производство игральных карт в 1760 году из «Энциклопедии искусств и ремесел» Дюамеля де Монсо
Необходимо отметить, что эти мануфактуры на деле являлись расширенными ремесленными мастерскими, не исключаемыми Мануфактур-коллегией по фискальным соображениям. В докладной записке 1765 года вице-президент этой коллегии писал, что мануфактурами следует называть только те производства, для которых необходимы «соединенные многих людей руки и сложные машины». Многие же из существовавших мануфактур, в том числе и карточные, он относил к сфере цехового ремесла, поскольку «могут произвожены быть без больших капиталов и немногими людьми» и советовал оказывать им покровительство «за недостатком таких рукоделиев»[30].
В дошедших до нашего времени таможенных книгах таких центров торговли, как Москва, Новгород, Макарьевская ярмарка, Важская Благовещенская ярмарка, Курск, Брянск и Волхов, за 1714–1737 годы[31] встречается только одно упоминание об игральных картах – в 1720 году (то есть до открытия первой мануфактуры), 35 дюжин имелось среди товаров московского привоза на Макарьевскую ярмарку[32]. В 1740 году, по данным московской таможенной книги, иногородние купцы уже закупали в Москве игральные карты для продажи на местных рынках. Отмечен даже экспорт игральных карт «московской работы», правда, с определением «плохие», в составе партии товаров, предназначавшейся для населения польской Белоруссии[33].
Любопытный документ датируется 1744 годом – план предполагаемого годового производства бумаги в Российской империи. Из 144 067 стоп на образование отпускалось 62 500; на изготовление обоев – 19 366; «женскому полу» на различные уборы – 20 833; для Сената и других центральных органов управления – 15 183; на Синод, военные ведомства, полицию, управление дворцов, приказные избы предполагалось отпустить 9683 стопы (7 %) и такое же количество – на выпуск игральных карт и оберточную бумагу[34]. Нетрудно представить качество тех игральных карт, если они стояли в одном ряду с оберточной бумагой.
Во второй половине XVIII века правительственные учреждения сделали серьезный шаг к поощрению отечественного производителя.
В 1765 году Комиссия о коммерции[35] представила Екатерине II доклад об увеличении ввозных таможенных пошлин на игральные карты и о клеймении всех ввозимых и производимых в России карт. По таможенным ведомостям, ежегодный ввоз в Россию игральных карт доходил до 13 000 дюжин на сумму от 15 до 18 тысяч рублей, и хотя с них собиралась «не малая в казну пошлина», в докладе относительно «столь много употребляемого единственно для забавы и препровождения времени товара» отмечалось, что можно «свободно употреблять оный домашних фабрик». Для этой цели комиссия предлагала повысить таможенные пошлины на игральные карты с 78 рублей 5 копеек до 2 рублей с дюжины, чтобы «привоз оных сам собою вовсе пресекся» и развивалось отечественное карточное производство («сие подаст повод к умножению в государстве своих карточных фабрик и к исправлению доброты их противу иностранных»). Уменьшение таможенных сборов компенсировалось сбором за клеймение игральных карт, то есть введением налога на карты в размере 1 руб-ля 20 копеек с дюжины.
По расчетам Комиссии о коммерции, этот налог должен был принести государству 27 тысяч рублей в год («…карт привозится в Россию до 13 000 дюжин, и в России домашних делается до 10 000 дюжин»). Екатерина II утвердила доклад, уменьшив налог на российские карты до 60 копеек[36]. Получаемые от клеймения карт средства, по ходатайству И.И. Бецкого, определялись в пользу Воспитательного дома (сеть воспитательных домов начала создаваться в России в 1763 году, когда Екатерина II утвердила «Генеральный план императорского Воспитательного дома в Москве», разработанный И.И. Бецким. Эти закрытые учебно-воспитательные учреждения были предназначены для «приема и призрения подкидышей и беспризорных детей». Воспитательные дома были открыты в Новгороде (1776), Петербурге (1770), Киеве (1773), Казани (1775) и других городах.).
В августе 1766 года вышел сенатский указ «О клеймении игорных карт и об учрежденном с оных сборе». Через три месяца после издания указа все непроданные иностранные и российские карты подлежали переклеймению; карты, распроданные до указа, позволялось употреблять еще в течение шести месяцев на прежнем основании. Штраф за игру и торговлю неклеймеными картами устанавливался в 50 копеек в пользу Воспитательного дома, причем донесший о незаконной торговле получал половину денег от штрафа. Штемпели для клеймения изготовлялись Коммерц-коллегией по образцам, утвержденным Сенатом, – сирена для российских карт и «удный крючок под радугой» для привозных. Клеймо накладывать на червонном тузе «красною краскою такою же, какая бывает на картах». Ввоз карт в Россию разрешался только через три порта – С.-Петербургский, Ригу и Архангельск (в 1767 году к ним был добавлен Ревель, а через Ригу разрешен транзитный ввоз игральных карт на территорию Речи Посполитой без клеймения[37]
17
Рассчитано по: Таможенные книги Московского государства в XVII в. Северный речной путь: Устюг Великий, Сольвычегодск, Тотьма в 1633–36, 1650–56, 1675–80 гг. М.; Л., 1950–1951. Т. 1–3.
18
См.: Сперанский А.Н. Торговля Устюжны Железопольской в первой половине XVII века // Русское государство в XVII веке: Новые явления в социально-экономической, политической и культурной жизни. М., 1961. С. 178.
19
См.: Макаров И.С. Волостные торжки в Сольвычегодском уезде в первой половине XIX в. // Исторические записки. М., 1937. Т. 1. С. 206; Меерзон А.Ц., Тихонов Ю.А. Рынок Устюга Великого в период складывания всероссийского рынка (XVII век). М., 1950. С. 290–293.
20
См.: Варенцов В.А. Торговля и купечество Новгорода по данным таможенных книг 1610/11 и 1613/14 гг. / / Торговля и предпринимательство в феодальной России. М., 1994. С. 107.
21
См.: Сербина К.Н. Очерки из социально-экономической истории русского города: Тихвинский посад в ХVI – ХVII вв. М.; Л., 1951. С. 271.
22
Таможенная книга Томска 1624–27 гг. // Таможенные книги сибирских городов XVII в.: Туринск, Кузнецк и Томск. Новосибирск, 1999. Вып. 2. С. 92–94.
23
См.: Бояршинова З.Я. Население Томского уезда в первой половине XVIII века // Тр. Том. ун-та. Томск, 1950. Т. 112. С. 179.
24
См.: Заозерская Е.И. Развитие легкой промышленности в Москве в первой половине XVIII в. М., 1953. С. 334–336.
25
См.: Кафенгауз Б.Б. И.Т. Посошков: Жизнь и деятельность. М., 1951. С. 48–49; Павлов-Сильванский Н.П. Очерки по русской истории. XVIII – ХIХ вв. СПб., 1910. С. 43–44.
26
См.: История Москвы. М., 1953. Т. 2. С. 25; Крепостная мануфактура в России: Социальный состав рабочих первой половины XVIII века // Труды Историко-археографического института. Л., 1934. Т. 11, ч. 4. С. 104–105, 111, 195; Бабурин Д. Очерки по истории Мануфактур-коллегии. М., 1939. С. 306; Заозерская Е.И. Развитие легкой промышленности в Москве… С. 208–210.
27
См.: Заозерская Е.И. Развитие легкой промышленности в Москве в первой половине XVIII в. С. 334–336; Ковригина А.В. Иноземные купцы-предприниматели Москвы петровского времени // Торговля и предпринимательство в феодальной России. М., 1994. С. 193, 204; Москва: Актовые книги XVIII столетия. М., 1897. Т. 7. С. 152, 164, 160, 169; Бабурин Д. Указ. соч. С. 248.
28
См.: Бабурин Д. Указ. соч. С. 187, 242, 248.
29
История Москвы… С. 245.
30
Полянский Ф.Я. Городское ремесло и мануфактура в России XVIII в. М., 1960. С. 159–161.
31
Этот материал был изучен и введен в научный оборот Б.Б. Кафенгаузом в монографии «Очерки внутреннего рынка России первой половины XVIII века» (М., 1958).
32
Кафенгауз Б.Б. Указ. соч. С. 126.
33
Кушева Е.Н. Торговля Москвы в 30–40-х гг. XVIII в. // Исторические записки. М., 1947. Т. 23. С. 87, 90, 100.
34
Бабурин Д. Указ. соч. С. 308–309.
35
Комиссия о коммерции была учреждена в 1727 г. при Коммерц-коллегии для улучшения положения во внутренней и внешней торговле.
36
Полное собрание законов Российской империи (ПСЗ). Собр. 1. СПб., 1830. Т. 17, № 12. С. 530.
37
ПСЗ. Т. 18, № 12 916; ПСЗ. Т. 18. № 12 887.