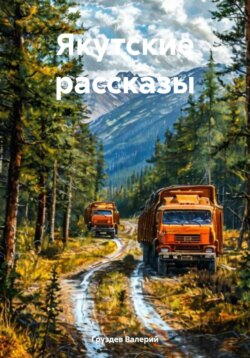Читать книгу Якутские рассказы - - Страница 3
Усть-Кут. Весна
ОглавлениеЗимняя дорога
Нефтепровод строят из труб. Средняя длина одной трубы – одиннадцать метров. Таким образом, чтобы построить нефтепровод длиной несколько тысяч километров, нужно несколько сотен тысяч труб. Все эти трубы нужно доставить на трассу строительства. Трубы доставляют по железной дороге до ближайшей железнодорожной станции, а дальше развозят машинами-длинномерами. Одна машина берёт за раз не более двух труб диаметром тысяча миллиметров. Если есть дорога, то трубы от железнодорожной станции на обычных фурах с полуприцепами доставляют к местам складирования в разные, заранее определённые точки. Затем, уже специальными машинами-трубоплетевозами, трубы развозят по трассе для сварки их в нитку.
Трасса нового нефтепровода от Тайшета до Усть-Кута шла, как уже было сказано, вдоль трассы БАМа. В Усть-Куте трасса поворачивала на север и уходила в Якутию, в сторону от дорог и цивилизации. Круглогодичная дорога от Усть-Кута в северном направлении заканчивалась на 134-ом километре, в селе Верхнемарково. Дальше дорог и жилья не было до самого Олекминска. Добраться до Олекминска и многих других городов Якутии зимой можно только по автозимникам, то есть временным дорогам, которые специально намораживают для этой цели бульдозерами и грейдерами. Весной эти дороги тают и связь с населёнными пунктами возможна только по воздуху, или по реке, где она есть.
Для того, чтобы стройка не остановилась летом, зимой надо было завезти как можно больше труб на промежуточные склады, используя автозимники. Самый большой такой склад был организован в местечке Талакан, в 708 километрах к северу от Усть-Кута.
Трубы от Усть-Кута на Талакан возили всю зиму – строители нагнали кучу машин, привлекли частных перевозчиков и все равно не успевали забросить нужное количество труб для обеспечения летней стройки. В марте, раньше, чем обычно, потеплело и автозимник стал разрушаться – вскрылись мелкие речушки, днём автозимник становился рыхлым, а вечером и утром, когда подмораживало, он превращался в ледяной желоб, наподобие бобслейной трассы, и обычные фуры с полуприцепами уже не могли взобраться ни на один подъём. Много их осталось лежать по кюветам. Для того, чтобы возить трубы дальше, нужны были вездеходы-трубоплетевозы – «Уралы» и «Камазы», много вездеходов – их стали собирать отовсюду, где только возможно.
Районному нефтепроводному управлению, где работал Зуев, тоже была поставлена задача снарядить и отправить в Усть-Кут звено из пяти трубоплетевозов. Они уехали своим ходом. Вообще перегон такого рода техники из центральной России на восток, а это около четырех тысяч километров – отдельная история, выходящая за рамки нашего повествования. Вездеходный «Урал» – машина незаменимая на бездорожье: шесть ведущих колёс и зубастые высокопрофильные шины обеспечивают ей феноменальную проходимость. Но на асфальте, такие машины превращаются в трудноуправляемых монстров, требующих постоянного напряжения со стороны водителя: подруливания и «ловли» машины для удержания в своей полосе. Добавьте к этому отсутствие «спальника» в кабине, отсутствие шумоизоляции и вообще отсутствие какого-либо комфорта для водителя, и вы поймете, что пришлось испытать водителям, перегонявшим эти машины на восток. На взгляд Зуева, это были настоящие герои, причем сами они себя таковыми не считали.
Водители, благополучно перегнавшие трубоплетевозы до Усть-Кута, по прибытии что-то там «накосячили» – то ли не приехали вовремя, то ли отказались ехать в рейс сразу по прибытии. Зуев, отвечавший за отправку машин и подготовку водителей, получил адский втык от начальства и приказ самолично доставить новую партию водителей до Усть-Кута и наладить работу на месте.
Начальство экономило на командировочных и авиаперелёт водителям не согласовали. Поэтому бригада из пяти водителей во главе с Зуевым, в начале марта загрузилась в поезд «Москва-Северобайкальск» и отправилась в путь.
Было восьмое марта. Все нормальные мужчины в этот день спешили с букетами цветов и шампанским к своим жёнам и возлюбленным, чтобы поздравить их с Женским днём. Бригада Зуева чувствовала себя несколько потерянной, поэтому они решили взять водки. Водка символично называлась «Зимняя дорога». Зуев не возражал: путь им предстоял дальний, а старый армейский принцип гласит: «Если нельзя предотвратить пьянку, надо её возглавить».
На вторые сутки, когда поезд перевалил за Урал, уставший от пьянки Зуев ушел к себе в отдельное купе. За Уралом поезд ещё двое суток шел по ровной как стол, абсолютно пустой южносибирской степи. Потом они пересекли великие сибирские реки Обь и Енисей. На четвертые сутки, выпив всю водку и ослабев, перестали бухать водители. А поезд всё шел и шёл, дорога и страна и не думали кончаться. Попутчики в купе Зуева постоянно менялись: сходили и садились в больших сибирских городах: Новосибирске, Омске и Красноярске, а он все ехал и ехал. Скоро Зуев почувствовал себя героем фильма, название которого он забыл. Там герой едет в поезде, его попутчики меняются, одни выходят, другие садятся и каждый рассказывает свою историю.
После Тайшета Транссибирская магистраль повернула на юго-восток, на Иркутск, а поезд пошёл прямо на восток и ещё двое суток шел по БАМу среди пустых заснеженных пространств. Наконец, рано утром, на шестые сутки пути, поезд остановился на станции Лена – это и был город Усть-Кут, который почему-то назывался не как железнодорожная станция.
Было ещё темно, Зуев сошёл на перрон и его повело, как от морской болезни – ноги отвыкли ходить по твердой, не колышащейся поверхности.
После этой их поездки, бригады на поездах больше не ездили. Начальство решило больше не экономить на авиаперелётах работяг, справедливо рассудив, что так оно потеряет больше вследствие неизбежного пьянства и потери времени в дороге. Только дефектоскописты1 продолжали ездить на поездах в течение всей стройки. Тех просто не пускали на самолёт с их рентгеновскими аппаратами и плёнками. Сколько им пришлось выпить за это время водки, Зуев боялся даже представить.
На Талакан
Усть-Кут – город, зажатый с одной стороны Транссибом, а с другой стороны – рекой Леной в её верхнем течении. Из-за этого, город представляет собой одну длинную центральную улицу, застроенную типовыми пяти- и девятиэтажными домами. Начинается и заканчивается эта улица, и, соответственно, город, вереницами частных построек, гаражей и автосервисов. Расположенное на центральной улице двенадцатиэтажное здание гостиницы «Лена», с рестораном, бассейном и спа-салоном является самым высоким зданием города и, одновременно, сосредоточением его деловой и светской жизни.
Когда Зуев прибыл в штаб строительства, расположенный неподалёку от гостиницы, и доложил о своем прибытии, ему было приказано немедленно поставить машины на погрузку трубами и отправить их на Талакан. Эту печальную весть Зуев принёс водителям, уже предвкушавшим отдых в этой замечательной гостинице. Побурчав, водители отложили уже приготовленные для посещения бассейна и спа-салона плавки и одели термобелье, ватные штаны, меховые шапки и рукавицы и поехали на базу, где происходила перегрузка труб с железнодорожных платформ на трубоплетевозы. Им предстоял 708-ми километровый путь на Талакан. Зуев удивлялся спокойствию этих людей. Он знал каждого из них, знал, что эти простые деревенские мужики всегда готовы были выйти на работу и в ночь, и в выходной день, но всё это происходило в родной им местности, на неоднократно изъезженной и знакомой им до каждого кустика трассе нефтепровода, который они обслуживали. Здесь же их ждал обледеневший автозимник, две, а то и три ночевки в кабине (а кабина «Урала» – это не кабина американского тягача «Фрайтлайнер», представляющая из себя малогабаритную квартиру) с отсутствием мобильной связи, заправок и кафешек. После разгрузки на Талакане, их ждала такая же обратная дорога.
Деловито подёргав стропы, закрепляющие погруженные трубы и попинав ступицы колес, водители залезли в кабины, помахали Зуеву из окон, дали по газам, и колонна из пяти «Уралов» тронулась в путь.
Зуев почувствовал себя командиром авиационной эскадрильи, который проводил своих пилотов в опасный боевой вылет, а сам остался на земле. Им предстоял опасный рейд с ненулевыми шансами не вернуться, ему же оставалось только дожидаться их возвращения в комфортабельной гостинице.
Зуев свистнул и махнул рукой последнему, проезжавшему мимо него трубоплетевозу, он притормозил и Зуев запрыгнул в кабину.
Цивилизация закончилась в селе Верхнемарково, в 134-х километрах от Усть-Кута. На границе цивилизации стояла столовая, представлявшая из себя обычную деревенскую избу с дровяной печью. В одной половине этой избы готовили неказистую шоферскую пищу – борщ и котлеты с макаронами, в другой, жарко натопленной половине, выпивали и закусывали водители.
В последний раз пообедав горячей пищей (дальше их ждал только «Доширак», разведенный кипятком на пунктах обогрева), водители трубоплетевозов, не таясь, опрокидывали по сто грамм водки из гранённых стаканов и ехали дальше. ГАИшников они не боялись – на автозимнике каждый отвечал сам за себя.
Завывая мотором, «Урал» взбирался на сопку по обледеневшей дороге. В лобовое стекло был виден только кусок синего неба. Зуев старался не думать о том, что если мотор откажет на подъеме, им предстоит неконтролируемое скольжение вниз, больше напоминаюшее падение, которое может закончиться, в лучшем случае, только в кювете.
Спуск с сопки представлял собой цирковой аттракцион. Водитель пускал правые колёса по обочине, стараясь цепляться хотя бы одной стороной за слежавшийся, не такой скользкий, снег. Ухая гидравликой и скрипя тормозами, они крадучись, будто на ощупь, спускались вниз. Задняя двухосная тележка трубоплетевоза, на которую опирались две тяжеленные трубы метрового диаметра, неумолимо подталкивала тягач в спину, стараясь его обогнать. У подножья сопок, размывая дорогу, текли бурные ручьи талой воды, они пересекали их с разгона, зарываясь в воду по ступицы колёс.
На равнинных участках дорога была скучная: однообразный вид заснеженной тайги за окном быстро надоедал и начинало клонить в сон. Картину оживляли только то тут, то там лежавшие в кюветах перевернутые машины, напоминавшие о неудачниках этой дороги.
Вечерело. Яркое мартовское солнце в морозной дымке на глазах падало за линию горизонта. До Талакана оставалось 500 километров.
1
Так называют специалистов рентгеногаммаграфирования, занимающихся проверкой сварочных стыков с помощью специальных рентгеновских аппаратов.