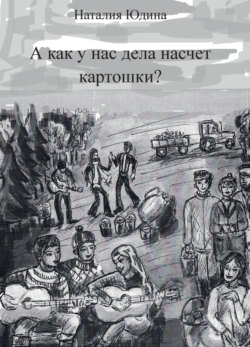Читать книгу А как у нас дела насчет картошки? Или история Music Club - - Страница 2
Часть 1
ОглавлениеЕсли сейчас спросить среднестатистического студента, а знает ли он, что такое картошка, если это не корнеплод, то далеко не все вам ответят. Да, некоторые слышали о таком явлении от своих родителей, если в семье доверительные отношения, а сами родители прошли через это. А вот во времена 70-х-80-х, каждый студент знал, что картошка – это то, что его неминуемо ждет.
Наташка услышала о картошке даже раньше, чем наступил 70–й год. Родители смотрели КВН. Тогда передач по телевизору было немного, они были событием, начинались только к вечеру и не очень поздно заканчивались. Никаких круглосуточных каналов не было. Да и слово канал было известно, разве что, в сочетании Беломорканал, канал имени Москвы, то есть к телевидению это не имело никакого отношения. В телевизоре были программы. Черно-белые, не многочисленные, но весьма интересные. Вся семья собиралась смотреть «Клуб кинопутешественников» с ведущим Шнейдоровым, а потом с Сенкевичем, откуда возникло выражение, часто употребляемое даже нынешней молодежью, думаю, не подозревающей о его происхождении: «Видеть мир глазами Сенкевича». О каком Сенкевиче идет речь, мало кто понимает. В те времена железный занавес отделял СССР от прочих стран, и возможность путешествовать ограничивалась курортами Краснодарского края, Крыма и Кавказа, а также поездками по Золотому Кольцу России. Путешествовали с палатками по средней полосе России и даже добирались в Крым, с байдарками перемещались по рекам Карелии, любили культурно отдыхать в Прибалтике с ее янтарем, соснами на Рижском взморье, рижским бальзамом и почти европейскими кафе, ну и в Паланге. Зарубежные страны для 90 процентов населения можно было увидеть только через Клуб кинопутешественников, глазами Сенкевича. Эта фраза прозвучала в какой-то юмористической передаче и полетела в широкие массы.
Смотрели новости, программу «Время». Каждый день в 21 час слышались всем знакомые позывные, после детской передачи «Спокойной ночи малыши». После программы «Время» смотрели раз в неделю «Ираклий Андроников рассказывает», а до нее «Кабачок 13 стульев» или Кинопанораму, ну и, конечно, КВН.
Во время передачи родители смеялись над шутками студентов-технарей из популярных команд, КВН уже тогда вел молодой Маслюков. Наташка, учась в начальной школе, не все понимала, но ей было весело, и любовь к юмору и всяческой самодеятельности зародилась и осталась на всю жизнь. Запомнилась и песня-частушка, которую студенты распевали на сцене: «А как у нас дела насчет картошки, она у нас становится на ножки. Ну слава богу, я рад за вас…»
В тот период в стране шел вечный бой за урожай. Урожай, как правило, был богатый, но потом почему-то погибал, и за него надо было биться. На эту битву кидали целые научно-исследовательские институты, советскую интеллигенцию, студентов и даже школьников. Бой за урожай начинался обычно с местных овощных баз, где все вышеперечисленные бойцы неумело боролись с гнилой капустой, тухлым луком, прокисшими помидорами и прочими друзьями Чиполлино. Так было в течение долгих лет в стране вечнозеленых помидоров.
Дожив до студенчества, Наташка не избежала испытания Картошкой. После десятого класса она поступила в престижный тогда институт иностранных языков, ИнЯз, на факультет французского языка. Институт назывался МГПИИЯ (Московский Государственный Педагогический Институт иностранных языков) им. Мориса Тореза. Сейчас это университет, он уже давно не тот, каким он был в те времена. И называется как-то грустно МГЛУ.
В семидесятые годы институт имел 4 факультета, три из которых были сугубо женскими: английский, французский и немецкий. Факультеты отличались каждый своими характером. «Немцы» – организованы, методичны, про них хотелось сказать, что они ходят строем. Французы – более легкомысленные. Немногочисленные мальчики французского факультета блистали в капустниках и местной художественной самодеятельности, многие потом осели на радио, в частности на «Эхо Москвы» и представляли творческие профессии. Англичане же являлись самыми многочисленными и мажористыми.
Наряду с этими женскими факультетами был еще переводческий, с зеркально противоположной картиной: единичные девочки среди мальчишеских групп. Для поступления на переводческий девочкам надо было получить особое разрешение. Языки тут были самые разнообразные от вездесущего английского до португальского. Итальянский, испанский, шведский, и банальные английский, французский и немецкий были как первыми, так и вторыми языками для изучения.
Факультеты, хоть и принадлежали к одному институту, но практически не пересекались. Переводчики и англичане всегда учились на Метростроевской 38, ныне Остоженке в старинном здании бывшего Императорского московского коммерческого училища. После революции 1917 года до въезда сюда в 1939 году 1-го МГПИИЯ в здании поочередно размещались Пречистенские рабочие курсы, Рабочий факультет им. Бухарина, Пречистенский практический институт, две школы.
В начале Великой Отечественной войны в здании МГПИИЯ на Остоженке формировалась 5-я дивизия народного ополчения Фрунзенского района Москвы. В память воинов-ополченцев, среди них были и сотни инязовцев, в 1967 году на площадке перед зданием была установлена стела. У стелы, на День победы проходили торжественные сборы студентов с возложением цветов и иногда даже выступлением ректора.
Позже институт еще отхватил себе соседнее здание на Метростроевской, бывший жилой дом. Дом расселили и, как могли, переделали в учебное помещение. В период учебы Наташки оно было еще в плачевном состоянии, аудитории походили на обычные комнаты в квартире, маленькие и обшарпанные. Но позже, когда Наташка уже закончила учебу, здание отреставрировали, привели в порядок и превратили в нормальный учебный корпус.
На заднем дворе исторического здания в 1971 году был построен новый кирпичный корпус на 7 этажей. Каждое здание именовалось корпусом с определённой буквой: А, Б, В. Был еще один корпус, а точнее расположенный недалеко пивной бар, в котором часто толкались переводчики, называя его корпусом Г.
Еще одно здание было в Ростокино, в глуши за Сокольническим парком, куда и отселили французский факультет на следующий год после поступления туда Наташки.
Здание на Метростроевской было старое и загадочное. Коридоры иногда напоминали катакомбы, а стены сохранившие толстые слои разной краски, были неровными и казались холодными. Наташке иногда представлялось, что на них вот-вот начнут расти сталактиты.
Многочисленные коридоры изгибались, резко поворачивали то налево, то направо под прямыми углами, то упирались в тупик и выгоняли идущих на лестницы, то тянулись вдоль всего здания. Первое время, чтобы добраться до деканата, приходилось плутать по лестницам, так как попасть в нужное место не всегда получалось, если идешь насквозь по одному и тому же этажу. Второй этаж – этаж ректората был перекрыт посередине актовым залом с красными бархатными креслами и таким же тяжелым бархатным занавесом над сценой. Зал имел сквозные выходы и разбивал собой здание на две части, и чаще всего, одна из его дверей была закрыта. Находясь на втором этаже, чтобы попасть в другую часть здания из аудиторий, приходилось спускаться или подниматься и проходить к нужному месту по другому этажу.
Новый семиэтажный корпус на заднем дворе имел отдельный вход с раздевалкой и переход в историческое здание. Рядом с переходом находилась старая пристройка, называемая аппендиксом, где было несколько аудиторий, некоторые из которых соединялись, как смежные комнаты и совершенно не походили на учебные. Наташка запомнила, что на одном из старых, почему-то черных столов, среди прочего было выцарапано «lingua latina – penis canina». Между новым корпусом и историческим зданием, как раз рядом с аппендиксом, был переход. В центре перехода по одной стене находился женский туалет, а напротив и дальше по переходу – излюбленное место для курения, где собирались представители всех факультетов. И назывался этот переход трубой.
По сравнению со старым, новое здание казалось более веселым, солнечным и было построено специально с расчётом на языковые аудитории, из их окон открывался вид на крыши старых домов района Остоженки. На первом этаже располагались новые лекционные аудитории, сделанные по типу амфитеатра, где сверху можно было смотреть на кафедру с преподавателем, а на последнем – кабинеты фонетики с лингафонными классами.
Был в институте и лингафонный зал, современный по тем временам. Там студенты сидели в отдельных кабинках в наушниках перед катушечными магнитофонами. Не у всех тогда были магнитофоны дома, и не все записи можно было взять домой. А ребята-переводчики, особенно те, кого отобрали и готовили к курсам ооновских переводчиков, могли сидеть по 5 часов, слушая текст, пока он полностью до единого слова не был ими дешифрован. Бобины с пленками таскали с собой в сумках.
Сейчас это трудно понять, в эру интернета, когда любую информацию легко найти, не выходя из дома, когда нет необходимости перерывать многочисленные справочники и словари, посетить не одну библиотеку и читальный зал. А тогда нельзя было просто сфотографировать расписание или нужную страницу, надо было внимательно переписать часы и аудитории и законспектировать все полезное. Иногда на семинары Наташке приходилось брать с собой дорожную сумку и набивать ее толстыми учебниками и словарями, чтобы в нужный момент найти правильный ответ. Эту сумку она в шутку называла – сундук семинарский. Особенно он пригождался на семинарах по истории партии, философии и языкознания. Это были самые требующие дополнительной литературы семинары, так как удержать в голове подобную информацию оказывалось порой очень сложно.
Еще одним обязательным для посещения помещением в данном здании, была столовая. Там на переменах была очередь, но если зайти туда во время пары, то можно было спокойно пообедать. В новом здании был еще буфет, но, как правило, есть там было нечего, можно было только перехватить булочку с маком и чем-нибудь запить. Это было не все меню, но остальное обычно сметалось студентами до того, как Наташка успевала там появиться.
Занятия в институте строились в 2 смены. Переводческий факультет учился в период Наташкиного первого курса с 8 часов утра, а педагогические – начинали с часу. Иногда у них могла быть нулевая пара в 11. По идее, каждый год факультеты должны были меняться расписанием, но на втором курсе французский факультет был» «сослан» в Ростокино, а немецкий возвратили на Метростроевскую в главное здание. Сей факт был отображен на одном из знаменитых капустников французского факультета, где бедные студенты писали из Ростокино письмо «на деревню дедушке», а точнее ректору. Ректором тогда была Бородулина Мария Кузьминична, преподававшая немецкий язык и успешно руководившая ИнЯзом. В Ростокино в Наташкино время занятия всегда начинались во вторую смену.
Итак, столовая ИнЯза была на первом этаже старого здания. Она делилась на две части: буфет с вечными очередями и часть самообслуживания, куда студенты подходили с подносами и медленно продвигались вдоль стеллажей с первым, вторым и компотом. На прилавках за стойкой буфета с традиционными коржиками, сочниками и незабываемыми булочками с маком, стояли железные банки с манговым и грейпфрутовым соками, не пользовавшимися тогда большим спросом. Все пили томатный и яблочный, их наливали из трехлитровых банок или из стеклянных конусов с краниками. Сейчас их можно увидеть только на старых фото. А для томатного сока стояла большая тарелка с солью и в ней лежала ложка.
Грейпфруты во времена Наташкиного студенчества не воспринимались, как ценный и полезный фрукт, они только недавно появились в СССР, и еще не были признаны покупателями. Наташка полюбила грейпфруты сразу; однажды, покупая их в овощном отделе, она была осмеяна очередью, и заботливые старушки не преминули сказать ей, какую горькую дрянь она покупает.
Еще в институтской столовой, Наташка, избалованная бабушкиной стряпней, сделала для себя неожиданные открытия: она узнала, что рыба может жариться с внутренностями, а в супе не всегда плавает то, что должно плавать. Но деваться было некуда, студенты ходили и ели то, что могли для себя выбрать. Чаще всего это были шпроты на блюдечке. Яйца под майонезом или сосиски с зеленым горшком. Из железного чайника наливали заварку и разбавляли ее из огромного самовара. Чай стоил несколько копеек. Чай в пакетиках тогда еще не родился или не добрался до СССР.
Насчет студенческой столовой на Метростроевской ходила байка, основанная на совершенно реальных событиях. Иногда в ИнЯз приезжали французы, чтобы короткое, или не очень время, проводить занятия на старших курсах. Один такой француз, решив, отказаться от службы во французской армии, тогда еще такая существовала во Франции, решил выбрать альтернативную службу и поехал с СССР преподавать. Походив месяц в столовую ИнЯза, он решил вернуться во французскую армию. Именно так он объяснил свое нежелание или невозможность там работать.
Была у студентов ИнЯза и военная кафедра. На уроки военного дела безусловно ходили переводчики, военный перевод считался одним из важнейших предметов. А допрос пленных на иностранных языках стал притчей во языцех и темой для многочисленных местных анекдотов. Девочек эта участь тоже не миновала. Во внутреннем дворе осенью и весной они маршировали строем, а позже уже в Ростокино писали лекции, сидя в противогазах.
Военная кафедра, находились в старом здании на верхнем этаже. Преподаватели были разные. Некоторые соответствовали характеристикам из анекдотов. Говорили, что на военной кафедре висела картина «Дубовая роща», что характеризовало кафедру. Было ли это так, Наташка не видела. Были и прекрасные преподаватели-переводчики и такие, как молодой лейтенант, который вел у них военный перевод, застенчивый интеллигентный мальчик, краснеющий в присутствии группы симпатичных девочек, засыпавших его вопросами не без издевок. Язык у девчонок был хорошо подвешен. Когда один из преподавателей из «дубовой рощи», делая замечание одной студентке, сказал: «Я поставлю вас на карандаш», на следующем занятии он получил встречную просьбу:
«Снимите меня, пожалуйста, с карандаша!» А уже в Ростокино одна одногруппница Наташки замучила молодого препода вопросами, так как не могла понять, что такое бульдозер и, чем он отличается от экскаватора.
Пока учились на Метростроевской, особенно весной в конце первого курса, Наташка с девчонками часто ходила после занятий, а иногда и вместо, на Калининский проспект, который называли Новым Арбатом. Сейчас, наоборот, все знают этот проспект, как Новый Арбат и только старшее поколение помнит его как Калининский. Девчонки шли вдоль цепочки домов от ресторана Прага в сторону Садового кольца, иногда обедали в ресторане Валдай. Громкое название «ресторан» днем не очень соответствовало действительности. Ресторан больше походил на столовую с улучшенным качеством питания. В нем была система самообслуживания и, набирая еду на подносы, девчонки болтали и смеялись. Иногда они шли к Садовому кольцу мимо Чародейки, самого известного, и, пожалуй, единственного в то время в Москве института красоты, мимо Метелицы, кафе-мороженого с определенной репутаций, где вечером гуляла золотая молодежь того времени и, где дежурили, как члены добровольной народной дружины студенты переводческого факультета. Дружина была добровольной, но участие в ней переводчиков было очень даже обязательным. Днем в Метелице можно было поесть мороженное, как внутри, так и за столиками на улице. Дальше маршрут пролегал к дому с глобусом на самом углу Калининского и Садового кольца. Там находился бар Лабиринт, где Наташка впервые научилась вытягивать соломинкой вишенки из коктейля «Шампань-коблер».
Жизнь в Ростокино текла совсем иначе, чем на Метростроевской. Само удаленное расположение здания подчеркивало оторванность от всего. Здание находилось сразу за парком Сокольники на одном расстоянии от станций метро ВДНХ и Сокольники. Добраться туда можно было на трамваях или автобусах. Но часто, вечно опаздывающие девушки, встречаясь на остановках, ловили такси и за 20–30 копеек с человека подъезжали к институту. За время дороги в метро Наташка успевала прочитать не одну книгу на французском языке, а иногда и сделать домашнее задание.
Внутри, здание давало ощущение камерности. Кроме «французов» в нем только вечером занимались вечерние факультеты, и иногда можно было встретить какие-то разновременные курсы повышения квалификации. Взрослые дяденьки клеились к молодым студенткам, задавая дурацкие вопросы. Однажды один «кавказский человек», все допытывался, как это СТОЛ (по-французски) может быть женского рода «…НЭ ПАНЫМАЮ», а еще была от них стенгазета с шуткой «ça va?» – «Сам ты сова…».
Днём здание полностью принадлежало французскому факультету. На первом этаже был читальный зал, на втором располагался кабинет декана и канцелярия, рядом висело расписание. Прежде, чем попасть в свою аудиторию, студентки всегда забегали на этот этаж взглянуть на него, а старосты групп брали журналы в «предбаннике» деканата.
В Ростокино было еще одно место, в которое приезжали и переводчики, и другие факультеты – это лыжная база. Соседство с парком, напоминавшего в этой части лес, позволяло проложить лыжню и проводить всякие соревнования и кроссы, которые Наташка терпеть не могла. А весной и осенью парк был приятным местом, где с удовольствием прогуливали пару по педагогике, так не любимой студентами. Иногда в хорошую погоду девчонки, возвращаясь, домой, шли к метро прямо через парк. Дорога была длинной, но приятной. Воспринималась, как хорошая прогулка. Но такую прогулку можно было позволить себе лишь тогда, когда долг не гнал домой делать домашние задания.
Учились и по субботам. Вторая смена мешала встречам с друзьями и субботним вечеринкам, так как иногда занятия заканчивались в 18.15, отнимая у студенток драгоценное время на общение. Если пара заканчивалась около четырех, это было счастье, тогда можно было еще успеть заехать домой и принарядиться.
Женский коллектив Наташкиной группы разбавлял один единственный мальчик. Девчонки не воспринимали его всерьез. Его учесть в группе была двигать парты, залезать на подоконник, чтобы открыть или закрыть огромную фрамугу, принести тяжелые учебники из библиотеки. Леша, так звали единственного представителя мужского пола группы, был мальчиком воспитанным, поэтому молча исполнял подобные мужские поручения. Позже на 3 курсе временно появился еще один. Его выгнали с переводческого факультета, видимо за хроническое безделье. Но он оказался ценным кадром для кафедры физкультуры, так как имел какой-то разряд по стрельбе и мог представлять институт в городских соревнования. Наташке он запомнился тем, что на любой конкретный вопрос включая, вопрос, «как ваша фамилия», он отвечал по-французски «Не знаю». Понятно, что, даже хорошо стреляя, Толик, так его звали, надолго не задержался в группе.
Единственной мужской группой на французском факультете была группа № 1, объединившая парней после армии, они попали сюда через подготовительный факультет, были старше и жили, в основном, в общежитии. Среди девочек из школ с углубленным изучением французского языка они тоже не больно котировались, хотя Наташкина группа была с ними в дружеских отношениях, так как по номерам групп, ее группа была второй, их часто объединяли на семинарах. В целом же завести отношения для дальнейшего построения семьи на женских факультетах было сложно.
Девчонки общались между собой, ходили на выставки на Малую Грузинскую, там обычно выставлялись художники андеграунда Москвы, в кинотеатр «Иллюзион» смотреть старые фильмы, где они познакомились с ребятами из Энергетического и Горного институтов, обменивались приглашениями и ходили на полузакрытые концерты бардов и встречи с интересными людьми, артистами и писателями, на кинофестивали. Вся их личная жизнь, если она была, протекала за стенами института.
После первого курса студенты были отправлены в стройотряды. Еще одно развлечение и трудовая повинность того времени. Их было несколько. О желании в них участвовать никого не спрашивали. Это подразумевалось, само собой. Наташка сделала попытку поехать на лето к родителям, работавшим тогда в Англии, но получила отказ. Чтобы поехать в то время заграницу даже к родителям, надо было получить характеристику и рекомендацию комсомольского органа и парткома института. Наташку, как тогда говорили «завернули», и она отправилась вместо Англии в Астрахань, собирать помидоры. О чем, впрочем, никогда не жалела, так как жизнь в стройотряде была увлекательной и насыщенной. А в Англию Наташка все же поехала, но уже после 2 курса.
Второй курс показался Наташке самым легким, пролетел быстро, был для нее наполнен событиями вне институтской жизни с ее бывшими одноклассниками.
После второго курса педагогические факультеты посылались работать вожатыми в пионерские лагеря. Лагерей тоже было несколько. Наташкину группу послали в лагерь от богатого по тем временам завода, в лагерь с каменными корпусами, хорошими условиями, где детей кормили икрой. Дети не все были знакомы с икрой, так как они были из разных семей, и воротили нос от ценного продукта. Вожатые с удовольствием доедали за пионерами бутерброды. От пионерлагеря в Наташкиной памяти остался ее 9-й отряд, состоящий из учеников начальных классов в составе 36 человек, которых невозможно было построить на линейку. Пока строили начало, хвост разбегался, и наоборот. Потом терпение напарницы Наташки, приставленной к ней с завода, иссякало, она резко повышала голос, и отряд, наконец, выстраивался в линию.
Третий курс был самым насыщенным и сложным по программе учебы. Зато после него летом была полная свобода. Что не распространялось на переводчиков. У них после второго курса, пока девушки воспитывали детей, были мужские дела, они были на военных сборах. А после третьего курса им предстояло работать гидами – переводчиками и, разъезжая на автобусах, или гуляя пешком по столице нашей родины, водить экскурсии на разных языках, рассказывая иностранным гостям о достопримечательностях столицы, порой привирая факты или путая фамилии архитекторов. Чаще всего у них за все в ответе был архитектор Щусев, которому приписывали все то, что не могли вспомнить.
* * *
А на четвертом курсе инязевцев подстерегала Картошка. На Картошку снимали с занятий, урожай поспевал как раз к началу учебного года. Во многих институтах Картошка начиналась чуть ли не с первого курса. Но в ИнЯзе на первом курсе студентов нельзя было отрывать от учебного процесса, так как им закладывали фонетическую базу, а дальше были уже перечисленные другие повинности. Хотя иногда, по необходимости, переводчиков срывали и с третьего курса тоже. Расслабляться было некогда. И вот в начале 4 курса и Картошка подоспела.
С жилищными условиями в этот раз повезло. Случалось, так, что студентам приходилось жить в бараках, с протекающими крышами, или того хуже в военных палатках без всяких удобств, без горячей воды.
В этот раз инязевцев поселили в пионерском лагере «Радуга». Как позже поняли студенты, название было не случайным. Когда редко осеннюю серость пронизывало солнышко, его лучи отражались от мокрой земли и леса и превращались в роскошные радуги, коромыслом нависающие над полем с картошкой, от края до края, с ярко выраженными всеми цветами по поговорке про охотника, который желает знать, где сидит фазан. Наташка больше любила другую подсказку, рассказанную мамой в детстве, где говорилось про Жака – звонаря: «Как однажды Жак-звонарь, городской сломал фонарь». Но слово сломал Наташке не нравилось, она в детстве заменила его на «разбил» и никак не могла понять, почему в радуге исчез розовый цвет.
Пионерлагерь «Радуга» находился на западе от Москвы недалеко от деревни Петрищево, где немцы казнили Зою Космодемьянскую. В лесах вокруг сохранились следы далекой уже для этого поколения войны. Иногда встречались землянки, еще не совсем обсыпавшиеся и заросшие окопы, иногда попадались гильзы. Но природа все больше и больше скрывала следы жестокой войны и вражеских войск, подошедших так близко к Москве.
Двухэтажные кирпичные корпуса с душевой и с горячей водой очень порадовали новоприбывших. Кроме палат на 13–15 человек в корпусах был холл с телевизором, для досуга и танцев, и столовая.
Студентов на автобусах привезли на место, после чего началось заселение. Девчонки с французского факультета попали в первый корпус и заняли палату под номером 10. Кроме Наташкиной группы, в которой было 8 человек за минусом мальчиков и с учетом того факта, что не все члены группы отправились в первых рядах, в палату заселилось еще несколько девочек с факультета, работающих на кухне в столовой, несколько подружек из других групп и даже Наташкина подружка Даша с немецкого факультета, появившаяся во времена стройотряда.
Еще в первом корпусе рядом с ними на втором этаже поселились девчонки из 3-й и 5-й французских групп, а на первом этаже начальство. Командир и бригадир.
В остальных подъездах и корпусах жили переводчики, немецкий факультет и мальчишки с Наташкиного курса.
Жизнь на картошке строилась в зависимости от наличия или отсутствия дождя. Если с неба не капало, утром объявлялся подъем, все дружными рядами шли в столовую есть незамысловатый завтрак, после чего разбитые на бригады студенты грузились в автобусы и отвозились на поля.
Полей было несколько, в различных близлежащих деревнях. Ребята в основном работали грузчиками, грузили собранные мешки в машины. Появились шутки про новую специальность грузчиков-переводчиков. А девчонки работали подборщицами, перемещаясь по полю, вскопанному трактором, с ведрами и подбирали картошку из мокрой и вязкой земли. Был еще вариант работать на комбайне, который сам вырывал картошку, гнал ее по транспортеру, у которого стояли девчонки. У каждой бригады была норма ведер или мешков, обязательная для выполнения. Командовал работой некто из института по имени Петя, вызывавший, разумеется, негативные оценки инязовцев. Над Петей стоял командир, тоже из института, который получил прозвище Чемодан, так как везде, где бы он ни появлялся, от столовой до поля, носил с собой чемоданчик-кейс.
Подборщицы
В середине сентября темнело рано, это оставляло студентам дополнительное время на досуг. Вечером после работы шли на ужин, потом искали развлечения сами, иногда в холе устраивались танцы, или мальчишки смотрели футбол. Первое время, пока еще не освоились и не завели новых знакомств время тянулось медленно, девчонки искали возможности завести компании, привлечь к себе ребят повеселее и помузыкальнее, а пока компании не создались, развлекали себя, как могли сами.
Второй стороной жизни на картошке был период дождя. Дождь ждали все, как манну небесную. В дождь студентов не возили на поля, и они оставались в лагере. Часто ребята посылали гонца в деревенский магазин, где предлагаемый ассортимент состоял из водки и черного хлеба, и кидались в бездну алкогольных радостей. Иногда в этом их поддерживали некоторые девчонки и потом бродили пьяные по лагерю, вытворяя всякие глупости и, давая почву для всеобщего обсуждения и осуждения на следующий день.
Девочки из Наташкиной группы в этом плане были целомудренны. Не то, чтобы они не пили совсем, они могли поддержать кружкой вина компанию, даже иногда могли почувствовать легкое головокружение, но не напивались так, чтобы потом об этом можно было со стыдом вспоминать. Но в начале картошки они еще не приобрели компании, а поэтому заедали дождь, привезенными из Москвы конфетами и пели песни.
* * *
Большинство девчонок, кроме самой Наташки были очень музыкальными, многие закончили музыкальную школу, а другие просто были наделены от природы. Наташку природа обделила музыкальным слухом. Но при этом она очень любила петь. Петь под музыку у нее еще как-то получалось, но повторить мелодию самой для нее было непосильным трудом. Зато у Наташки дома была гитара. Ей очень хотелось научиться играть. ее вдохновляли рассказы бабушки о том, как та в молодости пела романсы под гитару, а также услышанные песни Окуджавы. С его песнями Наташка познакомилась неожиданно. Сначала она встретила в какой-то повести в толстом журнале строчку из песни, произносимую одним из персонажей: «За что ж вы Ваньку-то Морозова…» Почему-то эта незамысловатая и бессодержательная в том контексте строчка, хорошо врезалась в память.
Прошло время, и подруга пригласила ее в Театр на Таганке. До этого Наташка мало что знала об этом театре. В театры она ходила, но нельзя сказать, что была заядлой театралкой. Актеров знала плохо. Лица не запоминала. Более или менее знакомый ей театр был театр им. Вахтангова с замечательной «Принцессой Турандот», полной импровизации и шуток, с Борисовой в главной роли. Это был последний спектакль, поставленный самим Вахтанговым еще в 1922 году и сохранившимся до Наташкиных времен. В спектакле в то время играли тогда еще молодые, красивые и, конечно талантливые Юрий Яковлев, Василий Лановой, Марианна Вертинская.
В те времена, когда Наташка в первый раз попала в театр на Таганке, попасть в него было очень сложно. Но существовала лазейка, позволившая Наташке с друзьями посмотреть основные спектакли с Высоцким, Золотухиным, Смеховым. Спектакли Любимова гремели на всю Москву, были необычны, смелы и не одобряемые партийным руководством. Театр всегда существовал на грани. Но главное, что очаровало Наташку, это постановки спектаклей. Отсутствие декораций, простата костюмов и нестандартный подход к пьесам. Наташка долго помнила, как в спектакле «Дом на набережной», в момент, когда герой показывал картины Айвазовского, якобы висевшие на стенах, туда просто плеснули водой. Высоцкий, которого она уже знала по песням, Золотухин, сыгравший в замечательном фильме «Бумбараш», – все зачаровывало.
Но вернемся к Ваньке Морозову и Окуджаве. Первый спектакль, увиденный Наташкой на Таганке, назывался «Работа, есть работа». Билеты удалось достать благодаря шефству театра над заводом Динамо. Шефская помощь в виде предоставления билетов оказывалась пролетарской части населения, которая далеко не всегда интересовалась театром, и билеты просто лежали в профкоме завода. Отец подруги был связан с этим заводом по работе и с удовольствием забирал не реализованные среди трудящихся билеты.
Спектакль был для Наташки откровением. Ничего подобного она до этого не видела. Мужчина и женщина играли на сцене пантомиму, это было так интересно и необычно. Посередине сцены сидел артист с гитарой, аккомпанировал себе и пел песни Окуджавы, служившие музыкальным фоном мимам. Когда он запел «За что ж вы Ваньку-то Морозова…», Наташка сразу вспомнила эти строчки, хотя не знала, как они звучат.
Гитарист играл и пел все, ставшие потом любимыми песни Булата Шалвовича:
«Работа, есть работа, работа есть всегда
Хватило б только пота на долгие года…»
Потом звучала песня «Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке» … и конечно «Виноградная косточка». Наташка вышла со спектакля под сильным впечатлением, и с тех пор бесконечно полюбила Любимовскую Таганку. Завод продолжал снабжать билетами, почти весь репертуар театра был просмотрен. Это и «Гамлет» с Высоцким, и «Добрый человек из Сезуана», и «Вишневый сад», и «10 дней, которые потрясли мир», и многое другое.
С первого посещения Таганки Наташка влюбилась в песни Окуджавы. Так хотелось научиться петь, но природа не дала таких талантов. Однако, подруга подарила ей гитару, которая не послужила самой Наташке, но пригодилась ее друзьям.
* * *
По прошествии нескольких дней на картошке стало понятно, что развлекать себя пока надо самим, и девчонки стали проявлять свои разнообразные таланты. Наташка съездила во время очередного дождя в Москву и привезла гитару.
Как уже говорилось, девчонки Палаты № 10 оказались очень музыкальными. Женька не училась в Наташкиной группе, но общалась с Тошей после совместного пребывания в стройотряде после первого курса. Она играла на гитаре, и они с Тошкой пели задушевные романсы и народные русские и украинские песни на разные голоса. Тошка – это было прозвище Антоновой Иры. Она на него не обижалась, и оно приросло к ней очень плотно. В дождливый день Тошка затягивала «Черного ворона», его подхватывала Женька, потом все остальные. За вороном шли отцветшие давно в саду хризантемы, «Ой мороз, мороз» и песни Окуджавы, но коронкой Женьки был «Гвоздик». Студентки, войдя в лирическое состояние просили: – «Жень, ну спой «Гвоздик».
Женька была очень артистична. Приехав в Москву из маленького городка в Молдавии, она носила молдавскую фамилию, но чисто говорила по-русски, так как ее отец преподавал русский язык в местном университете. Иногда она имитировала молдавский акцент, смягчая согласные, чем очень веселила девочек. Приехав в Москву, проходя мимо театрального вуза, Женька за компанию с подружкой прошла первый отборочный творческий тур в одно из театральных училищ. Однако дальше уже сошла с дистанции, чтобы выбрать более надежный и престижный ИнЯз. Но артистичность помогала Женьке в жизни. Анекдоты в ее исполнении превращались в маленькие представления.
– Жень, «Гвоздик», – просили девчонки. И она брала гитару и, наигрывая мелодию, пела «Балладу о гвозде» Новеллы Матвеевой:
Вера и Женька
Любви моей ты боялся зря, —
не так я страшно люблю!
Мне было довольно видеть тебя,
встречать улыбку твою.
И если ты уходил к другой
или просто был неизвестно где,
мне было довольно того, что твой
плащ висел на гвозде.
И когда Женька доходила до строчек:
… Мне было довольно, что от гвоздя
Остался маленький след.
Когда же и след от гвоздя исчез
Под кистью старого маляра, —
Мне было довольно того, что след
Гвоздя был виден вчера.
На глазах девчонок уже блестели слезы.
Но чаще они смеялись и дурачились. У них возник свой репертуарчик из песен-приколов, вроде «Шарманка ты шарманка, родная сторона, никто нас не разлучит, лишь мать сыра земля». Самой популярной песней, которую распевали все хором, независимо от способностей был «Кузнечик, коленками назад».
Девчонки самозабвенно орали хором:
На солнечной поляночке,
Не зная, чему рад,
Сидел кузнечик маленький
Коленками назад.
Ай-ай-ай-ай!
Ай-ай-ай-ай!
Сидел кузнечик маленький
Коленками назад.
Потом уже более трогательно и вкрадчиво вступал кто-то один:
В траве нашел он девушку —
Не девушку, а клад,
Такую же зеленую,
Коленками назад.
Ай-ай-ай-ай!
Ай-ай-ай-ай!
Кузнечик стал так популярен за пару дней, что, дурачась, девчонки стали переводить его на разные доступные им языки. Все-таки учились в ИнЯзе.
Кроме Женьки и Тошки пела еще Вера. Это была несколько странная девочка, внешне симпатичная, даже, можно сказать красивая, но замкнутая, ленивая. Несмотря на то, что весь день девчонки трудились на полях в грязной одежде и в сапогах, приходя в лагерь они прихорашивались, красились, переодевались и становились похожи на себя институтских. Совсем иначе было с Верой. В грязных штанах и свитере, она заваливалась на кровать и лежала, в основном, помалкивая. Но стоило Вере взять гитару и запеть, как она преображалась. Она играла на гитаре, стучала пыльным носком из сапога в такт игре, поднимая вокруг себя пыльную бурю. Девчонки зря призывали ее переодеться и приукраситься, Вера отмахивалась. Но пела она потрясающе. Ее репертуар делился на две группы. Шуточные песни и романсы периода НЭПа. Хотелось пририсовать ей мушку на щеку, вставить розу в волосы и в зубы – папироску, будто она сошла с экрана черно-белых фильмов с Верой Холодной. Наташке она представлялась этакой Сонькой-золотой ручкой, Наташка мало что знала о Соньке и даже не предполагала, что она жила гораздо раньше НЭПа. Она нарисовала себе картинку этакой женщины-вамп и присвоила ей имя Соньки золотой ручки.
С придыханием, томно Вера пела про белую розу – эмблему печали и красную розу – эмблему любви. Ее коронкой была песня:
«Ах, эти черные глаза
Меня пленили.
Их позабыть никак нельзя —
Они горят передо мной …»
В ее исполнении несравненно звучал «поручик Голицын», которого Вера надрывно призывала седлать коня, а затем песня о нем сменялась румяными гимназистками с конфетками-бараночками.
Вторая часть песен была веселая. Вера пела, как хорошо жить на востоке и пить чай из пиалы. Тогда это была не очень известная, но забавная песня Сергея Никитина.
Пение и песни заняли в жизни девушек важное место. Второе место занимали анекдоты. Они настолько вписались в их жизнь, что девчонки начали уже разговаривать строчками из них. Иногда было достаточно с определенной интонацией сказать одно слово, чтобы все начинали смеяться. Появились анекдоты на местные темы, понятные только своим.
Вера с гитарой
* * *
Досуг, конечно, был важен, но все-таки не надо забывать, что студенты трудились на уборке картошки.
Утром после завтрака, если не было дождя, все грузились в автобусы по бригадам, если на каждую бригаду хватало транспорта. Когда же какой-нибудь автобус ломался, то в оставшийся набивалась куча народу, все сидели в прямом смысле на коленях друг у друга, висели на руках, держась за перекладину и были хорошо утрамбованы, чтобы двери закрылись. В автобусах было весело. Продолжались песни, анекдоты. Все болтали и лучше узнавали друг друга. Однажды к лагерю подогнали настоящий «Икарус», на таких обычно возили иностранных туристов. Автобус даже было жалко, когда студенты в ватниках и в грязных сапогах заполнили его чистенькое нутро. Наташка посочувствовала автобусу, представив, как на его бархатных сиденьях располагались французы и вертели головами по указке гида то налево, то направо. Стоило Наташке об этом подумать, как зазвучал чей-то голос, говорящий в микрофон по-английски. Кто-то из ребят переводчиков решил вспомнить недавнюю практику в Интуристе и провести веселую экскурсию по окрестным деревням, куда они ехали трудиться. Переводчики изощрялись в остроумии, выхватывая микрофон друг у друга. Всем было весело, дорога пролетела незаметно. К сожалению, «Икарус» обслуживал студентов только один день, потом опять вернулись набитые старые с округлыми формами автобусы.
Так как на полях было холодно, на себя надевали все, что было в наличии. У кого были ватники, носили ватники, у кого не было, надевали по несколько свитеров, штанов, сверху куртки и заматывали голову поверх шапок платками. Меньше всего думали в этот момент о красоте. Наташка поверх куртки надевала еще ветровку с капюшоном. Так сложилась картофельная мода. Девчонки придуривались и устраивали дефиле вдоль комбайна, показывая свои «замечательные» наряды.
Чтобы не замерзнуть танцевали, отплясывали Фрэнч канкан, весело задирая ноги в сапогах с налипшей на подметки тяжелой грязью. Грязь в танце разлеталась, как искры фейерверка в разные стороны. Бегали с ведрами, чтобы быстрее выполнить норму и уехать с поля. Иногда, если норму выполняли за пол дня, больше на поле не возили. Если работу заканчивали раньше, но автобусы не приезжали, все сидели у костра, и подборщицы, и грузчики, пекли картошку и пили молоко, принесенное кем-то из деревни в трехлитровой банке. Тогда в любой подмосковной деревне держали коров, и можно было постучаться к хозяйке и купить молока.
Когда было очень холодно, но надо было работать, а осень погодой не баловала, смеялись и дурачились еще больше.
Так родился анекдот про ледышку, понятный только тем, кто это пережил. «Идет подборщица по полю, а за ней ледышка. Ледышка идет и смеется. – Ледышка, что ты смеешься? а ледышка отвечает: «Я с утра тоже была подборщицей.» Так сказать, местный юмор.
Женька рассказывает анекдоты.
Пока еще не создались компании, не с кем было флиртовать и, не в кого было влюбляться. Девчонки потешались над местным комбайнером. Им был молодой парень, чуть старше их, немного неотесанный, настоящий деревенский валенок. Внешне парень был симпатичный и очень сильно смущался при виде городских нагловатых девчонок, особых инязовских девчонок. Ничего плохого они ему не желали, но не могли не потешаться над его поведением, они задавали ему провокационные вопросы, парень краснел, бледнел и не мог справиться с натиском разбитных горожанок. Девчонки целую неделю звали его Колей, он даже не мог возразить, как потом выяснилось настоящее его имя было Витя. Девчонки все время шутили на тему красивого комбайнера, сравнивая его то с Тарзаном, то с Маугли, хотели его отмыть приодеть и вывести в свет. И развивали тему по поводу l’Amour sauvage (Дикая любовь) с комбайнером Витей. Но они не обижали парня. Эти разговоры велись уже в лагере, далеко от его ушей. Чтобы смутить Колю-Витю, было достаточно просто посмотреть на него и улыбнуться. Иногда комбайн ломался, тогда студентки начинали свои танцы вокруг него, танцы сменялись песнями, и все это сопровождалось веселым, звонким смехом, от чего Коля-Витя краснел еще больше и начинал быстрее чинить свой комбайн.