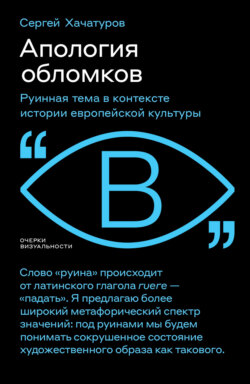Читать книгу Апология обломков. Руинная тема в контексте истории европейской культуры - - Страница 3
Руина. Чти. Памяти Михаила Алленова
ОглавлениеЛюбимец многих поколений учеников отделения истории искусства исторического факультета МГУ профессор Михаил Михайлович Алленов был одним из лучших специалистов по русскому искусству нового времени. Элегантный, изящный, мудрейший и тончайший в фигурах речи, Михаил Михайлович щедро делился способностью восхищаться искусством и быть свободным в суждениях о нем.
Классикой науки об искусстве стали его монография «Александр Иванов», книги по истории живописи, скульптуры, архитектуры XIX столетия. Метод, применявшийся Михаилом Михайловичем, в чем-то наследовал герменевтической традиции и традиции интерпретации заданных памятью цивилизации образов / изображений внутри универсума культуры. Эта традиция связана с так называемой гамбургской школой (традиционно именующейся «школой Аби Варбурга»). Однако при всей близости и параллелизме поисков Михаил Алленов создал свою собственную уникальную навигацию в мире творчества. Презрев догмы и нарушая магистральные пути, он точно сближал резонансные системы речи многих территорий сразу: музыки, театра, изобразительного искусства, архитектуры и, конечно, литературы. В литературе он видел ключ к так называемому обратному иллюстрированию: памятники пространственных искусств узнают себя в словесных тропах. Неспроста одна из самых известных его книг, выпущенная «Новым литературным обозрением», называется «Тексты о текстах».
Акростих Гавриила Державина про руину впервые был открыт мне Михаилом Михайловичем. Именно он расшифровал тогда смысл слова «чти», что становится частью фразы из первых букв каждой строки: «Руина чти». Алленов тогда четко сформулировал: «чти» – это не только почитай, но и читай руины как письмена истории, достраивающие ее образ до сложных универсальных идей. Сам Алленов любил тему руин и часто к ней обращался и в лекциях, и в статьях.
Портрет Михаила Алленова. Фото Екатерины Алленовой. Фото из архива семьи Алленовых
В диалоге с Учителем написана эта книга, в которой образ руины интерпретируется не в археологическом, а скорее в антропологическом контексте.
Река времен, о которой написал в 1816 году (за несколько дней до кончины) Гавриил Державин, как известно, представляет философскую оду памяти. В стремлении (течении) реки времени уносятся народы, царства и цари… Остается лишь то, что достойно внимания поперек общего словесного потока в созданном поэтом акростихе (восьмистишии «На тленность»). Из первых букв каждой строки складывается девиз: «Руина чти».
Самый точный картографический образ реки времен представляет, конечно, синхронистическая таблица-карта «Река Времен, или Эмблематическое изображение Всемирной Истории от Сотворения мира по 19 столетие».
Эта карта висела в кабинете Гавриила Романовича в новгородском имении Званка. Ею он вдохновлялся при написании упомянутой последней оды на быстротечность времени («На тленность»). Российский ее вариант был издан в Санкт-Петербурге в 1805 году (автор Фридрих Штрасс, перевод Алексея Варенцова, гравировал Иоганн Кристоф де Майр, рисовал Карл Фридрих Кнаппе), а теперь хранится в отделе картографии Государственного Исторического музея.
Восьмистишие «На тленность» Державин написал, кстати, самым эфемерным способом: на аспидной (грифельной) доске. Он писал это призрачное восьмистишие, созерцая иллюзорные потоки деяний человеческих на карте в своем кабинете. Реки, озера, водопады, в которых заключены дела людей, народов, их биографии и история, в державинской карте 1805 года струились прямо из облаков. Символично, что это русло венчает среди прочих имя самого Державина, подытожившего Век Просвещения.
Акростих «На тленность» вкупе с вдохновившей поэта картой Всемирной Истории, по сути, завершенный образ той меланхолии руин, что полноценно раскрыл романтизм, а описал философ рубежа XIX–XX веков Георг Зиммель в своем знаменитом эссе «Руина». Георг Зиммель понимал жизнь как полноводный иррациональный поток, то есть в образе реки. То, что противостоит стихии природы, – культура – оказывается некой плотиной, поставленной поперек потока. Именно так и работает акростих Державина, поставленный «поперек» течения поэтических строф. Плотина-культура воспринимается как победа разума, порядка, духа человеческого над стихией жизни. Однако победа эта мнимая. Подобно Державину, Зиммель говорит о разрушении хрупкого договора между цивилизацией и «рекой времен»:
Это неповторимое равновесие между механической, тяжелой, пассивно противодействующей давлению материей и формирующей, направляющей ввысь духовностью нарушается в то мгновение, когда строение разрушается. Ибо это означает, что силы природы начинают господствовать над созданием рук человеческих: равенство между природой и духом, которое воплотилось в строении, сдвигается в пользу природы. Этот сдвиг переходит в космическую трагедию, которая вызывает печаль в нашем восприятии каждой руины: разрушение предстает перед нами как месть природы за насилие, которое дух совершил над ней, формируя ее по своему образу. Ведь исторический процесс – постепенное установление господства духа над природой, которую он находит вне себя, – но в известном смысле и в себе. Если в других искусствах дух подчинял формы и происходящее в природе своему велению, то архитектура формирует ее массы и непосредственные собственные силы, пока они как бы сами не создают зримость идеи. Однако только до тех пор, пока произведение стоит в своей завершенности, необходимость материи подчиняется свободе духа, жизненность духа полностью находит свое выражение в тяжелых, несущих силах материи. Но в момент, когда разрушение здания нарушает замкнутость формы, природа и дух вновь расходятся и проявляют свою исконную, пронизывающую мир вражду: будто художественное формирование было лишь насилием духа, которому материал подчинился против своей воли, будто он теперь постепенно сбрасывает с себя это иго и возвращается к независимой закономерности своих сил1.
Георг Зиммель считает, что лишь архитектурные руины могут быть оценены эстетически. Если рушится написанная на холсте картина, вырвана книжная страница, то возникает визуальный и смысловой хаос. Лишь архитектурная руина позволяет впустить в себя животворные силы природы и создать нечто новое, эстетически полноценное.
К слову сказать, спорное сегодня суждение. Оно все-таки отражает мир с позиции классической философии. В новейшее время некоторые книжные тексты, как, например, роман 2000 года Марка Z. Данилевского «Дом листьев», изначально замыслен как руина с обрывками фраз и утраченными частями в самом наборе. Верстка «Дома листьев» представляет собой коллаж разных обрывочных архивов, сохраненных различными рассказчиками. Сноски замыкаются на самих себя, некоторые страницы содержат лишь отдельные слова, строки. В разных частях верстка идет под разными углами, и книгу надо вертеть. В традиции готического романа центром повествования Данилевского выбрана как раз архитектура странного дома, в котором происходят таинственные и жуткие вещи. Опять-таки по заветам готических новелл, дом этот – живая руина. Его нельзя понять как цельный проект, он – сгусток обрывочных фантазий и кошмаров. Он может менять размеры, трансформироваться, снаружи быть меньшим, чем внутри. О доме и историях, с ним связанных, свидетельствуют некая кинопленка, снятая обитателем дома фотографом Нэвидсоном, а также комментарии к ней слепого философа Дзампано и аутсайдера, тату-мастера Джонни Труэнта. Все свидетельства и комментарии, ссылки и примечания иллюзорны и недоказуемы. «Дом листьев» Марка Z. Данилевского – уникальный образ книги, созданной в жанре искусственной руины с ненадежным рассказчиком. Автор словно коллекционирует многие темы механики страшного, возвышенного, загадочного, что обозначили руины готической эстетики, и, вопреки Зиммелю, представляет новейшую редакцию поэтики развалин: ту, что связана с шизоанализом, психопатией, черной желчью планеты Сатурн и упоением от чтения страшных историй с открытым финалом, Non finito…
Однако в обоих случаях, и у Зиммеля, и у Данилевского, руины оказываются письменами истории. Согласно Державину, руины можно не только почитать, но и читать: «Руина, чти!» – вот смысл акростиха. Письмена эти, помимо деяний людских, создаются самой природой, активной во времени.
Что же можно прочесть в руинах? Всегда ли похоже они расшифровывались? Какие аффекты пробуждали в разные века? В поисках ответов на эти вопросы будем странствовать с читателями этой книги. Жанр ее – научно-популярное изложение цикла лекций, или собрание эссе в логике исторической хронологии. Лекции нередко воспринимаются монотонно и неэмоционально. Чтобы преодолеть априори эту проблему, решил ввести в повествование множество развернутых цитат, в которых время говорит от первого лица. Ярко и страстно.
Автор не тщится привлечь в собеседники всю необъятную литературу, посвященную руинам. Однако некоторые принципиальные идеи подтверждаются диалогом с разными авторами, ссылки на труды которых приводятся в книге. Уместно упомянуть самый новый фундаментальный труд об археологии и семантике руин «Une histoire universelle des ruines»2. Книга издана в 2020 году. Ее автор – профессор Сорбонны, основатель французского Национального института истории искусства (Inha) Ален Шнапп. Мы постараемся быть в почтительном диалоге с профессором Шнаппом и учитывать, что наша книга в сравнении с его гигантским 700-страничным фолиантом лишь заметки на полях и капризы воображения.
Сразу обозначим контекст интерпретации темы руин. Слово «руина» происходит от латинского глагола ruere («падать»). Отходя от сугубо археологического толкования понятия как останков разрушенного здания, я предлагаю куда более широкий метафорический спектр значений. Если иметь в виду глагол «падать», то под руинами мы будем понимать сокрушенное состояние художественного образа как такового. Руина в широком смысле толкования – то, что разрушилось, то, что недовоплотилось, то, что не достигло цельности и гармонии, осталось фрагментом и осколком, не встроилось в систему и завершенный проект. Этот богатый нюансами и виражами смыслов путь познания руин европейской культуры предлагается пройти читателю книги.
1
Зиммель Г. Руина / Пер. с нем. М. И. Левиной // Зиммель Г. Избранное: В 2 т. Т. II. М.: Юрист, 1996.
2
Schnapp A. Une histoire universelle des ruines. Des origines aux Lumières. Paris: Édition du Seuil, 2020.