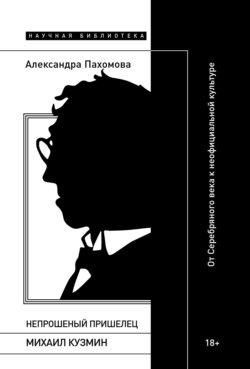Читать книгу Непрошеный пришелец: Михаил Кузмин. От Серебряного века к неофициальной культуре - - Страница 5
Глава 1. В поисках перемен (1912–1917)
ОглавлениеЛетом 1912 года вышел второй сборник стихотворений Кузмина «Осенние озера». Это уже не была книга многообещающего автора: теперь Кузмин был настоящим мэтром. Именно его попросили написать предисловие к книге молодой поэтессы Анны Ахматовой «Вечер» (знакомство с Ахматовой и Гумилевым состоялось еще в 1910 году), и Кузмин с удовольствием исполнил предложенную роль, не избежав показной скромности:
Мы пишем не критику, и наша роль сводится к очень скромной только назвать имя и как бы представить вновь прибывшую. Мы можем намекнуть слегка о ее происхождении, указать кой-какие приметы и высказать свои догадки – что мы и делаем. Итак, сударыни и судари, к нам идет новый, молодой, но имеющий все данные стать настоящим поэт. А зовут его – Анна Ахматова (Критика, с. 484).
Сборник «Осенние озера» был хорошо встречен критикой: один только Гумилев оценил книгу целых три раза, причем все три раза – положительно108. Однако в череде благожелательных рецензий можно заметить червоточинку: критика неоднократно отмечала, что новые стихи Кузмина кажутся уже знакомыми, что поэт использует старые ходы и приемы, что он, наконец, подтверждает все выданные ему авансом похвалы. Так, например, пишет Гумилев:
Его всегдашняя тема любовь, и он настолько сроднился с ней, воспринял ее сущность, такую земную и такую небесную, что в его стихах совершенно естественны переходы от житейских мелочей к мистическому восторгу. Эти переходы – главная характерность его поэзии109,
еще ярче высказывая свою мысль в другой рецензии: «Как и „Сети“, первая книга М. Кузмина „Осенние озера“ почти исключительно посвящены любви»110. В других рецензиях можно найти упреки в мелкотемье:
Поэзия Кузьмина <sic!> не обязательна, – в ней нет той волнующей и увлекающей силы, которая сопричащает читателя к переживаниям поэта, и потому читатель вправе до конца оставаться холодным и чуждым творчеству последнего111
или в усталости:
«Тихие <sic!> озера» совершеннее первой книги стихов Кузмина «Сети» и по глубине переживаний, и по технической законченности. И все-таки должен сказать, на новой книге легли какие-то тусклые тени, какая-то приметная усталость. Так в изысканном юноше года сменяют манерно-угловатой грацией естественную легкость движений112.
К 1912 году все три (и даже больше) создаваемых «славы» Кузмина понемногу уступили место одной – репутации певца «прелестных мелочей»113. Перед Кузминым встала опасность превращения в салонного поэта, на что намекнул в одной из рецензий Гумилев:
Поэзия М. Кузмина – «салонная» поэзия по преимуществу, – не то чтобы она не была поэзией подлинной или прекрасной, наоборот, «салонность» дана ей, как некоторое добавление, делающее ее непохожей на других. Она откликнулась на все, что за последние годы волновало петербургские гостиные114.
В это время и в жизни Кузмина происходит целый ряд значительных событий. Летом 1912 года он, поссорившись с семьей Вяч. Иванова115, покинул знаменитую «башню», интерьеры и атмосфера которой столь многое добавляли к его публичному образу. После недолгих метаний в апреле 1913 года, Кузмин поселяется в доме беллетристки Е. А. Нагродской, где проживет полтора года. Этот период отмечен несколькими публичными скандалами, смертельной опасностью (в июне 1912-го Кузмин едва не утонул во время водной прогулки, в которой погиб его друг, художник Н. Н. Сапунов), знакомством с Ю. И. Юркуном, ставшим спутником писателя до конца жизни, и напряженной творческой работой. За какие-то пару лет Кузмин решительно сменил окружение, в том числе ближайшее, место жительства и симпатии.
Все это не могло не сказаться на его писательской работе. Можно проследить, как в эти годы в творчестве Кузмина набирали силу несколько параллельных процессов. Во-первых, Кузмин стал писать заметно больше прозы. Хотя он дебютировал одновременно и как поэт, и как прозаик (и даже как музыкант), все же выше ценились его стихотворения, и лирический образ составлял ядро его репутации. С 1910 года вышло два сборника стихотворений («Осенние озера», 1912; «Глиняные голубки», 1914), шесть сборников рассказов и два романа. Количество прозаических произведений постоянно росло: если с 1910 по 1912 год включительно в печати не появилось и десятка рассказов, романов и повестей Кузмина, то за следующее пятилетие, с 1913 по 1917 год, их уже вышло около восьмидесяти, причем наибольшее число было создано в 1915 и 1916 годах, – примерно по двадцать в каждый год116. Такое количество прозы совершенно исключительно для Кузмина – с такой интенсивностью он не писал ни раньше, ни позже обозначенного периода. При этом большие формы (роман, повесть, хроника) сменились малыми – небольшая повесть, новелла, рассказ.
Во-вторых, изменились места публикации. С 1912 года писатель стал отдавать свои рассказы в еженедельники и газеты, такие как «Нива», «Аргус», «Огонек», «Сатирикон», «Биржевые ведомости» и даже в «Лукоморье», имевшее весьма сомнительную репутацию117. Общими чертами этих изданий были их массовость, доступность широкой аудитории и отсутствие единой идеологической платформы. Переход в новые журналы был стимулирован общим состоянием модернистской периодики: уже в 1909 году закрылись «Перевал», «Весы» и «Золотое руно», с которыми Кузмин долгое время сотрудничал. Из его прежних мест публикации остался только «Аполлон», но, продолжая отдавать туда свои стихи и критику, основной площадкой для своей прозы Кузмин делает популярные издания.
Смена мест публикации закономерно сказалась на репутации писателя. Если в 1900-х годах первые отклики на его произведения принадлежали Блоку, Брюсову, Гумилеву – ведущим модернистским критикам и арбитрам вкуса, то в 1910-е годы о Кузмине стали писать более разнородно. На страницах близкого к российским социал-демократам журнала «Современный мир» новые произведения Кузмина предсказуемо (в том числе и потому, что редактором журнала был В. П. Кранихфельд, отметившийся в середине 1910-х выпадами против «Крыльев») ругали за порнографизм и оторванность автора от любых сфер жизни, кроме эротической:
…г. Кузмин сосредотачивает свое внимание исключительно на вопросах любви. Все его персонажи словечка ни о чем не скажут, кроме любви. Никаких иных деяний в человеческом общежитии г. Кузмин и не видит118.
В сохраняющем модернистские традиции «толстом» журнале «Северные записки», отличавшемся эклектичной, но в целом демократической направленностью, новинки Кузмина принимали преимущественно положительно – ему посвятил два уважительных очерка критик А. А. Гвоздев119. На страницах еженедельников и ежемесячников («Новый журнал для всех», «Журнал журналов», «Ежемесячный журнал») к новым произведениям Кузмина принято было относиться скорее иронично: отзыв на роман «Плавающие-путешествующие» в № 1 «Журнала журналов» за 1915 год называется «Плавающие в болоте»120. Обобщая, можно говорить о том, что Кузмин понемногу утрачивал репутацию отстраненного и возвышенного писателя-эстета: не теряя в целом успеха у публики, он становится более досягаемым и, вследствие этого, подвергается более пристальной критике.
Сдвиг в творчестве и позиции писателя отметили некоторые современники, восприняв перемены негативно, – рецензентов (а, вероятно, и читателей) удивило, что один из главных эстетов своего времени внезапно начал выступать в жанре рассказов на бытовые, повседневные темы:
Поразительно, как быстро спал с Кузмина налет новаторства и эстетизма и как ясно выявилось ныне его настоящее лицо – лицо неглупого обывателя, занятно рассказывающего недурные анекдоты121.
В этом настороженном отношении к «новому» Кузмину можно увидеть работу статичной репутации, которая понуждала критиков постоянно «возвращать» писателя к привычным жанрам и темам, усматривая за новыми темами и героями кузминской прозы неумело сокрытые следы его прежней манеры. Пренебрежительные отзывы о новой манере Кузмина можно встретить не только в критике, но и в эго-документах эпохи. А. Л. Соболев приводит письмо П. О. Богдановой-Бельской (Гросс) от 3–4 апреля 1915 года, содержащее довольно негативную оценку тогдашнего творчества Кузмина:
Мое писание не ладится совсем, так как опять-таки наша любовь надолго уничтожила свежесть моей души, да и вообще ее всю, что я могу писать все о том же и том же мучительном. А быть фотографом, каким стал теперь Кузмин, я считаю унизительным для своего художественного чутья122.
Система оценок критиков 1910-х годов перешла почти без изменений и в исследовательскую литературу, где период середины 1910-х принято рассматривать как кризис Кузмина, последовавший за успехом 1900-х годов и предвещавший творческий расцвет более позднего времени:
…путь его [Кузмина] представляется в виде некой кривой, где есть подъемы (начало творчества и постепенное – хотя и с некоторыми отступлениями – движение вверх начиная приблизительно с 1916 года) и спады, наиболее существенный из которых приходится на 1910–1915 годы123.
Такое мнение, вероятно, сформировалось под влиянием поздней дневниковой записи от 10 октября 1931 года, где Кузмин постфактум выносит оценку своим поэтическим сборникам, отмечая невысокий уровень тех, что вышли в начале 1910-х годов:
Перечитывал свои стихи. Откровенно говоря, как в период 1908–1916 года много каких попало, вялых и небрежных стихов. Теперь – другое дело. М<ожет> б<ыть>, – самообман. По-моему, оценивая по пятибалльной системе все сборники, получится «Сети» (все-таки 5), «Ос<енние> Озера» – 3, «Глиняные голубки» – 2, «Эхо» – 2, «Нездешние вечера» – 4, «Вожатый» – 4, «Параболы» – 4, «Нов<ый> Гуль» – 3, «Форель» – 5124.
Красноречиво об этой оценке говорит тот факт, что в изданной биографии Кузмина не упомянуто названия ни одного из пяти сборников его прозы, вышедших в период с 1914 по 1918 год как отдельные тома «Собрания сочинений». О процессах, происходящих в это время в творчестве Кузмина, биографы пишут явно предвзято: «Кузмин все чаще и чаще перемещается в низкопробные „Синий журнал“, „Ниву“, „Огонек“ <…> Кузмин становится проще, яснее – и оттого примитивнее»125, связывая эти изменения с влиянием салона Нагродской126. Так представление о Кузмине – поэте, переживающем кризис, явно заслоняет собой образ Кузмина – довольно успешного и востребованного прозаика. На это, безусловно, оказал влияние факт своеобразного расслоения авторской репутации: в то время как стихотворения Кузмин публиковал преимущественно в модернистских изданиях, со страниц которых они органично входили в литературный процесс, будучи восприняты подготовленным читателем, проза публиковалась в газетах и журналах, становясь частью массовой литературной продукции. В то же время не вызывает сомнений, что современники воспринимали Кузмина и как прозаика.
Разумеется, нельзя совсем сбрасывать со счетов обстоятельства биографии Кузмина и их роль в изменении его авторской стратегии. С 1909 по 1912 год Кузмин жил на «башне» и был непосредственно связан с кругом петербургских символистов, что имело немаловажное значение для распространения его славы, которая на рубеже первых десятилетий XX века была связана в основном с элитарными кругами. С середины 1913 года Кузмин участвует в издаваемом Нагродской журнале «Петербургские (с 1914 года – Петроградские) вечера». Влияние круга Нагродской могло подстегивать писателя создавать более простой, понятный и массовый продукт, выходя к широкому читателю. В то же время кажется довольно опрометчивым придавать этому кругу чрезмерно большое значение, делая ответственным за все шаги Кузмина 1910-х годов. Изменение стратегии писателя подготавливалось ранее: еще до переезда к Нагродским Кузмин начал работать над повестью «Покойница в доме», занимательный и полумистический сюжет которой предвосхищает его прозу последующих лет. Скорее, следует говорить не о прямом отклике на запросы аудитории, а о личном интересе Кузмина, оформившемся к началу 1910-х годов.
Но и рост числа прозаических текстов, и смена мест публикации – лишь внешнее обрамление для более глубокого процесса. Сама кузминская проза начала ощутимо меняться. Прежде всего, Кузмин резко отказался от когда-то составивших его славу стилизаций (под авантюрный роман – «Приключения Эме Лебефа», 1907; под средневековую хронику – «Подвиги великого Александра», 1909 и др.), как и от насыщенного философскими рассуждениями трактата (каковым были «Крылья»). Основной тенденцией прозы Кузмина 1912–1914 годов можно назвать упрощение сюжета и языка. Первое реализуется через освоение жанра короткой новеллы с пуантом, постепенно редуцирующейся до бытового анекдота. Второе – через разработку различных нарративных масок и использование сказа. Если ранее Кузмин выстраивал временную и культурную дистанцию между произведением и читателем, создавая утонченные и достаточно отстраненные стилизации, то в прозе 1910-х годов он стремится всеми силами стереть эту дистанцию. Действие его рассказов происходит в современной ему России. Его герои – городские обыватели, которые говорят на понятном современнику языке, для чего изысканный Кузмин нередко использует нарративные маски простака:
Не думайте, что я так подробно живописую госпожу Захарчук безо всякой цели и что я таким же образом буду поступать с каждым новым персонажем моей повести. Боже упаси! зачем мне так злоупотреблять терпением читателя, да и моим собственным? например, я не останавливался же на реалисте и горничной, и вы даже никогда не узнаете, чем кончилась их история («Капитанские часы», 1913. – Проза, т. 8, с. 315), —
или современного образованного горожанина, почти тождественного ему самому:
Хотя я считался другом Олега Кусова, но видал его раза два, три в год – самое большее («Завтра будет хорошая погода», 1914).
Однако неверно было бы утверждать, что Кузмин стремится к намеренной простоте и даже примитивности своего стиля. За внешне непритязательной формой его прозы проглядывает такая же «сделанность», четкость структуры, большой интертекстуальный пласт, которые характерны для его ранних прозаических произведений. Отметим несколько примеров. Например, в рассказе «Капитанские часы» нарративная маска простодушного обитателя уездного городка сочетается с металитературной игрой – упоминание «Героя нашего времени» и «Поединка» на первой странице повести о быте военных формирует определенную рецептивную рамку, которую автор впоследствии несколько раз восстанавливает и разрушает:
Ах, да, конечно, в провинции есть еще капитаны, подполковники и полковники и даже, к радости всех, кто ценит молодость и красоту, поручики и подпоручики. Кто не воспевал оружие? а русских демонов с светлыми пуговицами научил нас любить Лермонтов, и мы не перестали их любить, что бы ни говорили свободные мыслители. Скажите, вы, дамы, положа руку на сердце (конечно, добродетельное, неиспорченное, настоящее сердце), если бы вам предстоял выбор между книгой Куприна «Поединок» и беседою с офицером, неужели вы живого корнета в галифэ принесли бы в жертву неряшливой книге в серой обложке? Не верю, тысячу раз не верю (Проза, т. 8, с. 312).
Этапом в освоении Кузминым повествования от первого лица и игры с нарративными масками становится сборник «Покойница в доме. Сказки: Четвертая книга рассказов» (1914). В книгу вошли девять сказок, в которых прием диалога с читателем продиктован жанровой связью сказки с ситуацией устного рассказывания. Так, например, в сказке «Послушный подпасок» события прерываются объяснениями рассказчика, оправдывающего свой выбор героини:
Позвольте! Какое же тут сходство? А сходство в том, что дочь тюремщика полюбила Николая. Мы не спорим, что башня, море, Шопен, королева и паж – всё это гораздо поэтичнее, но ведь мы же и пишем не стихи, а простую деревенскую историю и потом уверяю, что дочь тюремщика была нисколько не хуже королевы. Даже не только не хуже, а гораздо лучше. <…> Это, конечно, дело вкуса, но мне дочь тюремщика очень нравится. Да, ведь вы же ее совсем не знаете? Значит, она была беленькая и тоненькая, с заплетенными косичками и зелеными глазками. Ей было 15 лет, и одета она была в костюм того времени, к которому угодно будет читателю приурочить историю. Для Элизы же это решительно все равно, потому что она как душенька «во всех нарядах хороша», хоть бы в водолазном костюме (Проза, т. 4, с. 179).
Изменения затрагивают и сюжетный уровень. Такие рассказы и повести, как «Ванина родинка» (1912), «Покойница в доме» и «Капитанские часы» (обе – 1913), «Шар на клумбе» и «Набег на Барсуковку» (оба – 1914), представляют собой сложные, развернутые повествования, ориентированные на классические образцы (в «Набеге на Барсуковку» в ироничной манере достраивается сюжет пушкинского «Дубровского»127, «Капитанские часы» можно прочитать как вариацию на тему гоголевской «Шинели»). Со временем в кузминской прозе начинает превалировать жанр короткой новеллы с парадоксальным концом, разворачивающейся в современных реалиях. Таковы истории о господине, несчастливом в поиске дамы сердца («Летний сад», 1913), об обманувшейся в матримониальных намерениях своего возлюбленного женщине («Платоническая Шарлотта», 1914), о мужчине, принявшем кредитора заинтересовавшей его женщины за своего соперника («Соперник», 1914), святочный рассказ о случайно подслушанном разговоре из прошлого («Лекция Достоевского. Святочный рассказ», 1913). Однако и здесь нельзя говорить о простой сюжетной схеме: это всегда четко выстраиваемая автором конструкция. Происходящее в этих рассказах – мимолетное событие, которое на мгновение нарушает привычный ход вещей, однако существенно не меняет миропорядка. Господин по-прежнему ищет дам в Летнем саду, Шарлотта остается в экономках, госпожа Гарнье так и не узнает, что мужчина расплатился с ее кредитором, и т. д. Кузмин тратит большие усилия, чтобы тщательно создать в нескольких предложениях определенный художественный мир, затем намеренно вносит в него сумятицу, сталкивает героев между собой, меняет местами, заставляет пройти через непривычный опыт – чтобы в конце восстановить статус-кво и вернуть мир в первоначальное состояние.
Так за внешней простотой кузминской прозы, доходящей порой до примитивности, прослеживается определенная и большая работа над творческим методом. Объяснения происходящим изменениям можно проследить и в критике Кузмина, начиная со статьи «О прекрасной ясности. Заметки о прозе» (1910). В ней Кузмин заявляет о необходимости для писателя строго соблюдать соответствие темы выбранному для ее изложения языку. Соразмерность языка сюжету, по мнению Кузмина, гармонизирует повествование и делает его более цельным: в небольшой современной истории нет нужды прибегать к сложным повествовательным схемам или стилистическим украшениям. Рассказ из теперешней жизни будет воздействовать на читателя только в том случае, если будет изложен просто и буднично, не нарушая иллюзии нефикционального. При этом простота художественной задачи не порицается – осуждения заслуживает лишь неподходящая форма воплощения:
Что же сказать про бытовую московскую историйку, которая была бы одета в столь непонятный, темный космический убор, что редкие вразумительные строчки нам казались бы лучшими друзьями после разлуки? Не сказал ли бы подозрительный человек, что автор пускает туман, чтобы заставить не понять того, в чем и понимать-то нечего? Это несоответствие формы с содержанием, отсутствие контуров, ненужный туман и акробатский синтаксис могут быть названы <…> безвкусием (Критика, с. 6).
По сути, Кузмин говорит о той же художественной задаче, которая стояла перед ним в «Александрийских песнях и «Любви этого лета» – уничтожить элемент фикциональности в художественном тексте, превратив его в максимально искренний и личностный рассказ.
В поисках образца нового творческого метода Кузмин обращается на Запад, находя, что во французской прозе рубежа веков всецело «…развит аполлонический взгляд на искусство: разделяющий, формирующий, точный и стройный» (Критика, с. 7. Курсив автора). Гармония выбранной формы и объекта для описания регулируется внутренними установками писателя: Кузмин называет слово «стиль», признавая за ним отсутствие точного значения. Из статьи можно сделать вывод, что стиль – это одновременно и присущий художнику вкус, и чувство соразмерности всех частей повествования, и получаемая как результат уникальная творческая манера. Существенно важно, в чьих приемах писатель видит присутствие стиля: Кузмин называет Франса («он во всем – прекрасный стилист, и в статьях, и в современных романах, и в чем угодно. Это значит, что он сохраняет последнюю чистоту, логичность и дух французского языка, делая осторожные завоевания, не выходя из пределов характера этого языка»), а из русских прозаиков – Островского, Мельникова-Печерского «…и особенно Лескова – эту сокровищницу русской речи, которую нужно бы иметь настольной книгой наравне с словарем Даля» (Критика, с. 8).
Одним из достоинств прозы Франса для Кузмина была лаконичность128. На наш взгляд, именно влиянием Франса можно объяснить постепенное сокращение объема кузминского рассказа, выдвижение в его центр яркого события, разрешающегося парадоксальной концовкой, а также появление характерных экспозиций. Одним из наиболее часто используемых Кузминым приемов становится сокращение завязки: она нередко редуцируется до одной фразы, в которой называются герои и намечаются отношения между ними. См. такие примеры: «Мой приятель Поль был отнюдь не провинциал, не наивный человек и даже не особенно молод, будучи моим сверстником; единственной его странностью была чрезмерная впечатлительность…» («Летний сад»), «Досада змейкой пробежала по ее лицу при взгляде на карточку, поданную ей читальным мальчиком» («Соперник»), «Иван Иванович Иванов старший был знакомым еще моего отца. Он где-то служил, на ком-то был женат и имел сына Ванечку» («Любви господ Ивановых отца и сына», 1913), «Сегодня все, казалось, сошло с ума: и солнце, и ветер, и улицы, и прохожие» («Напрасные удачи», 1914). Такая завязка является отличительной приметой новеллистики Франса. Приведем в пример начало нескольких его новелл, экспозиция в которых также редуцирована до минимума: «В кабачке, когда мы кончали обедать, Лабуле сказал…» («Адриенна Бюке»), «Окончился срок найма, и г-н Бержере с сестрой и дочерью собрался переезжать из старого обветшавшего дома на Сенской улице во вполне современную квартиру на улице Вожирар» («Рике»), «Говорили о сне и сновидениях, и Жан Марто сказал, что один сон оставил неизгладимое впечатление в его душе» («Жан Марто»)129 и др. Мгновенное введение читателя в художественный мир создает впечатление того, что события выхвачены из потока жизни, а посредничество рассказчика, биографически подобного Кузмину, владеющего бытовым, будничным языком, усиливает эффект правдоподобия130. С другой стороны, сокращение завязки отсылает и к почтенной пушкинской традиции, – например, к началу «Пиковой дамы» («Однажды играли в карты у конногвардейца Нарумова»).
Другое обоснование произошедших изменений в кузминской прозе 1910-х находится в статье 1914 года «Раздумья и недоуменья Петра Отшельника». Она в целом посвящена одной из центральных идей кузминской эстетики – независимости искусства от внешних требований131. Частным поводом к написанию статьи стала ситуация военного времени, которая стимулировала запросы на обязательную «силу», героический и жизнеутверждающий пафос художественного произведения, а также потребовала от литературы сосредоточиться на текущих событиях, характерах и настроениях:
Последнее время со всех сторон раздаются требования силы от художественных произведений, причем силу понимают в ходячем значении этого слова, как бы забывая, что в искусстве оно имеет другое и значение, и назначение (Критика, с. 363).
По мнению Кузмина, общественные директивы проистекают из непонимания массами внутренних законов творчества и ошибочного отождествления его с реальной жизнью, тогда как на самом деле область искусства и сила воздействия его на человека никак не связаны с сюжетом произведения. Поэтому подлинное произведение искусства не обязано иметь ни уникальный сюжет, ни откликаться на актуальные события, чтобы увлечь, заинтересовать и духовно обогатить читателя. Более того, Кузмин указывает на назревшую к середине 1910-х годов усталость от замысловатых сюжетных ходов, которыми писатели пытались подменить духовную и эстетическую слабость своих произведений:
Новизна сюжетов скорее всего изнашивается. Почти все великие произведения имеют избитые и банальные сюжеты, предоставляя необычайные вещам посредственным. Лучшая проба талантливости – писать ни о чем, что так умеет делать Ан. Франс, величайший художник наших дней, недостаточно оцененный за чистоту своего искусства (Критика, с. 363).
Проза, очищенная от избыточного сюжета и показных примет времени, позволяет писателю сосредоточиться на языке, стиле, проработке образов – тех областях, которые Кузмин считал подлинно художественными и о которых писал: «Новизна и „свое“ не в том, что вы видите, а каким глазом вы смотрите, – вот что ценно» (Критика, с. 362). Здесь вновь возникает имя Франса, закрепляя его статус образца для подражания. Примечательно, что выстрел Кузмина достиг своей цели: в рецензии на «Первую книгу рассказов» (1910) Гумилев верно уловил направление кузминской прозы, к которому автор со временем окончательно склонится:
Опытные causeur’ы знают, что заинтересовать слушателя можно только интересными сообщениями, но чтобы очаровать его, захватить, победить, надо рассказывать ему интересно о неинтересном <…> [Кузмин] не стремится стилистическими трюками дать впечатление описываемой вещи; он избегает лирических порывов, которые открыли бы его отношение к своим героям; он просто и ясно, а потому совершенно, рассказывает о том и другом. Перед вами не живописец, не актер, перед вами писатель132.
Однако здесь намечаются два парадокса, как минимум в двух своих положениях Кузмин-критик противоречит Кузмину-писателю. Первое: кузминская проза тех лет тесно связана с современностью. Писатель настаивает, что уход от описания актуальных проблем общества в область чистого творчества позволяет автору сохранять внутреннюю свободу, но сам словно игнорирует это правило. Второе: максимально сокращая дистанцию между фикциональным и нефикциональным в своей прозе (и поэзии), Кузмин в своей критике выступает за четкое отграничение законов искусства от законов реальности.
За этими противоречиями также скрывалась авторская установка, и ее Кузмин раскроет в фельетоне 1916 года «Скачущая современность», где выдвинет идею, что художественным произведениям присуще не только эстетическое, но и дидактическое значение. Писатель, исследуя вкусы и привычки общества, анализирует свою эпоху и доносит ее облик до потомков, выступая в роли эстетического камертона и ролевой модели поведения своего времени:
Современность (столкновение мировоззрений, настроений, желаний, ненавистей, увлечений, мод) более доступна влиянию, и неизвестно еще, влияла ли среда и современность на Достоевского, или наоборот. Я именно думаю, что наоборот. Даже до мелочей, до способа вести споры, до семейных надрывов, истерик и т. п. – все точно повторялось современниками Достоевского (Критика, с. 606).
Возможность влиять на аудиторию – подспудная задача кузминского творчества. В своих рассказах он формирует определенный язык говорения о современности, изящный и грациозный, намеренно оторванный от пафоса и сложности; однако в них же он предоставляет своего рода каталог сценариев, моделей поведения и возможных ситуаций, характерных для современного города. Публикуя свои рассказы на страницах многотиражных изданий, Кузмин претворял в жизнь желание воздействовать на аудиторию, прививать ей хороший вкус как в искусстве, так и в поведении, чего он не мог сделать в полной мере на страницах малотиражных символистских журналов.
В статье «Скачущая современность» обнаруживается еще один любопытный претекст кузминских идей. Хотя Оскар Уайльд упоминается в статье как бы ненароком («Конечно, парадокс Уайльда, что „природа подражает искусству“, и остается парадоксом, и лондонские закаты не учились у Тернера, но мы-то выучились видеть их глазами этого фантаста»), в действительности эссе английского писателя «Упадок [искусства] лжи» («The Decay of Lying», 1889) можно рассматривать как источник некоторых мыслей Кузмина. Так, в основу кузминской статьи ложится уайльдовский афоризм «Искусство никогда ничего не выражает, кроме себя самого»133. В конце эссе Уайльда герой формулирует «догматы» новой эстетики:
[Первый] Искусство ничего не выражает, кроме себя самого. Оно ведет самостоятельное существование, подобно мышлению, и развивается по собственным законам. <…>
Второй догмат заключается в следующем. Все плохое искусство существует благодаря тому, что мы возвращаемся к жизни и к природе и возводим их в идеал. Жизнью и природой порою можно пользоваться в искусстве как частью сырого материала, но, чтобы принести искусству действительную пользу, они должны быть переведены на язык художественных условностей. В тот момент, когда искусство отказывается от вымысла и фантазии, оно отказывается от всего. Как метод, реализм никуда не годится, и всякий художник должен избегать двух вещей – современности формы и современности сюжета.
<…>
Третий догмат: жизнь подражает искусству гораздо больше, чем искусство подражает жизни134.
Кузмин воспринимает все три эти доктрины довольно близко к их изложению Уайльдом, оправдывая возвращение искусства к его внерациональной природе; показывая бесплодность утилитарного подхода к творчеству; указывая на особую общественную и моральную роль писателя, предлагающего читателю модель для подражания135.
Таким образом, в стратегии Кузмина обнаруживается еще один парадокс: попытка его выхода за пределы узкой модернистской среды сопровождается актуализацией эссе «Упадок искусства лжи» – одного из программных текстов раннего этапа развития русского символизма136. Кузмин черпал в эссе Уайльда ресурсы для оформления собственной позиции – защитника классической эстетики в эпоху доминирования утилитарного подхода к искусству. Однако можно и наметить отличие его программы от воззрений круга «Весов». Выход за рамки эстетизма к широкой публике не означал для Кузмина полного забвения канонов хорошего вкуса и стиля, а открывал возможность распространения этих канонов за рамки узкой среды. Можно предположить влияние Уайльда и на эту стратегию Кузмина. Согласно О. Б. Вайнштейн, Уайльд снискал огромную популярность по обе стороны океана не столько как эстет и законодатель мод, сколько благодаря тому, что в определенный момент начал транслировать нормы дендистского поведения на максимально широкую, в том числе низовую, аудиторию:
Благодаря Оскару Уайльду европейский дендизм принял «вызов» массовой культуры, выработав эстетику кэмпа. В деятельности Уайльда происходит переход от элитарного дендизма к игривому кэмпу. Поездка Уайльда в Америку оказалась первым опытом «коммодификации» дендизма – превращения его в коммерческий товар массового спроса. <…> Этот синтетический вариант дендизма был уже снабжен оптимальной рекламной упаковкой и готов для вхождения в массовую культуру137.
Кузмин, несомненно, знал о славе англичанина, однако в какой степени он прямо ориентировался на Уайльда, сказать невозможно. Параллелизм между собой и английским денди Кузмин осознавал: например, его увлечение чтением «Портрета Дориана Грея» совпало по времени с созданием его собственного двойного портрета с В. Г. Князевым – портрет писался Судейкиным летом 1912 года. По этому поводу Кузмин 23 июля этого года сделал в дневнике запись: «„Портрет“ и аналогии мне не очень нравятся»138.
Теоретические и тактические сближения свидетельствуют о том, что кузминская стратегия середины 1910-х годов не стала его абсолютным отказом от «символизма», а была способом адаптации положений эстетизма, культа красоты и самоценности искусства к массовой культуре, – что для Кузмина имело не столько эстетический, сколько этический и дидактический смыслы.
Внимание к современности было продиктовано модой, а в скором времени – и ситуацией войны. Однако оно уже было подготовлено имеющимся у Кузмина интересом: как один из вариантов построения своего образа на заре своей авторской карьеры он рассматривал и амплуа «выразителя современной жизни». В конце 1905 года он поделился с Чичериным планами о написании «современной повести „Шлюзы“»139 и отметил в дневнике: «План и сцены современного романа назревают» (запись от 1 ноября 1905 г.140). В более позднем письме В. В. Руслову Кузмин отстаивает право рассказа «Кушетка тети Сони» быть современным, невзирая на старомодность стиля:
Относительно же «Кушетки» я буду спорить, не боясь показаться в смешном виде собственного защитника. Технически (в смысле ведения фабулы, ловкости, простоты и остроты диалогов, слога) я считаю эту вещь из самых лучших, и, видя там Ворта, <…> не вижу пастушка и Буше. Это современно, и только современно, несмотря на мою манерность141.
Присутствие современных тем в произведениях Кузмина ощущали уже первые рецензенты. В критике с конца 1900-х, параллельно отмеченным нами константам репутации, развивалась и мысль о том, что поэзия Кузмина, несмотря на экзотичность локаций, понятна и нужна сегодняшнему читателю. Блок подчеркнул этот парадокс в своей рецензии на «Сети»:
Он [Кузмин] – чужой нашему каждому дню, но поет он так нежно и призывно, что голос его никогда не оскорбит, редко оставит равнодушным и часто напомнит душе о ее прекрасном прошлом и прекрасном будущем, забываемом среди волнений наших железных и каменных будней. <…> Недаром, читая стихи Кузмина, я вспоминаю городские улицы, их напряженное и тревожное ожидание142.
Симптоматична и рецензия А. Белого на «Приключения Эме Лебефа»:
Я не знаю, есть ли в таланте Кузмина что-либо вечное; я не знаю, обеспечен ли в будущем интерес к его темам. Он писатель наших дней. Он много дает теперь, сейчас143.
Многолетний друг Кузмина Чичерин отметил в «Александрийских песнях» не столько новаторство темы, сколько глубокое проникновение в суету «живой жизни» ушедшей эпохи: «…до сих пор ты ничего не писал столько адэкватно-античного, столь живого, как куски целой действительности…»144 Однако мысль о том, что творчество Кузмина откликается на духовные потребности современного человека, все же не выходила на первый план рецепции писателя, где господствовали иные образы145.
Публикация поэтических сборников «Осенние озера» и «Глиняные голубки», в которых древность и стилизация отходили на второй план, дали новый виток разговорам о Кузмине как о выразителе чувств своего поколения. Об этом писали столь несхожие по творческим убеждениям критики, как эпигоны символизма Николай Бернер:
Кузмин своим творчеством создает подлинную романтику современности; в калейдоскопе городских постижений проходит сладостно-скорбная повесть изысканной души его146, —
и Любовь Столица:
Это – желание поэта отрешиться от жеманничанья и кокетничанья, так присущих его прелестной Музе, Музе, зачастую нарумяненной и нередко с пикантной мушкой на щеке; а затем и стремление к большей простоте переживания, к высшей чистоте выражения – как бы некий поворот из парка на проселок, как бы легкий прыжок из окна салона на улицу147, —
а также Гумилев («его по-современному чуткая душа придает этим старым темам новую свежесть и очарование»148). При этом статичная репутация Кузмина в эти годы продолжала транслироваться в основном в провинциальной и популярной прессе, хотя и оставалась довольно значительной:
…ни шири, ни глубины нет в поэзии Кузьмина <sic!>; его лирика – отражение души, замкнутой в круг однообразных и несложных, но утонченных переживаний149;
У корейцев существует обычай завертывать богатого покойника в целую дюжину разноцветных одеял – из дорогой старинной парчи. Вот такого покойника мне всегда напоминает стилизаторская поэзия Максимилиана Волошина и Михаила Кузмина. Их посыпанные стилизаторским пеплом строки – взятая каждая в отдельности – старательно выточены и раскрашены, но одна с другою нимало не связаны, как одеяла на трупе150.
Таким образом, в целом уже в начале 1910-х годов Кузмин подготовил почву для удачной смены писательской стратегии. В рассказах, начавших выходить с 1912 года, современность обретала все более четкие контуры: сюжеты разворачивались в современных реалиях, герои говорили будничным языком, упомянутые предметы, места или произведения искусства были аккуратно вписаны в короткий временной отрезок, включающий в себя настоящее. Тенденция к сокращению дистанции между автором и читателем естественно привела автора к необходимости прямо откликнуться на происходящее, что он и сделал в книге «Военные рассказы» (Пг.: Лукоморье, 1915). Этой книгой Кузмин очевидно хотел закрепить свой успех.
108
Это рецензии в: Аполлон. 1912. № 8; Гиперборей 1912. № 1; Ежемесячные литературные и научно-популярные приложения к журналу «Нива». 1912. № 11. Републикованы в: Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. Письма 27–29 соответственно.
109
Гумилев Н. С. М. Кузмин. «Осенние озера». Изд. Скорпион. М., 1912 г. Ц. 1 р. 80 к… С. 156 (Гиперборей. 1912. № 1).
110
Там же. С. 154 (Аполлон. 1912. № 8).
111
Ховин В. [Рец. на: ] Осенние озера. Вторая книга стихотворений М. Кузмина. К-во «Скорпион». Москва, 1912 г. Ц. 1 р. 80 к. // Новая жизнь. 1912. № 10. Стлб. 259–260.
112
Кречетов С. Заметки о текущей русской литературе // Утро России. 1912. № 266. 17 ноября. С. 7.
113
См., например, у Н. Бернера: «Что касается Кузмина, поскольку он выявил себя в первой книге „Сети“ – его поэзия в границах немногих ощущений, в „очаровании милых мелочей“, придающих облику поэта что-то наивное, почти женское» (Бернер Н. О Кузмине по книгам стихов «Сети» и «Осенние озера». С. 339).
114
Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. С. 153–154 (Аполлон. 1912. № 8). Об этом эпизоде впоследствии будет вспоминать Ахматова: «Коля написал рецензию на „Осенние озера“, в которой назвал стихи Кузмина „будуарной поэзией“. И показал, прежде чем напечатать, Кузмину. Тот попросил слово „будуарная“ заменить словом „салонная“ и никогда во всю жизнь не прощал Коле этой рецензии…» (Чуковская Л. К. Записки об Анне Ахматовой: В 3 т. Изд. 5-е, испр. и доп. М.: Согласие, 1997. Т. 1. С. 173–174).
115
Формальным поводом послужил отказ от женитьбы на падчерице Иванова В. К. Шварсалон, беременной от своего отчима. Свою роль сыграли как охлаждение Иванова и его круга к новым произведениям Кузмина, так и изменившееся отношение самого Кузмина к произведениям и репутации Иванова (в начале 1912 года Кузмин опубликовал ироничную рецензию на сборник Иванова Cor Ardens в журнале «Труды и дни»). После отъезда из квартиры Иванова Кузмин активно рассказывал о причинах ссоры богемному Петербургу, что привело к одной из известных дуэльных историй тех лет. См.: Богомолов Н. А., Малмстад Дж. Э. Михаил Кузмин. С. 210; Кобринский А. А. Дуэльные истории Серебряного века: Поединки поэтов как факт литературной жизни. СПб.: Вита Нова, 2007. С. 327–364.
116
Подсчитаны произведения Кузмина, вошедшие в 12-томное собрание его прозы.
117
О репутации журнала, переживавшей весь период его существования (1914–1917 гг.) несколько взлетов и падений, см.: Лекманов О. А.* У «Лукоморья»: К истории одного «националистического» издания // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia. Тарту, 2011. Вып. XII: Мифология культурного пространства: К 80-летию Сергея Геннадиевича Исакова. С. 411–426. Исследователь отмечает, что после 1915 года суворинское издание нельзя однозначно назвать сомнительным или низкопробным. Осенью 1915-го Кузмин сначала подписал коллективное письмо группы литераторов, объявивших о прекращении сотрудничества с «Лукоморьем», а затем выпустил отдельное публичное письмо, в котором известил, что продолжает сотрудничать с журналом. Подробнее об этой истории см.: Кузмин М. Дневник 1908–1915. С. 751–752. Выскажем предположение, что Кузмин ценил «Лукоморье» как эклектичную платформу, на которой мог выступать с самыми разными произведениями, что он и делал с апреля 1914 года по февраль 1917-го. Скандальная репутация издания не была препятствием для Кузмина – гораздо важнее были регулярность выхода, исправная выплата гонорара и популярность иллюстрированного журнала в широких кругах.
118
Ожигов А. В узком русле. «Маскарад чувства» Марка Криницкого – «Плавающие-Путешествующие» М. Кузмина – «Ольга Орг» Ю. Слезкина // Современный мир. 1915. № 4. С. 181.
119
Гвоздев А. 1) Литературная летопись // Северные записки. 1915. № 5–6. С. 135–140; 2) Литературная летопись // Северные записки. 1915. № 11–12. С. 227–244.
120
Василевский И. Плавающие в болоте // Журнал журналов. 1915. № 1. С. 19; подп.: И. В-ский.
121
Левидов М. [Рец. на: ] М. Кузмин. Антракт в овраге. Рассказы. Т. 8 // Летопись. 1917. № 1. С. 308.
122
Соболев А. Л. Аметистовая свинка: Новые материалы к биографии П. О. Гросс // Соболев А. Л. Тургенев и тигры: Из архивных разысканий о русской литературе первой половины XX века. М.: Трутень, 2017. С. 126.
123
Богомолов Н. А., Малмстад Дж. Э. Михаил Кузмин. С. 174.
124
Кузмин М. Дневник 1931 года / Вступ. ст., публ. и примеч. С. В. Шумихина // Новое литературное обозрение. 1994. № 7. С. 177.
125
Богомолов Н. А., Малмстад Дж. Э. Михаил Кузмин. С. 221, 222.
126
Подобные мнения высказывали современники писателя. Например, в статье Г. В. Иванова «О Кузмине, поэтессе-хирурге и страдальцах за народ» (Сегодня. 1930. 2 февраля) переезд Кузмина прямо связан с его обращением к беллетристике: «Кузмин расположился у X. [Нагродской] много комфортабельнее, чем у Вячеслава Иванова. И в прямом, и в переносном смысле. Тон глубокомысленных беседований и „волхований“ Кузмину давно надоел. Ему хотелось резвиться. Переезд с Таврического на Мойку тотчас же отразился и на его писаниях. С „высокой“ литературой было покончено, в права вступила литература легкомысленная» (Иванов Г. В. Собр. соч. Т. 3. С. 333).
127
См. анализ рассказа в: Кобринский А. А. Кузмин и Пушкин, или Кем и для чего был совершен «Набег на Барсуковку»? // Кобринский А. А. О Хармсе и не только: Статьи о русской литературе XX века. СПб.: Свое изд-во, 2013. С. 215.
128
Так, рецензируя пьесу Н. Минского «Малый соблазн» («Заметки о русской беллетристике». – Аполлон. 1910. № 8), Кузмин отмечает непомерный объем пьесы и тяжелый язык там, где «А. Франс или Р. де Гурмон уронили бы странички три золотой, улыбчивой прозы» (Критика, с. 37).
129
Франс А. Собр. соч.: В 8 т. / Под общ. ред. Е. А. Гунста, В. А. Дынник, Б. Г. Реизова. М.: ГИХЛ, 1958. Т. 5. С. 216, 190, 247.
130
Позднее, переводя отдельные новеллы Франса в 1920-е годы, Кузмин сохранит особенности экспозиции автора: «Ортер, основатель „Звезды“, политический и литературный редактор „Национального обозрения“ и „Иллюстрированного нового века“, – Ортер, приняв меня, сказал из глубины своего редакторского кресла…» («Эдме, или Благодеяние кстати». – Франс А. Избранные рассказы / Сост. А. С. Кулишер, И. С. Ковалева, Н. А. Таманцев. Л.: Худож. лит., 1959. С. 534).
131
Идея самоценности искусства и его существования параллельно действительности оформилась у Кузмина намного раньше. В недатированном письме Г. В. Чичерину, относящемуся приблизительно ко второй половине 1890-х годов он пишет: «Чистое искусство зарождается и завершается в своем собственном замкнутом, оторванном от всего мира круге с особыми требованиями, законами, красотой и потребностями, как мир больного и безумца (хотя бы и идеальный и стройный, но в своей обособленности и отвлеченности безумный). Наиболее чистый поэт без прикрас и комплиментов к действительности – это Шелли…» (цит. по: Богомолов Н. А., Малмстад Дж. Э. Михаил Кузмин. С. 41–42). Именно ощущаемый Кузминым разрыв искусства с реальностью стал причиной его духовного кризиса рубежа 1890–1900-х годов.
132
Гумилев Н. С. М. Кузмин. Первая книга рассказов // Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. С. 215–216.
133
Цитаты из эссе «Упадок лжи» даны в переводе С. Г. Займовского. Этот перевод вышел в 1912 году в третьем томе четырехтомного Полного собрания сочинений Уайльда, подготовленного К. И. Чуковским, и, несомненно, был известен Кузмину, который для этого издания перевел несколько стихотворений.
134
Уайльд О. Полн. собр. соч.: [В 4 т.] / Под ред. К. И. Чуковского. СПб.: Т-во А. Ф. Маркс, [1912]. Т. 3. С. 186–187 (Приложение к журналу «Нива» на 1912 г.).
135
Уайльд писал: «Литература всегда предвосхищает жизнь. Она не копирует ее, но придает ей нужную форму. <…> Мы просто выполняем, с примечаниями и ненужными добавлениями, каприз или фантазию творческого ума великого романиста» (Уайльд О. Полн. собр. соч. Т. 3. С. 176.
136
Эссе Уайльда было хорошо известно в литературной среде начала XX века, с 1899 по 1910 год. сборник «Замыслы» переводился не менее четырех раз (Павлова Т. В. Оскар Уайльд в русской литературе (конец XIX – начало XX в.). С. 102). Как показывает Т. В. Павлова, положения из сборника Уайльда Intentions («Замыслы»), в которое вошло это эссе, перенесенные на русскую почву некоторыми авторами «Северного вестника», оказали прямое влияние на формирование идеалистической концепции нового искусства, развитой впоследствии кругом «мирискусников» и достигшей апогея в «Весах».
137
Вайнштейн О. Б. Денди: Мода, литература, стиль жизни. М.: Новое литературное обозрение, 2005. С. 473.
138
Кузмин М. Дневник 1908–1915. С. 368. Этот портрет не сохранился (см.: Там же. С. 727).
139
Письмо Г. В. Чичерину от 13 декабря 1905 г. (Кузмин М. А., Чичерин Г. В. Из переписки. С. 400).
140
Кузмин М. Дневник 1905–1907. С. 64.
141
Письмо от 8–9 декабря 1907 г. цит. по: Богомолов Н. А. Вхождение в литературный мир. Письма Кузмина к В. В. Руслову // Богомолов Н. А. Михаил Кузмин: Статьи и материалы. С. 209. Курсив наш. – А. П.
142
Блок А. А. Письма о поэзии. 3. «Сети» Кузмина. С. 45.
143
Белый Андрей. [Рец. на: ] М. Кузмин. Приключения Эме Лебефа. С.-Петербург, 1907 г. «Три пьесы» 1907 года. Отпечатаны «Вольной типографией» // Перевал. 1907. № 10. С. 52; подп.: Б. Б-ев.
144
Письмо Г. В. Чичерина от 4/17 сентября 1905 г. (Кузмин М. А., Чичерин Г. В. Из переписки. С. 360. Выделено автором. – А. П.).
145
Можно привести также несколько примеров взаимопроникновения разных образов Кузмина, учитывающих как «современную» направленность его творчества, так и более привычную рецептивную рамку: «Но современность так же близка Кузмину, как и далекая, забытая Александрия. И в ней неустанно отыскивает он ту же утонченность и сложность переживаний „любовь до завтра“ <…> И в ней влечет его „Дух мелочей, прелестных и воздушных“» (Леман Б. Михаил Кузмин. С. 387–388); «У него нет ни слова современности. Но потому нам и дороги умирающие маркизы, что в них мы чуем себя» (Эренбург И М. Кузмин. С. 2).
146
Бернер Н. О Кузмине по книгам стихов «Сети» и «Осенние озера». С. 341–342.
147
Столица Л. [Рец. на: ] М. Кузмин. Глиняные голубки. Третья книга стихов. Издание Семенова. Петроград. 1914 г. Цена 1 р. 50 к. // Новая жизнь. 1914. № 11. С. 172.
148
Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии М. Кузмин. Осенние озера. Вторая книга стихов. М., Изд. «Скорпион». 1912 г. 1 р. 80 к. // Гумилев Н. С. Письма о русской поэзии. С. 156. Впервые: Гиперборей. 1912. № 1.
149
Ховин В. [Рец. на: ] Осенние озера. Вторая книга стихотворений М. Кузмина. С. 259.
150
Войтоловский Л. Н. Парнасские трофеи. М. Кузмин «Осенние озера» // Киевская мысль. 1912. № 286. 15 октября. С. 2.