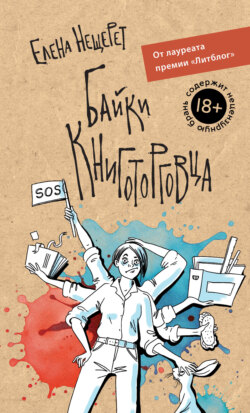Читать книгу Байки книготорговца - - Страница 3
А что, разве кто-то в наше время еще читает не с телефона?
ОглавлениеЧто интересно, этот вопрос задают обычно не центровые технократы, обвешанные навороченной техникой. Нет, это вопрос таксистов (которые почти всегда неместные). И еще этот вопрос очень любят туристы из глубинки, которые спрашивают Достоевского и бестселлеры десятилетней давности. А москвичи, да и питерцы уже, видимо, привыкли к ренессансу винила, начали воспринимать бумажные книги как очень дорогие предметы гордости, коллекционирования и подкрепления статуса и перестали удивляться.
Иногда я отвечаю прямо: нет, никто больше не покупает бумажные книги. Это магазин-призрак. Он поднимается со дна Финского залива раз в десять лет на один день. Купи хоть наклейку, Нильс Хольгерссон, избавь нас от векового проклятия.
Но давайте я достану свой дедовский пояс из собачьей шерсти, бахну любимой кактусовой настойки и расскажу, как оно бывало давеча и почему давеча – не то, что нонеча, а заодно и какая бывает бумага и почему, на мой взгляд, не перевелись еще любители этого безнадежно устаревшего формата.
Для ребенка из деревни, который пал на колени с воплем восторга при виде «Читай-города» на окраине города Орла, потому что это был первый в его жизни книжный магазин, особой разницы между книгами не было. Большие и малые, на мелованной бумаге и на газетной в переплетах и обложках, они несли информацию и уже потому были прекрасны.
А еще как-то так само собой вышло, что ни у кого из нас не было ужаса перед пометками в книгах. Наша детская часть библиотеки – воплощенный кошмар аккуратной бабушки. Книги порваны, склеены, порваны снова в других местах, снова склеены, изрисованы, пошли волнами от дождя или от пролитой воды с остатками акварели, кое-где изжеваны.
Сейчас у нас в магазине есть три итальянские книжки, где просто можно рисовать прямо на страницах, прямо на оригинальных иллюстрациях. Естественно, я очень часто слышу вопли ужаса: «Как, рисовать?! Как, прямо в книжке?! Но ведь если ребенок поймет, что в книжках можно рисовать, его будет не остановить!» Дальше предлагается представить звуки обрушения мира под обстрелом сил хаоса в лице трехлетки с фломастером.
Наемному работнику в магазине следует помнить, что он здесь не для проповедей, а для продаж, и ужас – не самая удобная в торговле эмоция, хотя и далеко не бесполезная, так что до «ну и что такого, пусть разрисовывает» я почти никогда не дохожу: затыкаюсь, то есть перевожу разговор на другое. В конце концов, творческая свобода – тоже привилегия, и расстраивать людей, которые таковой лишены, даже как-то жестоко. Но иногда все же хочется прокрутить перед их глазами кое-какие кадры из моего прошлого и посмотреть на реакцию.
Вот братец с восторгом заучивает наизусть «Песнь о Вещем Олеге», где некоторые слова очень ловко карандашиком заменены на нецензурщину. Ему повезло с библиотечной хрестоматией по литературе – до него ею владел настоящий поэт из народа. Вот мама натыкается на очередные художества мелких в сборнике сказок на ночь – и забирает разодранную и изрисованную страницу с собой в мастерскую, потому что увидела в их каракулях какое-то удачное композиционное решение и собирается применить его в своей взрослой работе. А вот я на клиросе учу младшего братца церковному чтению и совершенно прозаически проставляю дополнительные пометки карандашом… в осмогласнике конца XIX века. Его форзац, кстати, был заполнен надписями: разные руки, разные чернила. Следы перемещений – собрание такого-то, передан в дар такому-то, потом от такого-то – приходу, потом другому приходу. Кто-то, как и мы, оставлял внутри облегчающие чтение пометки. Кто-то дописывал слова на заплатках, где страницы истлели от перелистывания. Кто-то просто случайно капал свечками. Читая вслух повторяющиеся каждые восемь недель формулы, я была кусочком этой огромной череды экклесиархов – большей частью безымянных, с судьбами, которые никогда не будут мне известны, тоже стоявших здесь, в храме Архангела Михаила, тоже совершавших эти усилия – голоса, натруженных коленей, слегка обожженных воском пальцев. Потом мы почти случайно найдем в лесу, под слоем просевшей земли, одного из тех, кто тоже этой книги касался, пока его не расстреляли. Есть связь между мной, первопечатником Иваном Федоровым и этим расстрелянным сельским попом, который в свое время наверняка, как позже мой отец, показывал по этой книге хористам обрядовые тонкости. Сельского попа тоже звали Иван Федоров.
Так что я могу пафосно обосновать свое внутреннее право портить книжки, но на работе пока помалкиваю, чтобы особо рьяные блюстители святости книг меня не записали в Геростраты.
Но что там, однако, с бумагой?
А вот что.
Когда я наконец-то со второго раза устроилась в «Буквоед», там было внутреннее обучение. И на лекции с самым скучным на свете названием «Тренинг по продажам» нас ждало настоящее сокровище. Оно явилось нам в виде потрепанного мужичка в разбитых кедах, который начал с фразы, четко поделившей мою жизнь на до и после. Фраза была такая: «Вы, наверное, думаете, что книги стоят слишком дорого и человек обеднеет, если купит их слишком много. Но книги – это роскошь. Любой, кто зашел в книжный магазин, богаче вас. Если он пришел сюда, он уже готов потратить немного денег просто так – не на еду и не на одежду. Значит, они у него лишние».
Как же мне в этот момент хотелось вскочить и заорать что-нибудь вроде «Дядя, ты неправ!», но я решила подумать две минуты над его словами и нашла внутри себя вот что: каждый раз, когда мне действительно нужна была книга, я находила способ ее добыть бесплатно. Так что платить имело смысл действительно скорее за радость обладания, чем за информацию. И это я, ребенок из деревни, явно страдающий от отсутствия навыков пользования поисковиками.
Позже я поняла, что мужичок в кедах действительно был не вполне прав, и поспорить с ним в принципе было можно, но не очень-то и нужно. Главное, что дали мне его слова, – установку: сейчас бумажная книга – это роскошь. А значит, мало представить продукт, нужно дать к нему историю, пообещать эмоции. И еще: объективные критерии качества книги, конечно, существуют, но привязываться к ним глупо. Тем более что представления о качественном дизайне и материалах у всех настолько разные, что аж оторопь берет.
В незапамятные времена, году в девятнадцатом, был случай. Зашла дама в эдакой взрослой шубе и спрашивает:
– Где у вас книги, которые сейчас читают все подростки? Только чтобы они были не переводные.
– Ну вот, например, наша книга месяца – «Часодеи». Суперпопулярная серия. Как раз первый том со скидкой. Это приключенческое фэнтези.
– Вы меня обманываете!
– Какой мне смысл?
– Если бы книга была популярная, она не была бы напечатана на такой… – тут она взяла книгу за угол, как грязную тряпку или дохлую крысу, так, что та повисла в воздухе, раскрывшись, и тут же с отвращением отбросила обратно на выкладку, – …туалетной бумаге.
Когда я сильно злюсь, у меня делаются жизнерадостные интонации токсично-позитивного диснеевского персонажа. Тогда я так разозлилась, что моя улыбка начала материализовывать из воздуха шарики, конфетти и фейерверки.
– Давайте я вам расскажу про разницу между туалетной бумагой и газетной! – И голос у меня такой делается тоже рекламный. – Вы, наверное, нечасто пользуетесь туалетной бумагой. Дело в том, что на ней очень сложно печатать именно книги! Туалетная бумага с «приколами» – технически совершенно другая история, тогда как газетная (кстати, ее можно использовать вместо туалетной, если так, знаете, смять и потереть), тоже довольно дешевая, и уж на ней…
Тут дама поняла, что над ней издеваются, и ускакала, едва не лопаясь от гнева. А я призадумалась и продолжила наблюдение.
Ладно ненависть к газетке, под которой люди, пишущие отзывы на маркетплейсах, разумеют все виды сероватой бумаги. Интереснее всего с кремовой. То ли у меня в маленьком книжном сбились настройки, то ли явная ненависть к ней действительно постепенно уходит – но раньше дорогущую бумагу lux cream, у которой был приятный и полезный глазу теплый оттенок, легко было вычислить по отзывам вроде «хорошая книга, но бумага какая-то желтая, невысокого качества». Откуда это? Сказывается советская привычка к бумаге всего лишь трех видов – газетной, беленькой и мелованной? Хотя мелованная вроде бы сдает позиции и все меньше людей считают ее истинным признаком роскоши. У меня недостаточно данных, хоть иди учись сразу на типографа и на антрополога.
Или вот недавно был противоположный случай, речь шла как раз о меловке. Пришла постоянная покупательница А., которая училась во Франции, лет двадцать работает в модной индустрии и в силу этого имеет обостренный нюх на стильные вещи. И вот с ней диалог:
– Какая приятная книга, но почему, блин, опять на меловке? Сколько можно, это же портит впечатление!
– Потому что здесь графика с кучей мелких-премелких деталек. Нужна четкость, поэтому меловка. На ней очень хорошо печатать тонкие четкие линии, очертания не искажаются.
– Но ведь есть плотный матовый картон? Вот как хорошие альбомы печатают, скажем, во Франции, в Италии – тоже полиграфия на высоте, но нет этого идиотского глянца.
– А теперь представьте питерскую бабушку, которая покупает внуку Шерлока Холмса за пятьдесят евро.
– А!
– И вдобавок представьте, как вы ей объясняете, что такая цена именно потому, что бумага не блестит, когда для нее всю жизнь меловка была показателем хорошего издания.
– Но что делать?
Дальше я заикнулась было про «потихоньку терпеливо объяснять, что…», да так и заткнулась, потому что вспомнила все случаи, когда покупатели отказывались от сказок с иллюстрациями Билибина из-за того, что, цитирую, «тусклые цвета какие-то и непонятные контуры» – не круто, внуки не поймут.
Я же не понимаю двух вещей: зачем ребенку от года до трех русские народные сказки и что после трех может быть непонятного в плакатно-декоративном, нарочито ясном Билибине. Но говорить это вслух бессмысленно, потому что не за тем люди приходят в книжный.
А за чем?
За мечтой, за ностальгией, за удобством, из любопытства. При этом любопытный тоже может быть упертым и закрытым, и устраивать ему тотальную переоценку ценностей и слом парадигмы не дело продавца. По крайней мере, пока человек сам об этом не попросит.
Так что там с бумагой? Какая нужна бумага? Да всякая. Пару раз у меня не купили Atlas Obscura в подарок боссу, потому что всем был хорош атлас – и темой, и обложкой, и картинками, но, зараза такая, не блестел. А однажды пришел дяденька возраста моего отца, в пиджаке и при галстуке ценой в полмагазина.
– Как думаете, что подарить начальнику? Он примерно как я, только еще старше и серьезнее.
– У любого мальчика, не важно, сколько ему лет и сколько у него денег, в жизни должны быть моря и дальние страны.
Снимаю на этих словах ему пресловутый атлас, а он с огромным энтузиазмом:
– Дайте два! Второй мне!
В моей фразе про мальчика было много чего так себе, начиная с фамильярности, но она внезапно выстрелила человеку прямо в мечту и попала. Я эти фразы сочиняю вслепую и произношу случайно – потому что за недостатком времени и сил еще не выучилась на рекламщика и даже не заняла кресло в тайном мировом конгрессе рептилоидов. И уже, кажется, не займу, потому что в последнее время, скорее, боюсь видеть очередные доказательства того, как люди легко управляемы.
Приходят вот две дамы:
– Нам Чуковского. Только, пожалуйста, не с этими дурацкими новыми картинками.
– Вот, Майофис, к примеру.
– Ну что я говорила! Опять этот ужас. Современным детям после хагги-вагги, может, и нравится, но я своему ребенку такое показывать не буду!
И тут я решаю, что обеденный перерыв был слишком давно, а значит, я уже достаточно голодна и зла, чтобы побыть бульдозером, и ласково так говорю:
– Вы, наверное, просто сами в детстве читали мало. Или слишком поздно родились. Потому что очень сложно не узнать классические (тут главное было не увлечься и не выпустить раздвоенный язык: слово-то очень шипящее) иллюстрации конца шестидесятых годов.
– Ой, – спохватывается вторая дама, хотя тоже явно в первый раз видит Майофиса, который, конечно, велик и известен, но и критики в эти шестидесятые получил предостаточно. – Что-то такое и правда было! Давай возьмем? – И они уходят с этим несчастным «Лимпопо», прихватив заодно (возможно, с перепугу) парочку недешевых репринтов детских стихов тридцатых годов.
А я остаюсь размышлять, почему до сих пор так хорошо работает манипуляция стыдом. В следующий раз надо будет поставить будильник на обед, потому что избиение младенцев, пусть они в два раза старше тебя и в три раза лучше одеты, – недостойное занятие.
Но вернемся к бумаге, а точнее – ко всему, из чего книга состоит.
Качественная верстка, продуманный дизайн, само устройство книги, которое влияет на удобство чтения куда больше, чем хорошая или плохая бумага, – это все очень незаметные штуки. Нужна насмотренность, чтобы отличать хорошие решения от плохих, нужен какой-то базовый вкус. Да где ж его взять, когда в советское время не было разнообразия.
В итоге действительно двигают рынок потребители Young Adult, уверенные пользователи интернета, насмотревшиеся на то, что предлагают Tumbler, Pinterest и TikTok, а самое главное – способные покупать то, что им понравится. Ради них издатели экспериментируют со всяческими кармашками, лаками, обрезами и прочей необязательной роскошью. Но «в полях» обычно встречается публика куда более консервативная, потому что маленькому книжному не угнаться за маркетплейсами, на которых быстрая книжная мода как раз живет. В маленьком книжном приходится говорить обо всяких малотиражных штуковинах с бабушками всех возрастов. Мне вот как раз повезло работать в книжном, который пытается усидеть на двух стульях. Вызвавшись продвигать современных российских писателей, мы не отказываемся от авторов фэнтези и прочей «низкой», непремиальной беллетристики, но и снобские радости тоже имеем в некотором количестве. Поэтому иногда кажется, что вся наша жизнь состоит из пинков с разных сторон. Так, однажды со мной натурально отказалась говорить девица с книжицей Рескина под мышкой после того, как я в ответ на запрос «хороший университетский роман» предложила «Зайку» Моны Авад, Vita Nostra Дяченок и «Словно мы злодеи» Рио. Обложки. Ее буквально оскорбили яркие, чересчур развлекательные обложки. Она даже решила не покупать Рескина в этом интеллектуально сомнительном месте.
А уж за напоминание, что книга – это не сияющая неприкосновенная святыня, а физический объект, точно так же, как природа – не храм, а мастерская, лягушки зарезали Базарова еще полтора века назад. Что, не так все было? Ага, и Пушкин на Черной речке не тонул.