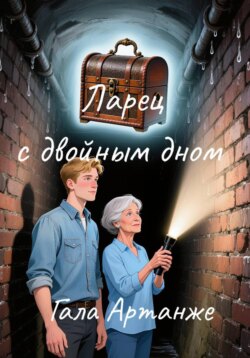Читать книгу Ларец с двойным дном - - Страница 2
Пинг-понг
ОглавлениеВасилий Иванович Арсеньев, известный художник со столичной славой и амбициями, стоял у мольберта в позе страдальца, ожидавшего, что ему вот-вот должно явиться божественное вдохновение или, на худой конец, чашка крепкого кофе. Нечёсаная седая шевелюра придавала художнику сходство с гибридом Репина и постаревшего пирата, у которого отняли ром, но по недосмотру оставили кисти. Свободная льняная рубаха висела на плечах небрежно, но в этом был свой шарм.
Когда дверь мастерской открылась, Арсеньев вынырнул из-за мольберта с таким проворством, что даже сам Джотто ди Бондонне1, увидевший ангела, позавидовал бы.
– Софьюшка! Мы вас ждали, как музу ждут музыканты! Как холст ждёт первого мазка! Как…
– Слишком громко для полудня и чересчур витиевато для человека, у которого вместо завтрака был, судя по запаху, «Каберне» урожая позапрошлого вторника, – хмыкнула Софья, окидывая художника оценивающим взглядом судмедэксперта. – Вы бы ещё скрипку к уху приложили для пущего драматизма. Хотя нет, умоляю, не надо – соседи и так, наверное, решили, что у вас кошка в период романтических похождений.
Василий Иванович по-актёрски схватился за сердце.
– Софьюшка, я уже думал, вы совсем проигнорируете моего бедного «Купца Барышева на фоне набережной». Должен непременно завершить картину к вечеру. Мэр грозится явиться с проверкой и, дай бог, с весомой оплатой.
Софья бегло взглянула на картину и устроилась в кресле с видом театрального критика, прибывшего на премьеру сомнительной постановки.
– Никак не могла пройти мимо такого эпохального события. Особенно если там присутствуют купец, набережная и… отчётливый небрежный след кисти. Скажите, а купец в курсе, что вы делаете на холсте с его репутацией?
Василий Иванович изогнул бровь дугой и шутливо изобразил обиду:
– Это художественная интерпретация, дорогая моя! Метафора внутреннего освобождения! В каждом мазке – история, в каждом оттенке – философская концепция!
Софья тоже подыграла, продолжив атаку:
– А я-то, наивная, думала, что это просто холст, который кто-то обидел не тем цветом и пристроил фигуру не в том месте. Знаете, если бы купец Барышев встал из гроба и увидел эту вашу «интерпретацию», он бы тут же лёг обратно. И крышку гроба придержал бы изнутри. Ваш купец похож на бурлака на Волге, точь-в-точь!
Художник вздохнул с видом мученика первых веков христианства.
– Ах, вы неисправимы, Софья Васильевна! Женщины и искусство – сложные отношения. Как море и засуха. Хотя… – он сделал драматическую паузу, – надо отдать вам должное: критиковать мои творения осмеливаетесь только вы. Остальные либо хвалят, либо молчат в тряпочку…
– Либо падают в обморок, – подсказала Софья. – Но на то они и слабонервные. А я уже закалённая общениями с вашими полотнами.
– Голубушка моя, куда же так быстро испарился ваш восторг от моего творчества? Где все те дифирамбы, греющие мою душу?
– Скажите, Василий Иванович, не планируете ли вы возобновить рисовать натюрморты? – Софья обвела взглядом мастерскую. – Там хотя бы фрукты молчат и не спорят. Яблоко никогда не скажет вам, что вы не уловили его внутреннего мира. Возможно, гнилого. И груша не потребует скрыть второй подбородок.
– Я художник эпохи постиронии! – Арсеньев воздел руки к потолку, призывая небеса в свидетели. – Я выражаю протест против серой обыденности! Я создаю новые формы! Мой Барышев на набережной вобрал в себя всю боль русского народа.
– Понятно, – кивнула Софья. – Протест против перспективы, анатомии и чувства меры. Всё как положено. Интересно, что сказал бы Леонардо, увидев вашу трактовку человеческого лица, перекошенного болью народа? Полагаю, он бы задумался, не пора ли закончить с изобретениями велосипеда, скафандров, парашютов и подшипников и начать осваивать производство очков, чтобы разглядеть боль в этой гримасе.
Арсеньев всплеснул руками, но улыбка расползлась от одного уха к другому:
– Вы невыносимы, Софьюшка! Просто невыносимы! Но вкус у вас, как ни крути, безупречный. А плюшки ваши – настоящее произведение гастрономического авангарда. Такие же непредсказуемые, как и вы сами. – Он облизнулся с видом Софьиного изголодавшегося кота Рамзеса. – Вы их принесли?
– Чуть помедленнее, Вася, чуть помедленнее… – пропела Софья, подражая голосу советского актёра и барда в одном лице. – До плюшек дело ещё не дошло. Сначала красота, потом – еда. Хотя в вашем случае красота – понятие относительное.
Как фехтовальщики, разминающиеся перед турниром, они ещё немного перекинулись шуточками и дружескими шпильками.
Взгляд Софьи зацепился за накрытый тканью холст, притаившийся в углу мастерской.
Она поднялась с кресла, шагнула вперёд с решительностью музейного вора и откинула покрывало.
– А это что за стыдливо прикрытая Мона Лиза? – фыркнула Софья, разглядывая полотно.
На полотне – портрет. Строгое, заострённое мужское лицо. Тяжёлый взгляд из-под седых сердитых бровей. Лицо выглядело перекошенным от ярости, словно владелец лица только что увидел сумму коммунальных платежей в разгар отопительного сезона.
Софья всплеснула руками.
– Батюшки! Да это же Лужин… Директор музейный. Портрет столь живописен, что с одного взгляда патологоанатом установил бы цирроз печени. Василий, дорогой… а вы уверены, что Лужин был жив, когда вы это писали? Или, может быть, вы таким способом торопите события?
Арсеньев отмахнулся, транслируя жестом, что художнику плевать на мнение критиков, особенно если им нечем платить:
– Лужин в расцвете своей старческой красы. А старость – это конец начала. Или начало конца – как посмотреть. Он, кстати, просил немного сгладить, но я же реалист…
– Вы его не сгладили. Вы его художественно прикопали, – покачала головой Софья. – Вы изобразили Бориса Годунова в день апоплексического удара. Причём посмертно. Кстати, а зачем Лужину вдруг понадобился портрет? Неужели решил напугать внуков, чтобы те лучше учились?
– Каких внуков? Их у него нет. Как и детей, кстати… Город заказал. К восьмидесятилетию, – пояснил Арсеньев, подливая вина. – В краеведческом музее и повесят. Рядом с чучелом лося и коллекцией минералов. А бессменного директора, – он понизил голос до театрального шёпота, – наконец-то отправят на заслуженную пенсию. Ему и замену уже нашли. Из Приславля. Но Лужин пока не в курсе. Думает, что будет стоять у руля своего судна до скончания музейных веков.
Софья хмыкнула:
– Подарочек с подвохом. Если бы Аркадий Михайлович увидел этот портрет в нынешнем виде, сам в отставку сбежал бы. Без шума и, возможно, даже без портфеля. Прямо с юбилейного банкета – и в закат.
– Софьюшка, – вздохнул Арсеньев, – я ведь чувствую: этот город не готов к моему искусству. Москва – да. Приславль – возможно. Но не Энск. Здесь культура остановилась на уровне «Трёх богатырей на привале».
– Не переживайте, Василий, город ко многому не готов, – утешила его Софья. – Особенно к своему юбилею в вашем оформлении. Вы ведь так и не явились декорировать сцену. Ладно, шутки в сторону – сейчас мыть руки и за стол к моим плюшкам. Кстати, а где ваша дочь? Вы же говорили, что Маргарита почтит нас присутствием.
– Побежала на площадь посмотреть на молодые дарования, – Арсеньев изобразил жест благословения. – Там какой-то вундеркинд в шесть лет уже экспрессионизм пишет. Рита сказала: «Папа, ты в шесть лет только под столом гулял». Обидно, знаете ли, от дочери такое услышать, – улыбнулся он.
Конечно же, Софья твёрдо знала, где в этом мире порядок, а где – хаос, и поэтому уверенно заявила:
– Вундеркинды – от лукавого. В шесть лет ребёнок должен пачкать обои, а не философию мазать по холсту. Я в этом возрасте вообще думала, что Пикассо – это танец древних народов мира.
Наконец, они закончили разговоры о живописи и прошли на кухню. Софья поставила на стол корзинку с плюшками, уселась поудобнее, расправила юбку, вдохнула аромат ванили и творога и улыбнулась художнику:
– Угощайтесь, домашние. Ещё тёплые. Творог – с фермерского рынка. Не тот, из пакета, где крахмала больше, чем молока. Настоящий, от бурёнки, помнящей зелёную травку.
Плюшки оказались на редкость удачными – хрустящие края напоминали осенние листья, а мягкий, сладковатый творожок внутри, таял на языке с дерзостью первого снега.
Арсеньев примостился у окна, поигрывая отражением света на бокале красного вина.
– Вам бы не в расследованиях копаться, Софья Васильевна, а на кулинарном канале блистать. С такими талантами вы бы и Юлию Высоцкую заставили взять у вас мастер-класс.
– А вам бы, Василий Иванович, не в художники, а в гримёры деревенского театра, – парировала Софья. – Грим у вас – просто загляденье. Особенно в портретах. А вот с драматургией пока слабовато. Хотя страх вы вызвать умеете – я заметила.
– А вы… вы не просто очаровательно язвительная дама, Софья Васильевна, вы бедствие для диеты, – с притворным страданием заметил он, надкусив плюшку, – после ваших кулинарных шедевров мой очередной натюрморт с грушами станет автопортретом.
– А вы, Василий Иванович, – бедствие для женских образов, – не осталась в долгу и Софья. – Последняя ваша «Мадонна» похожа на председательшу ЖКХ «Волжские просторы» Пучкову Ольгу Григорьевну. И что вы, мужики, все на неё так залипаете?
– Это аллюзия! – отбивался Арсеньев, размахивая руками, как ветряная мельница в шторм. – Символ эпохи! Реализм, замешенный на гротеске и…
– …силиконе и ботоксе? – закончила за него Софья и подмигнула. – Символизм у вас замешен на Каберне. Причём недопитом. А реализм – на фантазиях о том, что критики не заметят отсутствия перспективы. Но я вам по секрету скажу – заметят. Особенно те, кто трезв.
Они ещё немного поиграли в словесный пинг-понг, где каждая реплика могла бы показаться постороннему ударом по самолюбию собеседника. Но на самом деле приятели привыкли к такой подаче «мяча» и оба наслаждались результатом.
Софья добралась до второй плюшки, запила ароматным чаем и вдруг стала серьёзной.
– А что вы скажете про строительство торгового центра, Василий Иванович? Думаете, получится проект?
– Торговый центр? Возможно, и получится, если уже есть решение. Там интересанты крутятся, как акулы вокруг раненого кита. Деньги, власть… люди в костюмах дороже вашей машины. А я-то художник, мне бы только краски, холст и музу. Ну и что-нибудь красненькое для вдохновения, – он поднял бокал, как доказательство своих слов.
– Да-да, бутылочку вина. А то как же иначе? – кивнула Софья. – Но вчера, глядя на ночь, вы мне по телефону заплетающимся языком говорили, что были на усадьбе и что-то там нашли… верно? Я же вижу, как у вас глаз дёргается. Это всегда случается, когда вы что-то скрываете от меня.
– Ну, полазил я по этому купеческому поместью с творческой целью, – признался Арсеньев неохотно. – Нашёл кое-что любопытное, под прогнившей половицей.
– Так значит, это вы секретные бумаги отыскали и Лужину вручили? – воскликнула Софья, чуть не захлебнувшись чаем. – Теперь он с ними бегает, как марафонец. Инфаркт не разбил бы старика! Он же в свои восемьдесят думает, что всё ещё может спринтерские забеги устраивать от музея в мэрию и потом обратно, да ещё и с разворотом на кладбище.
– Бумаги? Нет, не я, – отмахнулся Василий Иванович, – бумаги бы сгнили там за столько лет. Нашёл вещичку старинную… вот и думаю, что с ней теперь делать? Отдать музею – так Лужин присвоит, я его насквозь вижу. Продать – так не стоит она того, чтобы совесть потом замучила.
– Вот оно как! Если не Лужин, то вы сами присвоить решили, – подколола его Софья. – И мне не покажете? А я-то думала, мы друзья. И плюшки мои вам нравятся. А вы вон как…
Васлий Иванович смутился, но промолчал.
Софья сообразила, что лобовая атака не сработала – показывать ей ничего не собираются – и сменила тему:
– А что же вы на площади не появились? Видела, как ваши пейзажи на сцену устанавливали. Могли бы и сами проконтролировать процесс. А то ещё повесят шедевр вверх ногами, а город будет гадать – это художественный приём такой или географическая катастрофа.
– Я свободный художник, а не декоратор, Софьюшка, – гордо выпрямил спину Арсеньев. – Пусть устроители юбилея занимаются техническими вопросами. Я создаю – они вешают. Каждому своё.
Они ещё немного поперекидывались колкостями. Когда Софья уже собралась уходить, взгляд её упал на открытую металлическую коробочку на полочке шкафа.
– Что это у вас? – сдвинула брови Софья, и её детективное чутьё завибрировало. – Случайно, не та ли это найденная вещица? Которую вы так трогательно пытаетесь скрыть от меня?
– А, это… – Арсеньев махнул рукой с небрежностью карточного шулера, отвлекающего внимание от рукава. – Реквизит. Старая коробка. Родительская. Нашёл на чердаке, когда в Залесье был.
– Да?! А я её раньше здесь не замечала, – Софья хитро прищурилась. – Можно взглянуть?
Не дожидаясь ответа, она взяла коробку и обнаружила на внутренней стороне крышки оттиск не то герба, не то замысловатых инициалов, похожих на старинный шрифт. Её сердце слегка сбилось с ритма… будто она нашла на карте метку сокровищ. Такой знак она уже где-то видела…
– Ну что же, Василий, спасибо за вино, чай и почти некриминальные признания. – Она вернула коробку на место. – Не буду больше вас отвлекать. Вам ещё купца дорисовывать, а то он так и останется без правой ноздри, что исторически неточно. Вдохновения вам! А Маргарите привет. Скажите, пусть заходит на пирог с яблоками и корицей.
Софья направилась к двери, но, дойдя до порога, обернулась с драматичностью актрисы немого кино:
– Если вдруг снова захотите писать чей-то портрет – убедитесь сначала, что пациент, ой, простите… модель ещё дышит. И желательно – сможет дышать и после того, как увидит ваше творение.
И ушла с важным видом женщины, знающей больше, чем говорит. За её спиной остались недописанные Лужин и Барышев. Они смотрели ей вслед глазами, хранящими тайны, которые вот-вот могут всплыть на поверхность.
1
итальянский живописец и архитектор XIV века