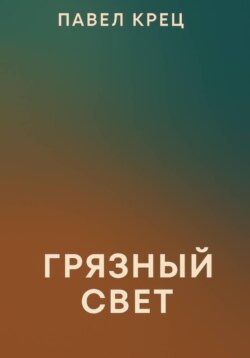Читать книгу Грязный свет - - Страница 1
Кадры из золотой клетки
ОглавлениеБелый шум чужих голосов бился о стены, отражался от глянцевых поверхностей фотографий и оседал на дне бокала с шампанским тонкой пленкой усталости. Влад Чернов стоял в центре этого управляемого хаоса, исполняя роль, которую сам для себя написал: гений, пророк грязных подворотен, человек, научивший богему видеть поэзию в ржавчине и плесени. Он ловил на себе взгляды – восхищенные, завистливые, оценивающие – и отвечал на них легкой, едва заметной полуулыбкой, отточенной до совершенства. Его тело было здесь, в стерильном пространстве галереи «Геометрия», но сознание работало в привычном режиме: кадрировало.
Вот седовласый критик, похожий на облезлого филина, – крупный план, резкий боковой свет от софита выхватывает сетку морщин у глаз, фактуру дорогого твида. А вот стайка девушек с одинаково надутыми губами и хищным блеском в глазах – групповой портрет, длинная выдержка, чтобы смазать их движение в единый голодный порыв. Они все были объектами. Экспонатами его личной, негласной выставки. Он видел их насквозь, до самой диафрагмы души, и от этого знания становилось невыносимо скучно.
«Грязный свет». Название, брошенное им почти случайно, прижилось, стало брендом. Теперь его тиражировали, разбирали на цитаты, вписывали в искусствоведческие статьи. Они говорили о диалектике света и тени, о поиске гуманизма в дегуманизированном пространстве, о новой искренности. Влад слушал все это и думал, что на самом деле все проще. Он просто любил смотреть, как умирающий луч фонаря цепляется за мокрый асфальт, как неоновая вывеска борделя окрашивает в розовый лица спящих на остановке бездомных. В этом не было философии. Была только физика света и химия распада. Идеальное сочетание.
– Влад, дорогой, это абсолютный триумф! – Голос Анны, теплый и обволакивающий, как кашемир, выдернул его из внутреннего монолога.
Она подошла сзади, обвила его талию тонкими руками. От нее пахло шампанским и каким-то сложным, цветочным парфюмом, который стоил дороже его первой камеры. Анна Загорская. Его девушка. Его арт-менеджер. Его безупречно выстроенный фасад. Она была так же совершенна, как и эта галерея: идеальная линия скул, продуманная небрежность укладки, платье, сидящее так, словно его создали прямо на ней. Она была произведением искусства из мира, который он презирал, но услугами которого так умело пользовался.
– Ты так считаешь? – Он повернулся, заглянул в ее сияющие глаза. Фокусное расстояние – пятьдесят миллиметров. Идеальный портрет. Никаких искажений.
– Все так считают. Ты слышал, что сказал Левитан? Он назвал тебя «Рембрандтом городских окраин».
Влад усмехнулся. Левитан был тем самым седым филином. Ему платили за громкие сравнения.
– Рембрандт писал светом божественным. А мой свет – грязный. От уличных фонарей, от фар, от зажигалки в руках наркомана. В нем нет святости, Аня. Только правда.
– В этом и есть твоя гениальность, – прошептала она, касаясь губами его щеки. – Ты заставляешь нас видеть то, от чего мы привыкли отворачиваться. Ты делаешь это… безопасным.
Вот оно. Ключевое слово. Безопасным. Он брал грязь, страх, безнадегу, кадрировал их, печатал на дорогой бумаге, вставлял в раму и продавал тем, кто больше всего на свете боялся этой грязи коснуться. Он был проводником в ад для туристов с платиновыми картами. Осознание этого уже давно не вызывало отвращения, только глухую, привычную тоску.
К ним подошел невысокий, суетливый человек в очках – владелец галереи. Он излучал нервное счастье, как перегретый процессор.
– Влад Игоревич! Половина работ уже продана! Американцы интересуются всей серией «Бетонные вены». Хотят вывезти в Нью-Йорк! Вы представляете?
Влад кивнул, изображая заинтересованность. Он представлял. Представлял, как его снимок с облупившейся стеной хрущевки, похожей на больную кожу, будет висеть в пентхаусе на Манхэттене. Ирония была настолько густой, что ее можно было резать ножом.
– Это прекрасно, Семен Маркович. Спасибо вам.
– Это вам спасибо! Вы наш главный актив! – Галерист пожал ему руку влажной, мягкой ладонью. – Пойдемте, вас хочет видеть пресса. Буквально пару слов.
Анна ободряюще сжала его локоть. Он пошел, чувствуя себя марионеткой. Вспышки фотокамер слепили, били по глазам. Он инстинктивно прищурился, оценивая мощность и угол света. Дешевые накамерные вспышки. Убивают объем, делают лица плоскими, как блины. Дилетанты.
Молодая журналистка с микрофоном, на котором красовался логотип модного интернет-издания, прорвалась к нему.
– Владислав, ваши работы пронизаны меланхолией. Скажите, вы находите красоту в уродстве или уродство в красоте?
Заученный вопрос. Он слышал его в десятках вариаций.
– Я не делю мир на уродство и красоту, – ответил он ровным, хорошо поставленным голосом. – Я делю его на свет и тень. Все остальное – лишь их производные. Грязь, ржавчина, трещины на асфальте – это просто фактура. Она честнее, чем отполированный мрамор. На ней видна история, видно время. А свет… свет одинаково ложится и на лицо святого, и на лезвие ножа. Моя работа – просто нажать на кнопку в нужный момент.
Журналистка восторженно закивала, записывая его слова так, будто это было откровение свыше. Он отвернулся, и его взгляд зацепился за одну из центральных работ выставки.
«Колодец». Снимок, сделанный с крыши старого доходного дома. Десятки темных окон, сложенных в уродливую геометрию. И в одном из них, на пятом этаже, горит одинокая желтая лампочка. А на подоконнике виден силуэт кошки. Крошечная точка тепла и жизни в огромном каменном мешке. Он помнил тот вечер. Пронизывающий ветер, запах сырости и угля. Он просидел на крыше три часа, пока не зажглось именно это окно. Он ждал не свет, он ждал историю. И дождался. Здесь, в стерильном зале, под светом софитов, эта история выглядела выхолощенной, превращенной в стильный элемент декора.
– Потрясающе, правда? – раздался рядом знакомый голос.
Дмитрий Крюков. Журналист-расследователь, старый приятель еще с тех времен, когда они оба были нищими и полными надежд. Теперь Влад был на вершине, а Дима все так же копался в чужом грязном белье для сомнительных изданий, маскируя зависть под дружескую иронию.
– Ты так думаешь? – Влад не обернулся, продолжая смотреть на фотографию.
– Конечно. Это же твой magnum opus. Квинтэссенция всего твоего творчества. Одиночество, безысходность, но с проблеском надежды. Продается за бешеные деньги, я слышал?
В голосе Дмитрия сквозила нотка, которую Влад научился распознавать безошибочно – кисловатый привкус чужого успеха.
– Деньги – побочный эффект, Дима. Ты же знаешь.
– О, конечно, – Крюков подошел и встал рядом. Он был одет в потертые джинсы и мятый пиджак, словно подчеркивая свою непричастность к этому гламурному сборищу. – Мы, творцы, выше этого. Но все же приятно, когда твой «проблеск надежды» оценивается в сумму с пятью нулями. Помогает творить дальше, не отвлекаясь на быт.
Влад наконец посмотрел на него. Узкое, нервное лицо, бегающие глаза за стеклами очков. Он всегда выглядел так, будто куда-то опаздывает или что-то ищет. Сейчас он искал уязвимость во взгляде Влада, но не находил.
– Рад тебя видеть, – солгал Влад.
– И я тебя. Пришел поздравить. И выпить твоего бесплатного шампанского. – Дмитрий улыбнулся, но улыбка не затронула глаз. – Ты, конечно, молодец. Нашел золотую жилу. Эстетизация упадка. Очень в духе времени. Пока я пишу про то, как чиновники воруют на ремонте этих самых домов, ты делаешь из их гнилых фасадов искусство и продаешь этим же чиновникам. Гениальная бизнес-модель.
Это был удар. Точный и выверенный. Прямо в то место, где у Влада еще осталась совесть.
– Это не бизнес-модель, а точка зрения, – холодно ответил Влад. – Ты показываешь грязь. А я – свет в этой грязи. Это разные вещи.
– Правда? – Дмитрий поднял бровь. – А по-моему, мы оба просто паразитируем на ней. Просто у тебя получается красивее. Ладно, не буду портить тебе праздник. Наслаждайся славой. Заслужил.
Он хлопнул Влада по плечу и растворился в толпе, оставив после себя неприятный осадок. Влад провел рукой по волосам. Дмитрий был прав. Отчасти. И это бесило больше всего.
Вечер тянулся, как резиновый. Бесконечные поздравления, рукопожатия, пустые комплименты. Влад чувствовал, как его социальная батарея садится с катастрофической скоростью. Мир вокруг терял резкость, превращался в размытое пятно, боке из огней и силуэтов. Ему хотелось сбежать. Туда, где тихо, где пахнет мазутом и сырой землей, где единственные звуки – это скрип металла на ветру и далекий гул электрички. В его мир.
Наконец, когда последние гости начали расходиться, Анна взяла его под руку.
– Поехали домой. Ты выглядишь измученным.
Дом. Лофт в бывшем здании фабрики, переделанном в элитное жилье. Огромные окна от пола до потолка, минималистичная мебель, идеальный порядок. Еще один стерильный куб. Его золотая клетка.
Они ехали по ночному городу в ее бесшумном электрокаре. За окном проносились огни: яркие, кричащие витрины центра сменялись тусклыми, редкими фонарями спальных районов, а затем и вовсе исчезали, уступая место непроглядной тьме промзон на горизонте. Влад смотрел туда, в эту темноту. Она манила его, обещала тишину и подлинность. Там не нужно было улыбаться и соответствовать. Там можно было просто быть.
В лофте царила гулкая тишина. Анна включила тихую музыку, налила им по бокалу вина. Она села рядом с ним на огромный белый диван, положила голову ему на плечо.
– Я так тобой горжусь, Влад.
– Я знаю.
– Что-то не так? Ты весь вечер сам не свой. Это из-за Крюкова? Я видела, как вы разговаривали. Он всегда был таким… желчным.
– Дело не в нем. Просто устал.
Он смотрел через панорамное окно на город, раскинувшийся внизу. С их высоты он казался идеальной фотографией. Россыпь огней, четкие линии проспектов, темные массивы парков. Красиво. И абсолютно безжизненно. Как карта. Он не чувствовал его пульса, его дыхания. Отсюда не было видно ни трещин на асфальте, ни окурков в лужах, ни усталых лиц в окнах напротив. Только чистая, холодная эстетика.
– Может, съездим куда-нибудь на пару недель? – предложила Анна. – На Бали. Или в Тоскану. Снимем виллу, будем пить вино, отдыхать. Тебе нужно перезагрузиться.
Он представил себе это. Белый песок, лазурная вода, залитые солнцем виноградники. Идеальные, открыточные виды. Пересвеченные, лишенные всякой драмы. Его тошнило от одной этой мысли. Ему нужна была не перезагрузка. Ему нужна была подзарядка. А энергию он брал не от солнца и моря. Он брал ее от распада.
– Я подумаю, – сказал он, чтобы не обидеть ее.
Она подняла голову, заглянула ему в глаза. В ее взгляде была тревога.
– Ты снова хочешь туда, да? По своим заводам и трущобам. Зачем, Влад? Ты уже все всем доказал. Ты на вершине. Зачем тебе снова лезть в эту грязь?
Он не мог ей объяснить. Не мог объяснить, что эта «вершина» для него – безвоздушное пространство. Что он задыхается в этом мире идеальных интерьеров и выверенных улыбок. Что только там, в грязи, среди сломанных судеб и забытых богом мест, он чувствовал себя живым. Потому что там был настоящий свет. Не тот, что выставляют в галереях, а тот, что борется за жизнь, пробиваясь сквозь копоть и мрак.
– Это моя работа, Аня. Это то, кто я есть.
– Ты – художник, а не сталкер, – она встала, в ее голосе появились жесткие нотки. – Твои работы стоят сотни тысяч. Ты не можешь больше рисковать, лазая по заброшкам, где тебя могут прирезать за камеру. Это безрассудно.
– Искусство всегда безрассудно.
Она покачала головой, понимая, что спор бесполезен. Она подошла к окну, обняла себя за плечи. Ее идеальный силуэт на фоне идеального ночного города. Еще один готовый кадр. Дорогой. Глянцевый. Мертвый.
– Я просто боюсь за тебя, – сказала она тихо, не оборачиваясь.
Влад молчал. Он знал, что она боится не только за него. Она боится, что он разрушит этот хрупкий, идеальный мир, который они построили. Что однажды он уйдет в свою тьму и не вернется. И в глубине души он понимал, что ее страхи не беспочвенны. Он сам чувствовал, как эта тьма тянет его, обещая что-то настоящее, чего не найти ни в овациях критиков, ни в объятиях любящей женщины.
Позже, когда Анна уже спала, он долго стоял у окна. Город внизу жил своей жизнью. Где-то там, в лабиринте улиц, разворачивались тысячи драм, больших и маленьких. Кто-то рождался, кто-то умирал, кто-то любил, кто-то предавал. И все это тонуло в огромном, равнодушном шуме мегаполиса. Он чувствовал себя оторванным от этого потока, наблюдателем за стеклом. Его объектив был его пропуском в реальность, но одновременно и стеной, отделяющей от нее. Он фиксировал жизнь, но не участвовал в ней.
Он подошел к столу, где лежал его рюкзак. Старая, потертая «Лейка», пара объективов. Его настоящие друзья. Он взял в руки камеру. Холодный, тяжелый металл привычно лег в ладонь. Он поднял ее, посмотрел через видоискатель на спящий город. Мир в маленьком прямоугольном окошке становился упорядоченным, понятным, подчинялся его воле. Он мог приблизить, отдалить, сменить угол, поймать нужный свет. Это была его власть. Его единственная настоящая власть.
И он почувствовал зуд. Нестерпимое, почти физическое желание. Сорваться с места, сесть в машину, уехать из этого стерильного аквариума на окраину, где бетонные ребра заброшенных заводов впиваются в низкое, пересвеченное небо. Туда, где тишина звенит в ушах, а воздух пахнет тревогой. Туда, где еще можно было найти кадр, не испорченный деньгами и славой. Кадр, который мог бы стать для него оправданием. Или приговором. Ему было все равно. Главное – снова почувствовать холодный щелчок затвора, отсекающий мгновение от вечности. И он знал, что скоро не выдержит. Очень скоро.