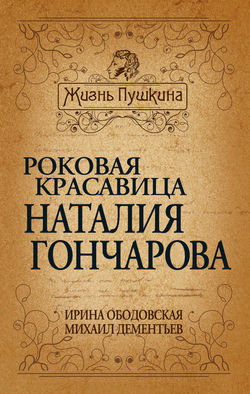Читать книгу Роковая красавица Наталья Гончарова - Группа авторов - Страница 3
Вместе с Пушкиным
Встреча с Пушкиным. Замужество
ОглавлениеУже с юных лет Наталья Николаевна поражала своей необыкновенной красотой. Сохранились воспоминания о ней Надежды Михайловны Еропкиной. Дом ее отца славился радушием и гостеприимством. Гончаровы были, видимо, довольно близко знакомы с Еропкиными. Надежда Михайловна – умная и образованная девушка; в годы юности Натальи Николаевны ей было двадцать лет, она могла хорошо помнить Наташу Гончарову, и ее записки представляют значительный интерес для характеристики будущей жены поэта. Следует также отметить, что Надежда Михайловна являлась двоюродной сестрой друга Пушкина Павла Воиновича Нащокина и встречалась с Пушкиным в 30-е годы в Москве.
Приведем некоторые выдержки из ее воспоминаний.
«Наталья Николаевна сыграла слишком видную роль в жизни Пушкина, чтобы можно было обойти ее молчанием. Многие считают ее даже виновницей преждевременной ею кончины, что, впрочем, совершенно несправедливо… Я хорошо знала Наташу Гончарову, но более дружна была она с сестрой моей Дарьей Михайловной. Натали еще девочкой-подростком отличалась редкой красотой. Вывозить ее стали очень рано, и она всегда живых картинах, поставленных у генерал-губернатора кн. Голицына, и вызывала всеобщее восхищение. Место первой красавицы Москвы осталось за нею.
Наташа была действительно прекрасна, и я всегда восхищалась ею. Воспитание в деревне на чистом воздухе оставило ей в наследство цветущее здоровье. Сильная, ловкая, она была необыкновенно пропорционально сложена, отчего и каждое движение ее было преисполнено грации. Глаза добрые, веселые, с подзадоривающим огоньком из-под длинных бархатных ресниц. Но покров стыдливой скромности всегда вовремя останавливал слишком резкие порывы. Но главную прелесть Натали составляли отсутствие всякого жеманства и естественность. Большинство считало ее кокеткой, но обвинение это несправедливо.
Необыкновенно выразительные глаза, очаровательная улыбка и притягивающая простота в обращении, помимо ее воли, покоряли ей всех.
– Федька, принеси самовар, – скажет она и так посмотрит, что Федька улыбнется во весь рот, точно рублем его подарили, и опрометью кинется исполнять приказание.
– Мерси, месье, – произнесет она, благодаря кавалера за какую-нибудь услугу, и скажет это совершенно просто, но так мило и с такой очаровательной улыбкой и таким окинет взглядом, что бедный кавалер всю ночь не спит, думает и ищет случая еще раз услыхать это «мерси, месье». И таких воздыхателей было у Наташи тьма.
Не ее вина, что все в ней было так удивительно хорошо. Но для меня так и осталось загадкой, откуда обрела Наталья Николаевна такт и умение держать себя? Всё в ней самой и манера держать себя было проникнуто глубокой порядочностью. Все было «Comme il faut»[13] – без всякой фальши. И это тем более удивительно, что того же нельзя было сказать о ее родственниках. Сестры были красивы, ко изысканного изящества Наташи напрасно было бы искать в них. Отец слабохарактерный, а под конец и не в своем уме никакого значения в семье не имел. Мать далеко не отличалась хорошим тоном и была частенько пренеприятна. Впрочем, винить ее за это не приходится. Гончаровы были полуразорены, и все заботы по содержанию семьи и спасению остатков состояния падали на нее. Дед Афанасий Николаевич, известный мот, и в старости не отрешался от своих замашек и только осложнял запутанные дела.
Поэтому Наташа Гончарова явилась в этой семье удивительным самородком. Пушкина пленила в ней ее необычайная красота и не менее, вероятно, и прелестная манера держать себя, которую он так ценил».
Гончарова была прекрасна, это бесспорно, но только красивая внешность не привлекла бы поэта. Ее отличало какое-то необыкновенное обаяние, и не случайно тонкий знаток человеческой души Пушкин в посвященном ей стихотворении «Мадонна» называет ее «чистейшей прелести чистейший образец».
Характер у Наташи был от природы мягкий, живой, открытый. Нам кажется, в этом она походила на отца. Но она умела сдерживать свои чувства, если это было нужно. По свидетельству Араповой, Наталья Николаевна не любила рассказывать о своем детстве. Слишком тяжела была атмосфера в семье, чтобы можно было говорить о нем, не осуждая деда и родителей.
История взаимоотношений Пушкиных и Гончаровых начинается с того момента, когда Александр Сергеевич в 1828 году впервые увидел прекрасную шестнадцатилетнюю Наташу Гончарову на балу танцмейстера Йогеля в Москве и беззаветно, страстно полюбил ее. Это известно всем. Но мало кто знает, что связи семей Пушкиных и Гончаровых имеют давнюю историю, что предки их были знакомы, а может быть, даже и дружны еще в середине XVIII века! А между тем это так.
В письмах Натальи Николаевны Пушкиной и ее сестер Александры и Екатерины Гончаровых, опубликованных нами в книге «Вокруг Пушкина», неоднократно упоминаются Зарайск и поместье Гончаровых Ильицыно в Зарайском уезде Рязанской губернии. А в «Книге экономических примечаний Зарайского уезда» имеются сведения о том, что в этом уезде были поместья не только Гончаровых, но и Пушкиных!
Есть тому и документальное подтверждение. Так, в письме к П. А. Вяземскому от 2 августа 1837 года он сообщает: «Любезнейший князь Петр Андреевич! Возвратясь из деревни Матвея Михайловича, я нашел письмо ваше…» Не исключено, что в детстве вместе с отцом ездил к тетке и Александр Сергеевич. Бывал там впоследствии и Александр Александрович, сын поэта, который крестил дочь племянницы зарайского уездного воинского начальника А. А. Марина.
И, наконец, еще один факт, несомненно любопытный: в середине XVII века воеводою в Зарайске был Александр Владимирович Загряжский (1629—1656). Не родственник ли он Александра Артемьевича Загряжского, отца Ивана Александровича, о котором мы уже говорили?
Все эти переплетения семейств Загряжских, Пушкиных и Гончаровых в Зарайском уезде чрезвычайно интересны для пушкиноведения, и мы надеемся, что они будут еще более выявлены и найдут свое отражение в биографии Пушкина.
Впервые Пушкины появляются здесь еще в 1690 году, когда Петр Петрович Пушкин поменял свои ярославские земли на зарайские. В XVIII веке в «Книге…» значится владельцем поместий Латыгори, Ананьина Пустошь, сел Саблино и Лобково и многих других Лев Александрович Пушкин, дед поэта (1723—1790). Более того, в совместном владении Льва Александровича и прапрадеда Натальи Николаевны Афанасия Абрамовича Гончарова (1699—1784) были зарайские деревни Латыгори и Чернятина Пустошь.
А по соседству с гончаровским поместьем Ильицыно находились земли Матвея Михайловича Солнцова, мужа Елизаветы Львовны (урожд. Пушкиной), родной тетки Александра Сергеевича! Не получила ли она его в приданое от отца?.. Нет сомнения, что и эти семьи общались: имение Солнцовых Плуталово было всего в двух верстах от гончаровского Ильицына.
Всего в Зарайском уезде Пушкиным и Гончаровым принадлежала одна десятая всех его земель! Вот к каким далеким временам относятся, видимо, близкие отношения Пушкиных и Гончаровых. По устным зарайским преданиям, Сергей Львович Пушкин не раз гостил у сестры Елизаветы Львовны в Плуталове.
По шутливому признанию самого поэта, Гончарова была его сто тринадцатая любовь. Но те увлечения, те порывы страстей, которые волновали его в молодости, не были еще той любовью, что на склоне короткой его жизни одарила его судьба. Всеобъемлющее чувство Пушкина к Наталье Николаевне пришло к нему на рубеже нового периода его жизни. Отошла в прошлое бурно прожитая молодость, настала пора зрелости. Жажда личного семейного счастья, стремление любить и быть любимым – вот какие чувства владели им в эти годы. Пушкин не знал до тех пор настоящей семейной жизни. Нерадостное детство, юность, проведенная в казенных стенах Лицея, годы ссылки, потом кочевая жизнь то в Москве, то в Петербурге, номера гостиниц – и никогда своего дома…
Пушкин встретил Натали Гончарову в декабре 1828 года. «Когда я увидел ее в первый раз, – писал он позднее Наталье Ивановне, – красоту ее едва начинали замечать в свете. Я полюбил ее, голова у меня закружилась». Уже в конце апреля 1829 года Пушкин делает предложение через Толстого Американца. Ответ матери неопределенен: и не согласие, и вместе с тем не отказ – дочь еще слишком молода.
«На коленях, проливая слезы благодарности, должен был бы я писать вам теперь, после того как граф Толстой передал мне ваш ответ: этот ответ – не отказ, вы позволяете мне надеяться. Не обвиняйте меня в неблагодарности, если я все еще ропщу, если к чувству счастья примешиваются еще печаль и горечь; мне понятна осторожность и нежная заботливость матери! – Но извините нетерпение сердца больного и опьяненного счастьем. Я сейчас уезжаю и в глубине своей души увожу образ небесного существа, обязанного вам жизнью…» – писал Пушкин Наталье Ивановне 1 мая 1829 года.
Куда же и почему уехал поэт? Об этом мы узнаем из более позднего его письма.
«Ваш ответ, при всей его неопределенности, на мгновение свел меня с ума, в ту же ночь я уехал в армию; вы спросите меня – зачем? Клянусь вам, не знаю, но какая то непроизвольная тоска гнала меня из Москвы; я бы не мог вынести ни вашего, ни ее присутствия. Я вам писал; надеялся, ждал ответа – он не приходил. Заблуждения моей ранней молодости представились моему воображению; они были слишком тяжки и сами по себе, а клевета их еще усилила; молва о них, к несчастью, широко распространилась. Вы могли ей поверить; я не смел жаловаться на это, но приходил в отчаяние» (5 апреля 1830 года).
Пушкин лишь на минуту поверил в то, что ответ Натальи Ивановны не лишает его надежды, но тотчас же эта надежда сменилась отчаянием, и он уезжает на Кавказ в действующую армию генерала Паскевича, где тогда шла война с Турцией[14]. Не получая ответа от матери любимой девушки, он искал забвения в сильных ощущениях, бросался в гущу сражений, быть может, искал смерти… В конце концов Паскевич, не желая брать на себя ответственность, предложил ему вернуться в Россию. Перед отъездом Пушкин нанес визит генералу, который подарил ему турецкую саблю с надписью на клинке: «Арзрум, 18 июля 1829 года».
Но поэт не решался прямо поехать в Москву; он пробыл некоторое время в Тифлисе, на Северном Кавказе, и только в конце сентября вернулся в Москву. И здесь его мрачные предчувствия оправдались: он встретил холодный прием у Гончаровых.
«Сколько мук ожидало меня по возвращении, – писал Пушкин в том же письме от 5 апреля. – Ваше молчание, Ваша холодность, тот рассеянный и невнимательный вид, с которым встретила меня м-ль Натали… У меня не хватало мужества объясниться, – и я уехал в Петербург в полном отчаянии».
Пушкин говорит, что ему «понятна осторожность и нежная заботливость матери». Как мы видим, Наталья Ивановна сдержанно встретила его предложение, но, однако, не ответила окончательным отказом. Она колебалась. Слухи и сплетни об образе жизни Пушкина, о его картежной игре, атеистических взглядах (что, несомненно, вызывало враждебное отношение религиозной Натальи Ивановны) доходили, конечно, до нее.
Сергей Николаевич Гончаров рассказывал, что «с Натальей Ивановной у Пушкина бывали частые размолвки, потому что Пушкину случалось проговариваться о проявлениях благочестия и об императоре Александре Павловиче, а у Натальи Ивановны была особая молельня со множеством образов, и про покойного государя она выражалась не иначе как с благоговением».
В особенности, вероятно, пугала ее политическая неблагонадежность поэта: недовольство правительства его произведениями, обличавшими деспотизм и крепостничество. Не могло ее не беспокоить, конечно, и материальное положение жениха: он был беден. Прекрасно понимая, как необыкновенно красива Натали, мать, вероятно, считала, что ее младшая дочь может сделать блестящую партию, выйти замуж за богатого человека. Подобный брак мог бы поправить дела Гончаровых.
Эти причины, мы полагаем, и послужили основанием для холодного приема поэта по возвращении с Кавказа. А Натали? Чем объяснить ее «рассеянность и безразличие»? Думаем, что ее поведение диктовалось матерью, запретившей ей подавать надежду Пушкину.
Но весной 1830 года он неожиданно получает через знакомого, приехавшего из Москвы, привет от Гончаровых. Увидев в этом завуалированное приглашение вернуться, поэт, как на крыльях, полетел в Москву. В начале апреля он сделал предложение вторично, и на этот раз оно было принято.
В одной из черновых тетрадей Пушкина есть отрывок без заглавия, только с надписью сверху: «с французского». Все исследователи сходятся на том, что отрывок автобиографичен, и с этим можно согласиться. Не желая доверять свои чувства постороннему, Пушкин написал «с французского» и заменил имя любимой девушки.
«Участь моя решена. Я женюсь. Та, которую любил я целые два года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством, боже мой – она… почти моя. Ожидание решительного ответа было самым болезненным чувством жизни моей… Если мне откажут, думал я, поеду в чужие края, – и уже воображал себя на пироскафе[15]…
В эту минуту подали мне записку: ответ на мое письмо. Отец невесты моей ласково звал меня к себе… Нет сомнения, предложение мое принято. Надинька, мой ангел, – она моя!.. Все печальные сомнения исчезли перед этой райской мыслью. Бросаюсь в карету, скачу – вот их дом… Отец и мать сидели в гостиной. Первый встретил меня с отверстными объятиями. Он вынул из кармана платок, он хотел заплакать, но не мог и решился высморкаться. У матери глаза были красны. Позвали Надиньку – она вошла бледная, неловкая. Отец вышел и вынес образа… Нас благословили».
Почему такая перемена, почему Наталья Ивановна, наконец, решилась дать согласие на этот брак? Полагаем, что во время отсутствия Пушкина Наталья Николаевна сумела побороть сопротивление матери и, если судить по приведенному отрывку «Участь моя решена», при содействии Николая Афанасьевича. Безграничная любовь Александра Сергеевича к его дочери тронула отцовское сердце, понял он, что и она полюбила поэта, и сделал все возможное, чтобы убедить Наталью Ивановну не мешать их счастью.
Знакомая Гончаровых Н. П. Озерова писала: «Утверждают, что Гончарова-мать сильно противилась браку своей дочери, но что молодая девушка ее склонила. Она кажется очень увлеченной своим женихом».
Пушкину в период сватовства казалось, что он, «потомок негров безобразный», как говорил он о себе, не может понравиться молодой девушке. Его мучили сомнения: будет ли с ним счастлива юная красавица, не пожалеет ли она когда-нибудь, что вышла за него замуж, не сделала ли бы лучшей партии.
Мнения современников о внешности Пушкина противоречивы. Они зависят от личности говорящего, от его отношения к поэту. Черты лица Пушкина не были красивыми в общепринятом смысле, но необыкновенная одухотворенность лица и сильные чувства, переживаемые им, делали его прекрасным. Особенно хороши были, по словам его родственника М. В. Юзефовича, глаза поэта – великолепные, большие, ясные, «в которых, казалось, отражалось все прекрасное в природе». Ослепительная белозубая улыбка и вьющиеся каштановые волосы дополняли его привлекательную внешность. Когда Пушкин хотел понравиться женщине, он был обаятелен. И мы знаем, как много женщин – и каких! – увлекались поэтом. Что же удивительного в том, что увлеклась им и Наташа Гончарова. И не только увлеклась, а полюбила глубоко за его прекрасную душу, за необыкновенную доброту, столь свойственную и ей самой.
Нет сомнения также, что сестры Гончаровы с восторгом читали «Евгения Онегина», стихи и прозу Пушкина, и Наташа не могла не гордиться тем, что первый поэт России именно ее выбрал себе в жены… И Наталья Николаевна отнеслась к браку со всей серьезностью. Впоследствии она писала:
«…Можно быть счастливой и не будучи замужем, конечно, но что бы ни говорили – это значило бы пройти мимо своего призвания». «…Замужество прежде всего не так легко делается, и потом – нельзя смотреть на него как на забаву и связывать его с мыслью о свободе… это серьезная обязанность и надо делать свой выбор в высшей степени рассудительно. Союз двух сердец – это величайшее счастье на земле». И это действительно был союз двух сердец, основанный на взаимной глубокой любви.
О всех своих намерениях и поступках поэт, бывший под негласным надзором, был обязан ставить в известность Николая I и получать «всемилостивейшее» разрешение. Пушкин пишет Бенкендорфу, через которого шла его «переписка» с царем. Стремясь окончательно побороть сопротивление будущей тещи, он поставил также вопрос и о своем «сомнительном положении» по отношению к властям. Надо думать, сделал это скрепя сердце. В конце письма Пушкин запросил разрешения напечатать запрещенную в свое время Николаем I трагедию «Борис Годунов».
«…Я женюсь на м-ль Гончаровой, которую вы, вероятно, видели в Москве, – читаем мы в письме к Бенкендорфу от 16 апреля 1830 года. – Я получил ее согласие и согласие ее матери; два возражения были мне высказаны при этом: мое имущественное состояние и мое положение относительно правительства. Что касается состояния, то я мог ответить, что оно достаточно, благодаря его величеству, который дал мне возможность достойно жить своим трудом. Относительно же моего положения, я не мог скрыть, что оно ложно и сомнительно… Г-жа Гончарова боится отдать дочь за человека, который имел бы несчастье быть на дурном счету у государя… Счастье мое зависит от одного благосклонного слова того, к кому я и так уже питаю искреннюю и безграничную преданность и благодарность…»
Ответ Бенкендорфа не замедлил последовать:
«Милостивый государь.
Я имел счастье представить государю письмо от 16-го сего месяца, которое Вам угодно было написать мне. Его императорское величество с благосклонным удовлетворением принял известие о предстоящей Вашей женитьбе и при этом изволил выразить надежду, что Вы хорошо испытали себя перед тем как предпринять этот шаг, и в своем сердце и характере нашли качества, необходимые для того, чтобы составить счастье женщины, особенно женщины столь достойной и привлекательной, как м-ль Гончарова.
Что же касается Вашего личного положения, в которое Вы поставлены правительством, я могу лишь повторить то, что говорил Вам много раз; я нахожу, что оно всецело соответствует Вашим интересам; в нем не может быть ничего ложного и сомнительного, если только Вы сами не сделаете его таким. Его императорское величество в отеческом о Вас, милостивый государь, попечении соизволил поручить мне, генералу Бенкендорфу, – не шефу жандармов, а лицу, коего он удостаивает своим доверием, – наблюдать за Вами и наставлять Вас своими советами; никогда никакой полиции не давалось распоряжения иметь за Вами надзор. Советы, которые я, как друг, изредка давал Вам, могли пойти Вам лишь на пользу, и я надеюсь, что с течением времени Вы в этом будете все более и более убеждаться. Какая же тень падает на Вас в этом отношении? Я уполномочиваю Вас, милостивый государь, показать это письмо всем, кому Вы найдете нужным.
Что же касается трагедии Вашей о Годунове, то его императорское величество разрешает Вам напечатать ее за Вашей личной ответственностью.
В заключение примите мои искреннейшие пожелания в смысле будущего Вашего счастья, и верьте моим лучшим к Вам чувствам.
Преданный Вам
А. Бенкендорф.
28 апреля 1830».
Письмо это, по-видимому, было рассчитано главным образом на Наталью Ивановну. Оно не снимало, как мы видим, надзор за Пушкиным: Бенкендорф говорит, что и в дальнейшем он будет «наблюдать» за поэтом и «наставлять» его своими советами. Упоминание о полиции в высшей степени бестактно, а главное, что это ложь, так как надзор за поэтом никогда не снимался. Но «благосклонное удовлетворение» императора позволяло Пушкину заключить этот брак.
Мы не знаем, как восприняла Наталья Ивановна это письмо, полагаем, что оно не слишком уверило ее в благонадежности будущего зятя, но «высочайшее» разрешение на женитьбу исключало какие-либо колебания, да и было уже поздно взять данное слово обратно, не повредив репутации Натали. Однако все последующее поведение Натальи Ивановны говорит о том, как недоброжелательно относилась она к Пушкину в течение всего времени затянувшегося жениховства.
А до свадьбы было еще далеко.
Получив согласие Натали и Натальи Ивановны, Пушкин пишет родителям, извещая их о своей женитьбе. Сохранилось черновое письмо к ним, предположительно датируемое 6—11 апреля 1830 года. Вот это письмо[16], а также ответ Сергея Львовича и Надежды Осиповны.
«Мои горячо любимые родители, обращаюсь к вам в минуту, которая определит мою судьбу на всю остальную жизнь. Я намерен жениться на молодой девушке, которую люблю уже год – м-ль Натали Гончаровой. Я получил ее согласие, а также и согласие ее матери. Прошу Вашего благословения, не как пустой формальности, но с внутренним убеждением, что это благословение необходимо для моего благополучия – и да будет вторая половина моего существования более для Вас утешительна, чем моя печальная молодость. Состояние г-жи Гончаровой сильно расстроено и находится отчасти в зависимости от состояния ее свекра. Это является единственным препятствием моему счастью. У меня нет сил даже и помыслить от него отказаться. Мне гораздо легче надеяться на то, что Вы придете мне на помощь. Заклинаю вас, напишите мне, что вы можете сделать для (…)».
13
Безупречно (фр.).
14
Эта поездка описана Пушкиным в «Путешествии в Арзрум».
15
Пироскаф – первоначальное название парохода (с греч.).
16
Письмо-черновик.