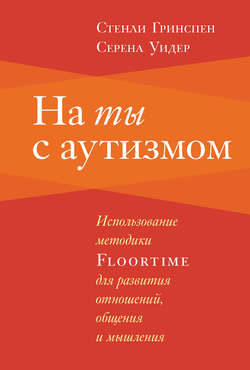Читать книгу На ты с аутизмом. Использование методики Floortime для развития отношений, общения и мышления - Группа авторов - Страница 4
Часть I
Прогноз при расстройствах аутистического спектра: мифы, факты, ранние признаки и новая концепция
Глава 2
Ложные диагнозы и мифы об аутистических расстройствах, включая синдром Аспергера
ОглавлениеДавая новое определение аутизму и расстройствам аутистического спектра, мы должны разъяснить, какими мифами окружены эти заболевания, поскольку эти мифы могут приводить к постановке неправильных диагнозов.
Неспособность любить?
Вероятно, самый важный миф связан со способностью детей с расстройствами аутистического спектра к любви и формированию отношений, основанных на любви. Когда аутизм был впервые определен как нарушение развития в 1940-х годах, он характеризовался «аутистическим одиночеством» – неспособностью устанавливать близкие, теплые, заботливые отношения. «Отец аутизма» Лео Каннер, автор первых систематических описаний детей с расстройствами аутистического спектра, сформулировал эту идею в составе своей теории. С тех пор представление о неспособности к формированию близких связей или теплых, наполненных любовью отношений сохраняется во всех последующих определениях аутизма. Оно встречается во всех изданиях «Диагностического и статистического руководства» (DSM) Американской психиатрической ассоциации, включая текущее. Если изначально считалось, что детям с расстройствами аутистического спектра присуще фундаментальное аутистическое одиночество, то ныне господствует убеждение в том, что способностью вступать в близкие отношения обладают все без исключения. Однако сохраняется представление, что дети с аутизмом не способны на столь полные, богатые или глубокие отношения, как обычные дети.
Способность любить, ощущать умиротворение от близких отношений предполагает, что эмоциональная близость с другим человеком доставляет удовольствие. Мы полагаем, что очаровательная улыбка четырехмесячного ребенка при виде матери или отца выражает глубинное, теплое ощущение взаимосвязи, которое в течение ближайших месяцев будет все больше и больше переходить в любовь и близость. Но когда мы наблюдаем, как ребенок двух с половиной лет с расстройством аутистического спектра пугается и бежит в объятия своей бабушки и крепко к ней прижимается, разве это не такой же знак любви, тепла или близости? Когда мы видим, как четырехлетний ребенок с диагнозом «аутизм» довольно улыбается во весь рот, когда мама трет ему спинку, можем ли мы утверждать, что мать для него всего лишь простой объект? Или он все-таки ощущает близость и для него важно, что именно мама трет ему спинку?
Данные, собранные в процессе нашей работы с детьми с аутизмом, показывают, что они испытывают любовь, особенно к родителям или другим людям, которые о них заботятся, поскольку прочие взрослые не пробуждают в ребенке столь же значительные ощущения близости или умиротворения в момент страха или нужды. На самом деле после терапии дети не только перестают проявлять признаки одиночества, но иногда становятся даже более любящими, чем их обычно развивающиеся сверстники. Иногда родители жалуются, что дети становятся слишком зависимыми: «Он мне проходу не дает!» – говорят они. «Отличные новости!» – отвечаю я. Потому что для ребенка, который был изолирован в собственном мире, нет ничего лучше желания быть с родителем или другим заботящимся о нем человеком «слишком много». После того как дети включатся во взаимоотношения, мы постепенно научим их быть независимыми.
Концепция DIR и методика Floortime принимают в расчет удовольствия, которые испытывает ребенок, даже если они, как кажется, порождаются стереотипными действиями или самостимуляцией. И с точки зрения этого подхода первым элементом, подлежащим развитию, является не речь или общение, а ощущение эмоциональной связи с другим человеком. Оно развивается быстро, в течение первых трех-четырех месяцев терапии. Тот факт, что эта эмоциональная связь появляется так быстро даже у детей, у которых ее не было прежде, свидетельствует о том, что в какой-то форме она у них уже существовала.
В недавнем исследовании (более подробно описанном в приложении А) мы сравнивали первую стадию нашего первого сеанса работы с детьми с РАС со второй стадией того же сеанса и наблюдали значительные различия в степени развития эмоциональных отношений на этих стадиях. На протяжении всего сеанса мы учили родителей прочитывать эмоциональные сигналы детей и подстраиваться к их нервной системе. Например, если ребенок гиперчувствителен к звукам и прикосновениям, мы помогали родителям действовать на него умиротворяюще. Если ребенок проявлял склонность к самостимуляции, например, постоянно открывал-закрывал дверь, мы показывали родителям, как проникнуть в его мир и направить его активность в русло совместного взаимодействия. По мере того как мы обучали родителей, мы часто наблюдали, как расцветали дети, поначалу казавшиеся погруженными в себя, как они начинали выказывать удовольствие и даже искать общества родителей, чтобы те приласкали их или поиграли с ними.
Таким образом, начиная с первых занятий, на протяжении первого года терапии между детьми и родителями возникала и росла близость по мере того, как родители все лучше постигали особенности нервной системы своих детей и подстраивались к их миру. Почти все родители рассказывали нам о чудесных, теплых моментах близости с детьми дома и говорили, что им хотелось бы, чтобы таких моментов становилось больше и чтобы их дети научились говорить о своей любви и теплых чувствах. Мы показывали родителям, как создавать такие моменты, помогая детям более эффективно выражать свои эмоции.
Эти данные убедили нас, что у детей с расстройствами аутистического спектра есть способность глубоко любить, независимо от того, может она свободно выражаться или нет. Исследования показывают, что на самом деле многие дети с аутизмом бывают очень эмоциональны, но чувства могут переполнять их настолько, что они избегают контактов, пытаясь таким образом контролировать интенсивность своих эмоций. У других детей, наоборот, реакция замедленная, и они не выражают эмоций, потому что радость и удовольствие от взаимоотношений не привлекают их в полной мере.
Заблуждения, касающиеся способности детей с расстройствами аутистического спектра любить и испытывать сильные эмоции, связаны с тем, что такие дети часто испытывают трудности с выражением своих чувств. В норме дети в возрасте от четырех до десяти месяцев вовлекаются во взаимные эмоциональные контакты с помощью звуков, поз и выражений лица: улыбка вызывает улыбку, звуки порождают звуки. У детей, которые развиваются нормально, этот процесс достигает определенного уровня сложности к двенадцати-шестнадцати месяцам: они могут подойти к отцу или матери и, смеясь, протянуть ручки, они издают призывные звуки, даже могут произносить одно-два слова, они умеют хихикать и улыбаться и в игровой форме подражать действиям родителей. Обмен эмоциями у них происходит практически непрерывно.
Столь быстрый обмен эмоциональными сигналами гораздо труднее дается детям с расстройствами аутистического спектра. Мы полагаем, что это вызвано фундаментальными отклонениями биологического свойства, которые влияют на связь между их эмоциями и двигательной системой или способностью выполнять сложные действия, требующие определенной последовательности движений. Поскольку они не в состоянии привести свои действия в соответствие со своими желаниями, они могут стремиться к тесным связям, но при этом не знать, как перевести свою потребность в действие. С точки зрения речи, даже если они могут запоминать и воспроизводить некоторые слова, им трудно вкладывать в них чувства, связывать эмоции или переживания с вербальными символами и говорить: «Я тебя люблю» или «Мамочка, обними меня покрепче». Но мы не считаем, что за этими трудностями стоят непреодолимые ограничения. При надлежащей терапии дети с расстройствами аутистического спектра могут не только испытывать любовь, но и научиться ее выражать.
Неспособность общаться и творчески мыслить?
Еще один миф, связанный с вышеописанным, гласит, что дети с расстройствами аутистического спектра неспособны обрести фундаментальные навыки, необходимые для общения и мышления, и самое большее, на что можно рассчитывать, – что они изменят свое поведение и научатся запоминать сценарии действий. Но, как уже говорилось в предыдущей главе, дети с аутизмом или расстройствами аутистического спектра могут участвовать в совместном решении проблем и мыслить творчески и логически. Результаты наших исследований (см. приложение А) показывают, что немалая доля таких детей способна освоить все фундаментальные эмоциональные навыки и способности, необходимые для развития.
Как только взрослые расстаются с мифами о неспособности к нормальным отношениям и общению и помогают детям развить эти навыки, нежелательные виды поведения – навязчивое повторение действий, эхолалия, агрессия и резкие перепады настроения – идут на убыль.
Неспособность к абстрактному мышлению?
Еще один миф состоит в том, что дети с расстройствами аутистического спектра неспособны к абстрактному мышлению и умозаключениям. Мы обнаружили, что и это неверно. Не все дети могут подняться до самого высокого уровня абстрактного мышления (поскольку это требует определенных речевых и когнитивных способностей), но проведенное нами дополнительное исследование (см. приложение А) показало, что дети, добивающиеся наибольших успехов в рамках программы DIR, которая нацелена на развитие базовых способностей и стимулирование эмоциональных сигналов, приобретают умение делать умозаключения, справляются с задачами, требующими понимания чувств и мыслей другого человека (модели психического), и способны к эмпатии[11]. Эти результаты ставят под сомнение прежние представления и открывают пространство для новых исследований.
Неспособность к восприятию чужих эмоций?
Еще один миф гласит, что дети с расстройствами аутистического спектра не способны воспринимать эмоции других детей или взрослых. Проводившиеся ранее исследования предполагали, что когда дети с подобными расстройствами видят выражения человеческих лиц, они обрабатывают эту информацию не той частью мозга, которую используют для этого обычные люди. Это казалось подтверждением идеи, что у детей с расстройствами аутистического спектра иначе устроен мозг. Но когда Мортон Гернсбахер и ее коллеги из Висконсинского университета в Мэдисоне воспроизвели одно из этих исследований, они обнаружили, что участники исходного тестирования, по-видимому, вообще не смотрели на лица. Когда они побуждали своих участников с диагнозом «расстройство аутистического спектра» смотреть на лица других людей, сканирование головного мозга выявляло у них активизацию тех же участков мозга, что и у здоровых участников теста. Иными словами, в результатах более раннего исследования отражались не столько различия в функционировании мозга, сколько характерная для детей с расстройствами аутистического спектра тенденция вообще не смотреть на лица.
В ходе исследования Гернсбахер и ее коллег обнаружилось, что детям и взрослым, которые очень остро реагируют на раздражители, трудно бросить быстрый взгляд на чужое лицо. Когда испытуемые смотрели на чужие лица, они проявляли беспокойство. Работая с детьми с расстройствами аутистического спектра, мы можем помочь им не только преодолеть такие стрессовые реакции, но научиться с удовольствием смотреть на лица других людей и их эмоциональные выражения.
Описанное исследование показало, сколь сложны и тонки некоторые проблемы, связанные с расстройствами аутистического спектра, и как даже хорошая работа может приводить к неверным выводам, если исследователь не рассматривает все альтернативные гипотезы. Убедительные факты свидетельствуют, что многие дети с расстройствами аутистического спектра могут приобрести мыслительные способности более высокого уровня. Хочется сказать, что таким детям, возможно, изначально не стоило ставить диагноз «расстройства аутистического спектра», но такое суждение порождает замкнутый круг. Есть дети, которые исходно удовлетворяли критериям, сформулированным для расстройств аутистического спектра в четвертом издании «Диагностического и статистического руководства», и при этом достигли высоких уровней абстрактного и рефлексивного мышления.
Первичная проблема или последствие?
Легко предположить или заключить, что у людей с аутизмом есть хронические или стойкие нарушения, связанные с неподдающимися изменению отклонениями в мозге. Однако подобные суждения часто основываются на недостаточном количестве данных. Один из самых сложных вопросов состоит в том, являются ли наблюдаемые поведенческие, эмоциональные или умственные отклонения первичной проблемой или следствием. Например, согласно недавним открытиям в сфере нейровизуализации головного мозга, у людей с аутизмом обычно имеются проблемы с формированием связей между различными участками мозга. Как уже было сказано, мы полагаем, что первичная проблема при расстройствах аутистического спектра – это отклонение биологического свойства, которое влияет на связь между эмоциями и двигательной системой и, далее, на способность использовать символы. Наше исследование позволяет предположить, что благодаря эмоциям обеспечиваются связи между разными ментальными функциями. Если такие связи не сформируются как следует в раннем возрасте, это может привести к различным последствиям, включая проблемы с осмысленным и целенаправленным использованием действий и слов и формированием соответствующих возрасту связей между различными областями центральной нервной системы (см. приложение Б).
Развитие детей, проявляющих признаки аутизма в младенчестве и раннем детстве, исследовано очень слабо, поэтому трудно судить о том, что является результатом каких-то ранних проблем, а что – первичным нарушением или отклонением. Ситуация дополнительно осложняется тем, что в большинстве исследований дети с аутизмом сравниваются со здоровыми детьми или с детьми, имеющими когнитивные нарушения или проблемы с развитием речи. Очень мало исследований, в которых дети с расстройствами аутистического спектра сравниваются с детьми без таких расстройств, но с различными нарушениями моторики или обработки сенсорной информации, которые часто наблюдаются и у детей с расстройствами аутистического спектра (т. е. с вполне способными к активному взаимодействию, творческими, говорящими, обладающими абстрактным мышлением детьми с множеством моторных или сенсорных нарушений).
Расстройства аутистического спектра лучше всего рассматривать в динамическом ключе, учитывая все факторы, которые оказывают влияние на развитие ребенка с течением времени. Мы выступаем за то, чтобы рассматривать расстройства аутистического спектра (включая синдром Аспергера) не как неизлечимое заболевание, которое либо есть, либо нет, но как динамический процесс, в ходе которого определенные биологические или неврологические проблемы оказывают влияние на развитие. Степень прогресса, вероятно, зависит от уровня неврологических нарушений, но практикующие специалисты должны стараться провести каждого ребенка через последовательные стадии эмоционального и интеллектуального развития до максимального доступного ему уровня, а не ограничиваться констатацией неизлечимого заболевания.
Мифы о пользе повторяющихся упражнений
Мифы о неспособности аутичных детей к интеллектуальному развитию, в свою очередь, породили мифы об эффективности некоторых терапевтических программ. Специалисты и родители могут склоняться к выбору такой программы, которая сосредоточена на повторяющихся действиях, – подобные действия якобы развивают у ребенка определенные навыки, вроде умения сопоставлять или сортировать предметы по размеру и форме. Искушение особенно велико в тех случаях, когда у ребенка нет никакого или почти никакого прогресса. Однако по мере того, как усилия все больше сосредотачиваются на повторяющихся действиях, прогресс ребенка в области взаимодействия или вовлеченности в общение может сходить на нет и даже обращаться вспять.
Сторонники повторяющихся упражнений, таких как подбор предметов по размеру и форме, полагают, что такие занятия учат ребенка классифицировать вещи. Но на самом деле те дети с очень медленным прогрессом, которых я наблюдал за подобными постоянными упражнениями, не учились классификации. Они могли освоить конкретную задачу, но при этом были по-прежнему неспособны классифицировать новую форму или цвет или продемонстрировать понимание разницы между, скажем, квадратными и круглыми формами. Важно отметить, что нет убедительных свидетельств того, что подобные повторяющиеся упражнения влияют на развитие фундаментальных составляющих мыслительного процесса. Все эти упражнения изначально были отобраны потому, что они соответствовали навыкам, имеющимся у многих детей, и оттого считалось, что полезно учить им и детей с отклонениями. Однако многие умения, которые с легкостью осваивают дети без отклонений, скорее всего, формируются благодаря тому, что эти дети уже овладели важными основами мыслительной деятельности, речи и социального развития (см. приложения А и Б). Годы практики привели нас к выводу, что если ребенок не демонстрирует никакого или почти никакого прогресса, лучший выход – удвоить наши усилия по развитию его ключевых способностей. Более интенсивная и более искусная работа по развитию фундаментальных основ, принимающая в расчет уникальные биологические особенности ребенка (описанные в общих чертах во второй части), обеспечивает прогресс, даже если он идет медленно и постепенно.
Миф о единой причине
По поводу причин аутизма до сих пор существует множество заблуждений, и ситуация усугубляется с ростом числа детей с таким диагнозом. Одни объясняют этот рост тем, что диагностика стала точнее, появились более широкие диагностические критерии и расстройство начали распознавать на более ранних стадиях, другие полагают, что это следствие аутоиммунных реакций, более широкого распространения стресс-факторов окружающей среды (например, свинца, полихлорированных бифенилов или диоксинов), постоянного воздействия телевизора, компьютера и прочих новых технологий в первые годы жизни и т. д. Как отмечалось в первой главе, исследования, ведущиеся по всему миру, подтверждают теорию разных причин – множество факторов, действующих в совокупности, создают кумулятивный риск. Согласно этой теории, к расстройствам аутистического спектра ведут разные пути. И на каждом из них существуют дополнительные кумулятивные факторы риска. В конце концов, возможно, мы обнаружим, что различные генетические и иные биологические отклонения взаимодействуют, создавая определенные типы предрасположенности.
Повторим, что причины расстройства важно рассматривать с точки зрения динамического подхода, учитывающего развитие ребенка. У таких симптомов аутизма, как погружение в себя или проблемы с проявлением эмоций, творческим и абстрактным мышлением, тоже могут быть разные источники. В качестве аналогии можно привести подъем температуры или воспалительную реакцию. Нам известно, что у повышения температуры или воспаления может быть множество причин, поскольку они относятся к числу тех ограниченных возможностей организма, посредством которых он реагирует на бесконечное разнообразие болезнетворных факторов. Мозг может функционировать сходным образом. У него тоже может быть ограниченное число ответов на все многообразие вызовов. Поэтому важно обращать внимание не только на распространенные вторичные эффекты, необходимо углубляться в ход развития заболевания в поисках ключевых процессов и факторов, которые оказывают свое воздействие. В последующих главах будет показано, что концепция DIR и методика Frnomme предлагают динамический подход, учитывающий развитие ребенка, который облегчает такие поиски.
Ложные диагнозы и неверные оценки
Мифы, которыми окружен аутизм, часто приводят к неправильным диагнозам. Наша фундаментальная посылка заключается в том, что для того, чтобы определить, как функционирует ребенок и заслуживает ли он диагноза «аутизм», мы должны узнать ребенка. Типичная процедура обследования включает в себя формализованные стандартные тесты и ограничивается лишь краткими наблюдениями за тем, как ребенок взаимодействует с родителями или другими близкими людьми, которые о нем заботятся. Довольно часто процедура обследования начинается с того, что ребенка отрывают от родителей, и ему приходится взаимодействовать с совершенно новыми для него людьми – рядом специалистов-диагностов или одним ведущим специалистом. Таким образом, профессионалы наблюдают ребенка не в тех условиях, когда он в состоянии продемонстрировать все, на что способен, и поэтому они не выявляют его истинных способностей к взаимоотношениям и общению. Вместо этого они видят, как ребенок реагирует на незнакомые обстоятельства, которые для некоторых детей бывают крайне дискомфортными.
У детей, гиперчувствительных к ощущениям или тяжело воспринимающих перемены и новые ситуации, простая разлука с родителями может вызвать отчаянное беспокойство и привести к тому, что ребенок будет прятаться под стулом, убегать в угол или отказываться с кем-либо разговаривать. Но тот же самый ребенок может прекрасно беседовать в других обстоятельствах. Мы наблюдали малыша, который в подобной ситуации замолчал и отказался говорить. У него было диагностировано тяжелое расстройство аутистического спектра. Позже в тот же день, увидев, что мать удручена, он спросил ее: «Почему ты расстроена?» Он обнял ее, продемонстрировав способность к близким отношениям и нормальную речь, даже многословность, но он не смог проявить все эти чудесные умения при постановке диагноза, потому что встревожился из-за того, что его разлучили с матерью.
Кто-то может возразить, что мальчик должен был лучше справиться с ситуацией, но дело не в этом, а в том, что оценивали не его страх разлуки, а владение речью и общие проблемы развития, чтобы определить, есть ли у него расстройства аутистического спектра. Врачи не видели его истинных способностей. Этого легко можно было бы избежать, позволив ребенку поиграть с матерью в течение первых сорока пяти минут: специалисты просто понаблюдали бы за их взаимодействием со стороны, пока ребенок осваивался в новой обстановке. Общаясь с матерью, он охотно говорил и прекрасно с ней взаимодействовал. Отклонения в развитии у этого ребенка были связаны с более тонкими проблемами.
Мы проверили двести случаев обследования детей в разных ведущих медицинских центрах, клиниках, в амбулаторных условиях и в рамках образовательных программ: более чем в 90 % случаев наблюдению за взаимоотношениями ребенка и родителя уделялось не более десяти минут, по большей части процедура проводилась незнакомыми ребенку взрослыми, и за взаимодействием ребенка с родителями наблюдали лишь в процессе формального тестирования или тогда, когда составляли историю болезни. Иными словами, отношения ребенка с родителем находились в центре внимания не более нескольких минут.
Родители часто замечают, что их ребенок в клинике и дома ведет себя по-разному. Поэтому важно, чтобы оценивающие ребенка специалисты смотрели домашние видеозаписи, приходили к ребенку домой или просто очень внимательно слушали рассказы родителей. Если родители настаивают на том, что дома ребенок ведет себя иначе, специалисты должны продолжать наблюдения до тех пор, пока между ними и родителями не будет достигнуто взаимопонимание. Если в оценках родителей и профессионалов имеются расхождения, скорее правы окажутся родители, потому что они наблюдают за ребенком на протяжении более долгого времени.
Достичь консенсуса важно не только ради правильной оценки, но и для того, чтобы спланировать терапию, потому что ни родители, ни иные взрослые, ухаживающие за ребенком, не будут следовать рекомендациям, если не будут чувствовать, что они отвечают тем проблемам, которые они наблюдают в домашней обстановке. Только рассказы родителей или наблюдения специалиста за тем, как они взаимодействуют с ребенком, могут прояснить, как в действительности функционирует ребенок. Только профессионал может извлечь необходимую информацию из таких рассказов и наблюдений, но никакие серьезные заключения невозможны без сведений из первых рук. Родители не обладают квалификацией, необходимой для постановки медицинского диагноза, но они лучше всех знают своего ребенка. Родители должны доверять себе и своему инстинкту и находить специалистов, которые не пожалеют времени, чтобы соотнести свои выводы с наблюдениями родителей и достичь с ними консенсуса.
Путаница с диагнозом может возникать и тогда, когда ребенок с неадекватным поведением или явными задержками развития демонстрирует неплохие результаты тестов на уровень развития. Мы убеждаем родителей и специалистов в том, что выводы не должны основываться на одних лишь результатах формализованных тестов. Несмотря на давнюю традицию их использования, они все же не столь показательны, как непосредственное наблюдение. Они могут быть частью обследования, но не единственным критерием для определения того, есть ли у ребенка расстройства аутистического спектра. Одна из распространенных ошибок – утверждение, что у детей с синдромом Асперге-ра нормальная или даже не по годам развитая речь. Ребенок с таким диагнозом по определению имеет проблемы с чтением и распознаванием тонких эмоциональных и социальных сигналов и не умеет использовать язык творчески и абстрактно во множестве жизненных ситуаций (т. е. не владеет языком в его прагматическом аспекте). Эта ошибка часто возникает из-за того, что такие дети могут хорошо справляться с формальными языковыми задачами, основанными на памяти (например, с упражнениями на сопоставление слов и картинок, определение значений слов), или даже выполнять простые логические упражнения со словами, предложениями и абзацами. Подобные формализованные задачи не раскрывают способностей ребенка к эмоциональному и социальному использованию языка – главному аспекту нормального языкового развития.
Поэтому некорректно говорить, что у детей с синдромом Аспергера нормальное языковое развитие. Их языковые способности, включая ограниченные логические и те, что основаны на памяти, нужно выявлять и развивать: с их помощью можно расширить языковые навыки ребенка, чтобы он мог делать и излагать умозаключения, а также использовать речь для общения. У детей с синдромом Аспергера часто нет достаточных возможностей, чтобы участвовать в творческих, непринужденных разговорах со взрослыми и сверстниками. В последующих главах мы расскажем о том, как помочь детям практиковаться в тех областях языка, которые представляют для них наибольшие трудности.
Распознавание первичных симптомов
Вторая, родственная проблема, связанная с неправильными диагнозами, возникает из-за разногласий по поводу симптомов аутизма и расстройств аутистического спектра. Как уже говорилось в первой главе, мы часто смешиваем первичные и вторичные симптомы. Нэнси Миншью и ее коллеги из Питсбургского университета провели исследование, в котором дети с аутизмом сравнивались с детьми без аутизма. Когда детей из обеих групп сопоставили по уровню речевой активности, способности проходить стандартизованный тест и умению понимать тестовые вопросы и отвечать на них, исследователи обнаружили, что наиболее существенные различия между детьми без расстройств аутистического спектра и детьми с такими расстройствами состоят в способности делать умозаключения (мыслить абстрактно и предлагать новые выводы или гипотезы), обмениваться эмоциональными сигналами (социально взаимодействовать, прочитывая чужие сигналы и посылая свои), проявлять сочувствие (понимать чувства другого человека), доверять другим и вступать с ними в контакт.
Диагноз нельзя ставить по одному симптому, но отсутствие ключевых способностей, описанных в первой главе, несомненно, служит показателем расстройств аутистического спектра. Как уже говорилось выше, такие вторичные симптомы, как тенденция к повторению действий, эхолалия и самостимулирующее поведение, часто встречаются у детей с расстройствами аутистического спектра, но все они наблюдаются не только при этом диагнозе. Поэтому при диагностике аутизма и расстройств аутистического спектра мы должны отличать первичные симптомы от вторичных. В доступных в интернете информационных материалах о расстройствах аутистического спектра это различение проводится не всегда. Это понятно, поскольку его не всегда легко провести. Но отличать первичные симптомы от вторичных необходимо ради более надежной диагностики: если налицо одни лишь вторичные симптомы, можно рассматривать альтернативные диагнозы. Например, у ласкового и общительного ребенка, способного осмысленно использовать несколько слов, но слишком остро реагирующего на раздражители, глядящего иногда пустыми глазами в пространство и склонного к повторяющимся действиям, могут быть отклонения в развитии, но не аутизм.
Мы разработали опросник для родителей, который позволяет оценивать активные эмоциональные способности детей. Наличие этих способностей означает нормальное развитие, а отсутствие указывает на возможные отклонения в развитии, требующие более подробного обследования. Эта разработка, «Опросник и карта социально-эмоционального развития Гринспена», была апробирована и показала большую достоверность и надежность. Изданный «Корпорацией психологов», этот опросник вошел в состав новых шкал Бейли.
Конечно, вторичные симптомы, которые мы не учитываем, стремясь избежать ложного диагноза, тоже нуждаются в терапии. В ходе клинического обследования команда специалистов объяснит родителям, как взаимодействовать с ребенком, учитывая особенности его нервной системы. На какие ощущения ребенок реагирует остро или, наоборот, слабо? На что он опирается в первую очередь, ориентируясь в мире, – на зрение или на слух? Насколько хорошо он умеет планировать действия? Может ли он выполнять действия, состоящие из трех, четырех или пяти последовательных элементов? Специалисты могут научить родителей работать с уникальной нервной системой своего ребенка так, чтобы для него были созданы оптимальные условия для взаимодействия. Лишь тогда удастся увидеть, насколько он способен к вовлечению в общение, обмену социальными сигналами и осмысленному использованию понятий (в том случае, если он хоть немного говорит).
Гипердиагностика аутизма и синдрома Аспергера
Один из наиболее распространенных ложных диагнозов – заключение, что у ребенка, обладающего ключевыми способностями (к общению, обмену социальными и эмоциональными сигналами, творческому и абстрактному мышлению), есть какое-либо расстройство аутистического спектра, поскольку у него наблюдаются некоторые симптомы, присущие этим расстройствам. Возможно, ребенок демонстрирует значительную социальную тревожность[12], теряет над собой контроль и легко впадает в истерики. При слишком большой нагрузке он становится упрямым и несговорчивым. Эта тенденция к гипердиагностике расстройств аутистического спектра усугубляется тем, что специалисты нередко изучают ключевые способности ребенка, пока он общается со сверстниками или находится в шумной и суетливой школьной обстановке, вместо того, чтобы наблюдать за ним в благоприятных для него условиях игры со взрослыми, которым он доверяет. Ребенок может плохо приспосабливаться к ситуации, слабо проявлять свои способности в той или иной соответствующей его возрасту обстановке, и в сложных для него условиях может даже замыкаться в себе или «взрываться». Поэтому, чтобы установить наличие той или иной способности, за ребенком нужно наблюдать в максимально благоприятных для него условиях. Если в этих условиях ребенок демонстрирует способность, значит, она у него есть. У него могут быть проблемы, над которыми нужно работать, но диагноз должен основываться на его истинных отклонениях.
Принципиальное значение наблюдения
Мы всегда начинаем обследование с простого наблюдения за ребенком и завершаем его беседой с родителями, чтобы выявить все, на что ребенок способен. Каждый ребенок действует в пределах широкого диапазона способностей. И крайне важно, чтобы диагноз основывался на верхних уровнях этого диапазона. Если ребенок иногда ходит, значит, он может ходить. Иногда он падает, но он может ходить. Если он иногда может общаться с другими, значит, он может общаться, и мы в силах научить его общаться активнее. Для постановки диагноза необходимо выявить максимум способностей ребенка.
Из-за условий, в которых проводится обследование, – шума в помещении, присутствия чужого человека, с которым ребенку приходится контактировать, разных заданий в тестах и т. д. – ребенка нередко удается увидеть лишь с худшей стороны. Это тоже важная информация: она позволяет специалистам понять, каковы индивидуальные особенности ребенка и характерные для него модели поведения. Расстройства аутистического спектра можно диагностировать после того, как будет составлено представление о максимуме и минимуме способностей ребенка и будут отмечены вышеописанные первичные симптомы, сохраняющиеся у него даже в наиболее комфортной ситуации. Или же специалисты могут заметить, что ребенок способен вступать в отношения, общаться и мыслить абстрактно и творчески, но только не в шумной обстановке. В таком случае они могут проверить, нет ли у него регуляторного расстройства[13], из-за которого он утрачивает свои способности в стрессовой ситуации. Но это совершенно отличный от аутизма диагноз.
Команде специалистов нередко приходится наблюдать за ребенком и работать с ним на протяжении нескольких месяцев, чтобы выяснить, на какие улучшения можно рассчитывать в его случае. Улучшения могут быть результатом терапии, но они показывают, на что способен ребенок в должных условиях и при должной программе помощи. Поэтому мы предпочитаем ставить временный предварительный диагноз и переходить к окончательной диагностике только тогда, когда видим, как ребенок реагирует на терапевтическую программу на протяжении определенного периода времени.
Правильный диагноз позволяет подобрать подходящую терапевтическую программу, поскольку она должна работать с первичными симптомами. В последующих главах мы подробно разъясняем, что результаты терапии отражают то, чем вы занимаетесь в рамках терапевтической программы. Если лечение направлено только на внешнюю сторону поведения, эта сторона может улучшиться, но прогресс, скорее всего, не затронет более глубокие области отношений, общения и мышления, то есть того, что большинство родителей стремятся дать своим детям.
Врачи, которые при постановке диагноза думают лишь о том, относится ли расстройство ребенка к аутистическому спектру, допускают большую ошибку. Такая постановка вопроса слишком узка. Здоровое развитие можно представить в виде десятибалльной шкалы, и положение ребенка на этой шкале не фиксировано. Чем больше ребенок вовлекается в общение с родителями, проявляя по-настоящему близкие и теплые чувства, общается жестами в непрерывном процессе взаимодействия и осмысленно разговаривает (на любом уровне), тем он ближе к десятому баллу шкалы. У ребенка по-прежнему могут быть проблемы с речью или моторикой, но при этом он движется по пути здорового развития.
С другой стороны, чем сильнее ребенок замкнут и погружен в свой собственный мир, чем меньше он способен к постоянному взаимному обмену жестами и чем больше его речь походит на цитирование, нежели на осмысленную передачу потребностей, желаний или ощущений, тем больше ребенок тяготеет к аутистическому концу шкалы. Но следует повторить, что это динамический процесс. Ребенок, оцениваемый на уровне четвертого балла – возможно, немного вовлеченный в общение, но и отчасти погруженный в себя, – необязательно останется на этом уровне навсегда. Комплексная программа вполне может помочь этому ребенку измениться, стать более общительным и увлеченным окружающей жизнью, перейти от четырех к шести баллам и даже подняться до девяти или десяти баллов.
Поэтому родители, которые задаются вопросом, нет ли у их ребенка расстройства аутистического спектра, должны помнить, что принцип «все или ничего» здесь неприемлем. Если у ребенка есть задержки в развитии, родители должны себя спросить: «Как мне обрести уверенность в том, что мой ребенок движется вперед должным образом?» При таком подходе для ребенка будут открыты все возможности эмоционального и интеллектуального развития.
11
Эмпатия – понятие, близкое к модели психического, означающее способность распознавать и непосредственно сопереживать текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения внешнего происхождения этого переживания. – Прим. ред.
12
Социальная тревожность – застенчивость и неловкое поведение, дискомфорт в определенных социальных ситуациях, в частности, новых
и непривычных. – Прим. перев.
13
Регуляторные расстройства – термин, принятый в международной диагностической классификации нарушений психического здоровья в первые годы жизни. Он объединяет обширный класс нарушений, при которых наблюдается отличный от нормы тип поведения в сочетании с различными симптомами нарушений физиологических процессов, сенсорики, психомоторики, внимания и эмоционального реагирования. – Прим. перев.