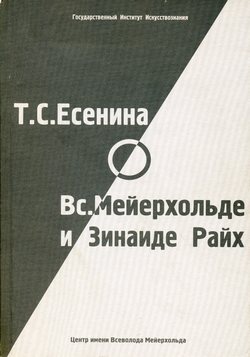Читать книгу Т. С. Есенина о В. Э. Мейерхольде и З. Н. Райх (сборник) - Группа авторов - Страница 3
Письма Т. С. Есениной К. Л. Рудницкому
Оглавление1
18 марта 1970
Уважаемый Константин Лазаревич!
Вам пишет из Ташкента дочь З.Н.Райх (т. е. приёмная дочь Мейерхольда). Читая вашу книгу «Режиссёр Мейерхольд», я с первых страниц стала удивляться и радоваться. Радоваться – тому, что вы очень многое так свободно и спокойно, без лишней полемики, поставили на место. Удивляться – тому, что эта работа вышла в 1969 году*.
Но некоторые страницы вызвали у меня чувство протеста и я решила вам написать.
Работа ваша посвящена только творчеству Мейерхольда, и задачу показать что-то через вехи его личной жизни, взаимоотношения с людьми и т. д. вы себе не ставили. В этом плане и выдержана первая часть книги. Во второй же части появляются отдельные беглые характеристики по типу тех, что вольны давать авторы мемуаров.
Приведу один пример (остальные похожи). На стр. 256–257, говоря о полемических приёмах Мейерхольда, вы несколько раз называете его «коварным». И в книге это первая оценка, касающаяся, так сказать, «морального облика» объекта вашего исследования, при этом речь идёт о возрасте, когда ему уже под пятьдесят. Понять, какой смысл вкладываете вы в само это слово – «коварство», – нелегко. Примером у вас служит статья «Одиночество Станиславского», она, пишете вы, «была проникнута нескрываемым желанием вырвать из Художественного театра по меньшей мере двух сильнейших мастеров…». Вот именно – нескрываемым желанием. Но коварством, вроде бы, до сих пор называли измены, тайные замыслы, двуличие и т. д. («Но кто б мог знать, что был он так коварен!» – Софья о Молчалине*).
Не могу судить, насколько точно вы употребляете это слово дальше, поскольку вы делитесь с читателем лишь своим общим впечатлением о прочитанных вами отчётах. Но вся эта скороговорка производит странное впечатление. Остаётся вспомнить предупреждение автора о том, что он не будет останавливаться на вещах, известных из ранее опубликованных источников.
Когда вы писали эти страницы (о «коварстве»), перед вами уже лежали наготове либо выписки из воспоминаний Эйзенштейна, либо книга «Встречи с Мейерхольдом» с закладкой на стр. 222. Об этом нетрудно догадаться, ибо чуть ниже вы Эйзенштейна цитируете:
«Это – не холод, это волнение, это нервы, взвинченные до предела…» А что там дальше у Эйзенштейна, сразу вслед за этими строчками? Читаем:
«Мейерхольд!
Сочетание гениальности творца и коварства личности».
В этих коротеньких воспоминаниях горестных восклицаний по поводу свойств мейерхольдовской личности сравнительно много. В каких поступках раскрывались эти свойства, автор не уточняет, но заподозрить, что тут что-то не так, что здесь гигантский перехлёст – не каждый себе позволит. Ведь Эйзенштейн обожал Мейерхольда, боготворил. И он прятал его архив. Ну и, в конце концов, это не кто-нибудь, а Эйзенштейн.
Наверное, было неправильно печатать эти воспоминания, туманные даже для узкого круга посвящённых, в сборнике, изданном стотысячным тиражом, без всяких комментариев*. В книге они явно стоят особняком. Они написаны значительно раньше (или значительно позже), чем другие воспоминания. Другие авторы сборника, многие из которых были гораздо более тесно связаны с Мейерхольдом, о каких бы недостатках его ни писали, таких криков души по поводу коварства его личности не издавали. И должен же кто-то задаться чисто психологическим вопросом – воспоминания писались в годы, когда примеров подлинного коварства, предательства, доносов, кровопролитной демагогии и т. д. было по пояс, – как в эти годы, восстанавливая в памяти закулисные конфликты четвертьвековой давности, Эйзенштейн мог выделять Мейерхольда как особо выдающегося носителя коварства.
Я бы эти воспоминания прокомментировала следующим образом:
Говоря о «коварстве личности», Эйзенштейн имел в виду прежде всего не прошлое, а настоящее. Он не знал, не должен был знать о том, что Мейерхольда уже нет в живых. Но дело не в этом, а в том, что ему было прекрасно известно, что Мейерхольд осуждён («10 лет без права переписки») по ст. 58 пункт 1а, который в прессе имел эквивалент «изменник родины» (п. 1б – «враг народа»).
Это обстоятельство Эйзенштейн не обошёл молчанием. На стр.224, где говорится о последней встрече Мейерхольда и Станиславского, он пишет:
«Но не внутренний разлад и развал привели к разрыву на этот раз.
Вырастая из тех же черт неуравновешенности нрава, одного из них привели к роковому концу* биографии трагические последствия собственного внутреннего разлада, другого – смерть…»
Таким образом, Эйзенштейн писал о Мейерхольде не как о жертве незаконных репрессий, а как о человеке, осуждённом правильно. И если читать то, что написано, – всё встаёт на своё место – и слова «коварство личности» употреблены весьма точно, и горестно-патетическая интонация вполне соответствует обстоятельствам.
Это настоящее и бросало свой отблеск на прошлое. Нелегко судить о том, насколько искренне Эйзенштейн мог считать Мейерхольда в чём-то виноватым. Можно предположить, что на случай обнаружения архива он и счёл нужным зафиксировать такое своё – двойственное – отношение к Мейерхольду. Из этих же соображений, видимо, была им сделана найденная в его бумагах запись «Сокровище»*, где было описано, как к нему попал архив.
Воспоминания писались в состоянии явного самоподогрева – время делало привычными такие вещи. Задачу облегчала старая, мне кажется, многим известная обида Эйзенштейна на Мейерхольда – он подозревал, что мастер умышленно скрывает от учеников (вот оно – коварство) какуюто вполне осознанную, секретную свою систему, которая и рождала волшебства в его творчестве. «Когда перейдём к методике?», «Горе тому, кто доверчиво шёл к нему с вопросом», «Я рациональное глухо ворчит» – именно подобного рода искренняя обида могла вмонтировать столь неподходящие слова в текст, исторгнутый, казалось бы, в состоянии такого экстаза, когда к вискам уже надо прикладывать пиявки.
Придёт время, и кто-нибудь, исполненный спокойного интереса и движимый исследовательским духом, попытается дать цельный психологический портрет Мейерхольда.
А пока что – мимоходом давать оценки, мимоходом вершить некий моральный суд – это же всё-таки не дело науки.
Конечно, если без всякого анализа мысленно тянуть из двадцатых годов в шестидесятые, как некую прямую линию, тенденцию губить людей с помощью демагогии*, можно увидеть в исходной точке этой линии Мейерхольда. Однако ещё Эйнштейн показал, что не все линии, которые мы способны проводить мысленно (особенно прямые), могут быть проведены в натуре…
Покоробила меня и интонация, с которой в книге подано всё, касающееся З.Н.Райх. Я не имею в виду недоброжелательства, напротив, вижу снисходительную авторскую усмешку: ну зачем было поднимать столько шуму по поводу выдвижения жены Мейерхольда – пусть с закулисной стороны это выглядело не очень красиво, но сцена-то не всегда терпела ущерб. Между тем есть два-три факта, которые, будь они приведены, пролили бы больше света на природу этого шума, чем авторская интонация.
Когда вы цитируете Маяковского* – «не потому он даёт хорошие роли Зинаиде Райх, что она его жена, а потому он и женился на ней, что она прекрасная артистка» – вашему читателю не может прийти в голову, что тут есть чисто фактическая ошибка. Знаете ли вы сами о том, что она есть?
В 1922 году Мейерхольд женился на женщине без специальности (кстати, она тогда только что вышла из психиатрической лечебницы). Ни малейшего отношения к театру она не имела. Учиться же она стала на режиссёрском факультете и актрисой стать не собиралась*.
Можно найти относящиеся к тому времени высказывания Вс. Эм., свидетельствующие об его интересе к практике американского кино – если нет нужного актёра, пробовать в роли подходящего по типу непрофессионала. Когда в период постановки «Леса» не могли подобрать кандидатуру на роль Аксюши, решили посмотреть по этому принципу, что получится у Райх. Таким образом, в 1924 году в возрасте 30 лет она сыграла свою первую роль, причём большую, не имея никакой профессиональной подготовки.
У вас на стр. 313 говорится: «Зинаида Райх, которая играла Аксюшу, прекрасно отделала всю пластическую сторону роли». Если бы тут читатель узнал, что жена Мейерхольда – не профессиональная актриса – играла Аксюшу в порядке эксперимента – это бы прояснило этическую сторону дела – ничьих талантов при этом ни она, ни Мейерхольд не зажимали, всё объяснялось тем, что театр был беден актрисами. И о том, что после такого дебюта можно было заподозрить в Райх какие-то нераскрытые возможности, это бы тоже как-то говорило и объясняло последующие пробы и обучение на ходу.
Ваш читатель о том, что З.Н.Райх жена Вс. Эм., узнаёт дальше при описании «Мандата», когда попутно говорится о конфликтах, вызванных выдвижением её на первые роли – Стефки и Варьки.
Стефку режиссёр отдал Райх, надеясь что-то извлечь из некоторого биографического сходства героини и самой актрисы. Роль Варьки – это небольшая роль. И вообще слова – выдвижение на первые роли, часто встречающиеся в тексте, не совсем точны.
Какая-то сумма мелких неточностей и недоговоренностей создаёт примитивную, шаблонную и неприглядную картину – женился на второстепенной красивой актрисе и принялся, ни с чем не считаясь, двигать её на первые роли.
Не был Мейерхольд героем такой пошлой истории*, как и не было в нём того инфернального коварства, из-за которого Эйзенштейн воздевал руки к небу. Не доказано всё это наукой…
Сценический путь З.Н.Райх был весьма коротким – она пробыла на сцене лет 13 и сыграла 9–10 ролей*. Во всех крупных ролях у неё были дублёрши. Частые упоминания и в цитатах и в авторском тексте об «актёрских аппетитах» Райх и о настойчивом стремлении Вс. Эм. сделать её первой актрисой театра создают впечатление, что и после ухода Бабановой в театре была целая плеяда талантливых претенденток на первые роли. Кто они? Кому Мейерхольд не давал ходу? Это было ему свойственно?
У двух-трёх человек, прочитавших вашу книгу, я спросила – после того, что К.Рудницкий написал о Райх, можно ли себе представить такую вещь: когда в 1930 году театр Мейерхольда выезжал за границу, поездка была совершенно триумфальной для этой актрисы* – десятки рецензентов Берлина, Парижа и других городов посвятили ей восторженные статьи, в их числе были и крупные театроведы?
Мне отвечали:
– Конечно, такого и вообразить невозможно. А почему Рудницкий об этом не пишет?
Наивный, разумеется, вопрос (молодёжь)…
Попутно ещё два слова о том, что вспомнилось при чтении.
О спектакле «Доходное место»* вы пишете, что он всё «шёл и шёл». Я в этом что-то не совсем уверена. Отчётливо помню репетиции по возобновлению спектакля и, соответственно, – премьеру. Это могло быть где-то в 1935 году, но за точность не ручаюсь. Это, наверное, легко проверить.
Заключительные сцены в «Предложении» и «Медведе» были не совсем такими, как вы описываете. В «Предложении» в финале была кадриль, она симпатично описана А.Гладковым, по-моему, в сб. «Встречи с Мейерхольдом». В финале «Медведя», после того, как в дверях показывались прибежавшие на помощь крестьяне с вилами, раздавалась бравурная музыка, Поповой подавали огромную шляпу с цветами, а за этим следовал не танец, а, скорее, «променад» в быстром темпе, который они вдвоём со Смирновым совершали по авансцене.
Пьеса Дюма претерпела чуть больше изменений*, чем видно из вашего текста. Был сделан новый перевод (Пястом), обработанный потом совместно Мейерхольдом, Райх и Царёвым, – они официально считались соавторами перевода. Действие пьесы было сдвинуто примерно на четверть века вперёд. Это-то и позволило оформить спектакль в духе Ренуара и Мане, изменить облик костюмов, включить в текст роли одного из персонажей первого акта цитаты из Флобера (эту роль играл Мологин). Маргерит исполняла песню на слова Верлена и т. д. Кстати, немного позднее, поставив у себя в оперном театре «Травиату», НемировичДанченко сделал точно такую же передвижку во времени*.
Хочу в заключение повторить, что в целом мне понравилась ваша книга, иначе зачем бы я стала вам писать.
С приветом!
Т.Есенина
18. III. 1970
2
[Начало 1982]
Дорогой Константин Лазаревич! Спасибо за книгу*, я давно получила её и прошу прощения за то, что не сообщила об этом раньше. В письме к своему живущему в Москве сыну я просила его позвонить вам, а он, оказывается, был болен.
Я очень рада выходу вашей книги. Люди хвалят. Многие главы написаны свободно и с блеском, особенно в первой половине книги.
Кое-что резануло меня в описании конфликта М-да с Бабановой, а особенно слова: «Впоследствии ни при каких обстоятельствах ни одного дурного слова о Мейерхольде не произнесла». В конце 1937 года, когда перед закрытием театра печать занималась травлей Мейерхольда, в ней приняла участие и М.И.Бабанова, опубликовав в одной из газет статью «Почему я ушла из театра Мейерхольда»*.
На последних горьких страницах, увы, мало подлинного Мейерхольда с его готовностью вынести всё и неспособностью покориться до конца. И как на грех, оба ваши примера, показывающие, как «опустился» Мейерхольд, не показательны. Это – взгляд постороннего наблюдателя*, пытающегося уловить, как повлияли на Мейерхольда те невзгоды, которые были у всех на виду. Вс. Эм. бывал всегда подтянут по той простой причине, что за ним, как это обычно бывает, присматривала жена, причём и в 1938 и в 1939 году в доме поддерживался заведённый порядок. Но именно тогда, когда Вс. Эм. начинал свою работу у Станиславского, ситуация была ужасающей из-за болезни Зинаиды Николаевны – все были растеряны, не спали ночами. И это было единственное, что могло доводить Мейерхольда до отчаяния. Свидетелями происходящего были люди, далёкие от театра, – сестра Маяковского Ольга Владимировна, жена Ю.Олеши. И думаю, что за пределами дома Вс. Эм. никому не жаловался. А 15 июня 1939 года – это Ленинград за пять дней до ареста*. Вс. Эм. опять же был предоставлен самому себе, Зинаида Николаевна находилась в Москве.
«Пустые рамы» в доме, представьте себе, были!* В комиссионном как-то купили несколько массивных лепных позолоченных рам – просто так, потому что понравились. Они были сложены в передней, и с теми, кто обращал на них внимание, возникали разговоры о том, что рамы, дескать, есть, а картины для них ещё не написаны. В домыслах мемуаристов услышанное перемешалось с увиденным. Вообще «жёлтая» комната могла бы служить тестом для проверки наблюдательности. Кому-то примерещился аж зал с колоннами*, кто-то увидел балкон, которого не было. Причуды памяти связаны, наверное, с тем, что помимо необычного убранства эта очень просторная комната (в ней было никак не меньше сорока метров) имела затейливую конфигурацию – её нельзя было всю окинуть взглядом с порога. Окна были разной формы.
А хозяин комнаты и подавно был объектом, с которым рядовая наблюдательность плохо справлялась…
С большим приветом!
Т.Есенина
3
25 апреля 1982
Дорогой Константин Лазаревич! И как это я не сказала о снимках. Конечно же, для меня было приятной неожиданностью увидеть напечатанными эти прекрасные снимки 1923 года*. На снимке у гроба* заинтересовавшая вас женщина – это близкая подруга моей матери – Зинаида Вениаминовна Гейман. Она была знакома с четой Есениных ещё в Петрограде, а когда они расстались, продолжала дружить с каждым поврозь. В литературе о Есенине имя её попадается, умерла она сравнительно недавно. Работала она тогда, в 1925–1926 годах, кажется, в журнале «Жизнь искусства». Сосед её на снимке похож на Вольфа Эрлиха, но я сужу по другим фото – в лицо его не знала. Двое следующих мне неизвестны. Снимок сделан в Доме печати, доступ туда был свободный, могли присутствовать и посторонние. Неизвестных лиц на снимках тех лет, мне кажется, бояться положено, а вдруг они будут потом опознаны как нежелательные.
В отношении статьи Бабановой, вы знаете, – ну не могла я ошибиться. Не помню я всю ту прессу – от нежелания вспоминать. Не забылись два выступления, и оба исходят из Театра Революции. Это, во-первых, заметка Д.Н.Орлова*, напечатанная где-то под этим самым дежурным заголовком – «Почему я ушёл…». Между тем, хоть в театре ему когда-то играть и доводилось, но он туда не «приходил», а потому и не «уходил». Не успел тогда Всеволод Эмильевич удивиться, как позвонил Дмитрий Николаевич. Он был в отчаянии, умолял поверить ему, что он вообще ни при чём. Приходил к нему какой-то молодой человек из газеты, поговорил, а потом, не предупредив, напечатал заметку, в которой сам всё сочинил, включая заголовок. Статью Бабановой не забываю, потому что она огорчила меня. Я любила эту актрису, бегала на неё смотреть в Театр Революции. Кроме того, на моих глазах между ней и Вс. Эм. произошло если не примирение, то что-то вроде этого. В начале 1934 года возобновляли «Доходное место» и Вс. Эм. брал меня с собой на репетиции. А дома нас потом расспрашивала Зинаида Николаевна, и мы наперебой хвалили Бабанову – З.Н. тоже с удовольствием вспоминала, как прелестно она играла когда-то Полиньку. Правда, Вс. Эм. всё же упрямо ввернул то, что он обычно говорил, когда речь заходила о Бабановой, – что амплуа её ограничено (инженю). Премьерой «Доходного места» театр отмечал 60-летие Мейерхольда, перед началом А.Д.Попов говорил приветствие, а после спектакля за кулисами был банкет.
Нет, нет, где-то она есть, эта статья – не появилась ли она уже под занавес, в январе, может быть, уже после 8-го? Она была очень сдержанна, отличалась этим от многих.
Вы спрашиваете, когда заболела Зинаида Николаевна. В архиве М.Зощенко, возможно, лежат её письма – весной 1937 года она жаловалась ему на своё психическое состояние. Его ответы не сохранились, как и ранее подаренная им книга – «Возвращённая молодость» с надписью «Зинаиде Николаевне, прекрасной актрисе и самой умной женщине», которую мне особенно жаль (надеюсь, правда, что где-то она цела*). Помню, Зощенко советовал осторожнее в себя углубляться, писал, что когда он сам себя анализировал и разложил на составные части, то сложить всё обратно в том порядке, в каком это было ранее сделано господом-богом, ему не удалось.
Но если говорить об истоках болезни З.Н., надо вернуться далеко назад, тем паче что это связано с некоторыми поступками Всеволода Эмильевича в двадцатые годы. Наверное, это было в самом начале 1921-го, когда на мою мать обрушился целый каскад болезней – брюшной тиф, волчанка, сыпной тиф. Не могу с точностью сказать, когда начались их встречи с Вс. Эм., но знаю, что первые признаки отравления сыпнотифозным ядом мозга проявились у него на глазах (они были еще на «вы», и она ему сказала – «у вас из сердца торчат ножи»). Её лечили в психиатрической больнице. Эти интоксикации приводят обычно к буйному помешательству (у матери было чередование нескольких маний), но всё быстро заканчивается, хотя след может остаться на всю жизнь. Вс. Эм. знал, что для полного излечения её желательно загрузить интересной работой*, а главное – оберегать от волнений.
З.Н.Райх и В.Э.Мейерхольд. 1923
З.Н.Райх. 1923
В.Э.Мейерхольд. 1923
З.Н.Райх. Середина 1920-х
В.Э.Мейерхольд. 1924 (?)
З.Н.Райх. 1926
В.Э.Мейерхольд. 1926
В.Э.Мейерхольд. 1926
З.Н.Райх. 1926
З.Н.Райх с Костей и Таней. 1928
В.Э.Мейерхольд с Таней и Костей. Новинский бульвар, январь 1928 г.
В.Э.Мейерхольд. 1930
З.Н.Райх. 1930
З.Н.Райх и В.Э.Мейерхольд. 1924. (Мейерхольд после обрушения конструкции «Леса»)
З.Н.Райх и В.Э.Мейерхольд. 1930. (Гастроли в Германии. На вокзале в Берлине)
В.Э.Мейерхольд. 1933
В.Э.Мейерхольд и З.Н.Райх. Конец 1930-х
В.Э.Мейерхольд. 1937
З.Н.Райх. 1937
Мать моя от природы была на редкость здоровой, сильной и энергичной женщиной. Всё это осталось при ней. А душа была раненая (это слова Вс. Эм.). Если сравнить помещённые вами снимки со снимками 1917–1918 года, сразу видно, как изменили её болезнь и ранее перенесённые страдания. «Практически», как это говорят медики, она была совершенно нормальна – мажорного настроя, внимательная, собранная. Но если что-то сильно выбивало её из равновесия, то гнев её или горе, испуг, тревога, возмущение – всё это бывало с молниями в глазах, с бледным окаменением лица, с интонациями, от которых порой кровь леденела. Всеволод Эмильевич видел во всём этом задатки трагической актрисы. Постоянные друзья З.Н. были, как правило, людьми уравновешенными, при общении с людьми взвинченными могла проявиться несовместимость, нечто вроде отталкивания одноимённых зарядов. Ограждая З.Н. от душевных травм, Всеволод Эмильевич бывал подчас не только решителен, но и агрессивен. Возникает вопрос – зачем же он вообще её «на дебют роковой выводил»*, как ему пришло в голову толкнуть её на путь актрисы в её возрасте и при её травмированности. Один из ответов, мне кажется, лежит на поверхности – Комиссаржевская начинала поздно и после семейной драмы. А «выводил» он её осторожно. Осенью 1921 года она начала учиться на режиссёра, и если, скажем, в «Великодушном рогоносце» будущие актёры участвовали в массовых сценах, то ей доводилось крутить за сценой мельничные колёса. И первая проба в «Лесе» не грозила ей разочарованиями, раз уж она не к этому себя готовила.
В вашей книге не раз повторяется, что Вс. Эм. хотел сделать из неё «первую» актрису. Для меня это звучит так же, как если бы его заподозрили в стремлении сделать из неё заслуженную артистку республики. Он вынашивал другие планы, обдумывая, в какой роли могло бы проявиться то, что в ней есть. Самый незабываемый план – выучить её петь, чтобы она исполнила партию Кармен в опере* (где, на какой сцене – так далеко Вс. Эм., кажется, и не заглядывал). И мать моя училась петь на дому, а живший в то время в Москве итальянец, некто маэстро Гандольфи*, брал на себя окончательную подготовку. Но хотя у матери был голос и она была музыкальна, техникой она овладеть не смогла и даже романсы, если ей приходилось исполнять их в спектаклях, давались ей с трудом. Всё это подошло к своему логическому концу на одной из репетиций «Наташи». Когда З.Н. запела нечто, пьесой предусмотренное, Мейерхольд вдруг закричал:
– Наташа не уме-ет петь. Наташа никогда не пела!
Мать хохотала, рассказывая, мне об этом – «представляю себе, как ему осточертели все попытки выучить меня петь».
Путь в актрисы не сопровождался катаклизмами до скандала, затеянного Ильинским*, но непредвиденные неприятности пришли до этого и совсем с другого бока. Вы пишете, что к 1928 году Вс. Эм. стала утомлять «шумная и безалаберная жизнь на Новинском». Что вы имеете в виду? Наша семья тогда разделилась пополам, и мы переехали на Брюсовский, оставив на Новинском родителей З.Н. и её сестру с первым мужем А.Горским. А что касается того творческого, романтического коллективного духа, который на первых порах объединял нищий верх с нищим низом – квартиру Мейерхольда с общежитием и мастерскими, то это была бочка мёду, обречённая на то, чтобы в неё попала ложка дёгтю. В 1926 году внутренней лестницей, соединявшей верх с низом, пользоваться перестали, дверь забили и между «начальником» и «подчинёнными» установилась единственно возможная дистанция. Актёры театра, за редким исключением, с тех пор не были гостями нашего дома.
Когда в Москве зарплата перестала быть символической, возможности Мейерхольда перейти к сносному образу жизни оказались выставленными напоказ. Не пересудов испугалась тогда З.Н. – она не знала, куда же девать теперь идеалы равенства, сочла поначалу, что единственный выход – делиться, помогала, раздаривала, закатывала угощения. Куда-то поступили сигналы, что Мейерхольд живёт не по средствам, и они проверялись. Но, конечно, мишенью зависти была в основном З.Н. (он заслужил, а ей за что?). Во время второй поездки за границу* Зинаиде Николаевне подстроили исключение из партии… за неуплату членских взносов. Уехав, они со Всеволодом Эмильевичем не знали, что в театре перестали механически вычитать взносы из зарплаты. Деньги за Мейерхольда внесли, а З.Н. исключили. Она была очень расстроена, но восстанавливаться не стала. Было это, видимо, уже после ухода Ильинского.
Всё, что шипело и булькало внутри театра и за его пределами – всё это «заговор чувств» самых разнообразных. В такой обстановке Вс. Эм. делал не то, чего его левая нога захочет, а ходы вынужденные. Ошибочны ли они были – это вопрос другой. Но когда на бумаге получается, что Вс. Эм. через всё переступал ради жены, на неё же навлекая недовольство, а этому противостояли одни лишь чувства праведные – это всегда скороговорка, за которой глаз внимательный уловит предвзятость. Некоторые мемуары, появившиеся спустя десятилетия, писаны рукой, ещё дрожащей от возбуждения.
От потрясения, вызванного смертью Есенина, мать отходила невероятно долго – годы. А с 1931-го по 1935-й год – это, наверное, лучший период её жизни. С 1936 года на неё по вполне понятным причинам стала накатываться тревога. Мне кажется, что Вс. Эм. внутренне напрямую глядел в глаза тому, что вокруг происходило, но страхам не поддавался, полагаясь на непредсказуемость завтрашнего дня и надеясь, что «пронесёт». Мать, напротив, погружалась в страхи и предчувствия, но пустить в себя мысль, что всё идёт «сверху», было свыше её сил, и она пыталась убедить себя, что театр становится жертвой диверсии. После запрета «Наташи»* мы в первых числах мая поехали в Ленинград вчетвером, и там, на ленинградской квартире, всё и началось. Она кричала, что вся пища отравлена, и никому не разрешала есть. Нельзя было находиться напротив окна – выстрелят. Ночью вскакивала с воплем – «сейчас будет взрыв». Невероятного труда стоило её удержать, чтобы она с криками не выбежала на улицу полуодетая. Это не было помешательство с полным помутнением сознания. Это был уход в болезнь в состоянии неимоверного перевозбуждения. Через неделю Вс. Эм. отправил меня домой, а Костя уехал ещё раньше. Из Москвы вызвали домработницу, на помощь пришли Борис Эмильевич* с женой.
Вернулась мать тихая и печальная, она взяла себя в руки, всё последующее вынесла, в общем, стойко и после закрытия театра месяца полтора ещё держалась. Потом начала взвинчиваться, а в марте повторилось примерно то же, что было в Ленинграде. Полностью пришла она в себя, кажется, в апреле, нашла себе занятие – написала сценарий и послала его на открытый конкурс под псевдонимом З.Ростова. Когда результаты конкурса были опубликованы, её сценарий оказался в числе рекомендованных к постановке. В.Шкловский* обещал помочь довести до кондиции. Она начала ещё один сценарий, но его уж не закончила.
По поводу гибели З.Н. я могу рассказать то, что мне известно – самозащита не срабатывает, и это всегда со мной. Определить – было ли ограбление, муровцы привели в квартиру меня (я приехала в Москву с дачи, а брата в это время ещё везли под конвоем из Константинова, куда он поехал проведать бабку). Я осмотрела шкафы, полки, ящики – всё есть. И это и многое другое говорило о том, чего сознание не хотело принимать, – приходили только для того, чтобы убить. Предположение, что замешаны те, кто 20 июня опечатывал кабинет Вс. Эм. и наблюдал за квартирой, не могло не возникнуть сразу. Кому как не им было знать, что в квартиру легко проникнуть без взлома (в кабинете дверь на балкон осталась незапертой, к балкону примыкала керосиновая лавка, опечатанная дверь, ведущая из кабинета в жёлтую комнату, тоже была незапертой) и что Костя уехал. Перед отъездом он спал в одной комнате с матерью – и его и моя комнаты тоже были опечатаны, домработница спала в закутке на другом конце квартиры – её ранили, когда она проснулась и побежала к З.Н.
Перед похоронами вызывали куда-то мужа тётки нашей – актёра В.Ф.Пшенина. Ему сказали, что если сын и дочь захотят хоронить мать из дома, то разрешается взять её только на полчаса. Но если они согласятся хоронить прямо из института Склифосовского – это будет лучше с точки зрения их будущего. И ещё предупредили, что из квартиры будут выселять.
Мы сказали Васе – пусть передаст, что возьмём на полчаса. В назначенный час у подъезда на Брюсовском встали в две шеренги молодые люди в одинаковой штатской одежде и никого не пускали, кроме своих. Они же сопровождали нас на кладбище и стояли у открытой могилы. Всё это были как бы сигналы из преисподней – дело особое, говорить и думать о нём опасно.
Наших соседей из другого подъезда, отца и сына Головиных (отец – артист Большого театра), арестовали уже во время войны. Говорили, что сын попался на мелкой краже и при обыске что-то нашли из квартиры Мейерхольда. Уже после войны, когда в Ташкент приезжал на гастроли певец Батурин, я, узнав случайно, что он – член Верховного суда СССР*, встретилась с ним. Оказалось, что он (не в составе суда) присутствовал на суде над Головиными и убедился, что дело откровенно сфабрикованное. Из Большого театра пытались помочь, но ничего не вышло.
Летом 1955 года я встретилась с военным прокурором Ряжским*, занимавшимся реабилитацией Мейерхольда. Он рассказал о пунктах обвинения, показал подпись Лаврентия под материалами «следствия», но предупредил, что ни о чём тяжелом говорить со мной не будет. Свои вопросы я задала через И.Ильинского – Ряжский пожелал видеть его у себя. Ответы, которые получил Игорь Владимирович, были: да, Мейерхольд знал о гибели своей жены, да, сын Головина не был убийцей, настоящие преступники найдены и осуждены*.
Позднее один информированный человек сказал моему брату, что в одной из колоний содержались профессиональные бандиты, находившиеся в распоряжении Лаврентия и выполнявшие некоторые его задания. Мать и была их жертвой.
Когда нас выселяли с Брюсовского, мой дед, отец З.Н., сказал – «её убили из-за квартиры». Потом мы узнали стороной, что в квартиру, разделив её на две, вселили секретаршу и шофёра Лаврентия, и слова деда перестали мне казаться несусветным бредом. При характере болезни З.Н. её невозможно было изолировать тем же бесконфликтным способом, что и других жён. Но не исключено, что её оставили бы в покое, если бы в 1938 году она не послала письмо тому большому учёному, который знал толк в языкознанье. Это письмо она давала нам читать. Всеволод Эмильевич категорически запретил ей его посылать. Через 17 лет Ряжский мне сказал, что оно лежит в деле. Письмо было не то чтобы дерзким, оно было до дерзости наивным*. То, что З.Н. послала его тайком (а это абсолютно на неё не похоже), говорит, что мы скорей всего ошибались, считая её в тихие периоды нормальной.
Будьте здоровы. Подтвердите, пожалуйста, получение этого письма.
Т.Есенина
25. IV. 82
С труппой театра. 1926
С Костей и Н.А.Райхом в Горенках. Конец 1930-х
В.Э.Мейерхольд с первым выпуском ГЭКТЕМАСа. 1926
З.Н.Райх и В.Э.Мейерхольд. 1937
4
26 мая 1982
Дорогой Константин Лазаревич! В ответ на ваше взволнованное письмо могу сказать, что ещё по вашей первой книге я увидела, что у автора «пепел стучит…» и есть сознание своей миссии. Потому я готова и спорить с вами, и, если это возможно, чем-то помочь. Раз письмо моё дошло, раз вы задаётесь вопросами – что же случилось с З.Н., – я продолжу. Не стала сразу приводить всех подробностей – и долго, и неохота бросать в ящик слишком толстые письма такого рода.
Так вот, я думаю, что квартира сыграла роковую роль, но не потому, что была слишком нужна, а из-за обстановки массового психоза. И.Г.Эренбург необъяснимые акции тех лет называл «игрой ума», имея в виду, что те, кто симулировал эту грандиозную борьбу с «врагами», острые ситуации создавали для правдоподобия. Но можно ли сомневаться, что Лубянку постоянно сотрясали свои внутренние дела, в том числе и мародёрские. В 37-м мародёрство в Москве бушевало. Золотые вещи уносили сразу, квартирами завладевали либо целиком, либо частично, описанное имущество покупали за бесценок. В 39-м добычи было меньше.
Почему за Вс. Эм. пришли в Ленинграде? Возможно, это был наиболее простой способ завладеть ленинградской квартирой и всем её содержимым. Вламываться в пустую квартиру в доме Ленсовета – оформлять эту процедуру было бы, наверное, сложнее. А квартира на Брюсовском, площадью около ста метров, как видите, никакому чину целиком не понадобилась. Двадцатого июня опечатали кабинет Вс. Эм. Позднее, недели через две, пришли и опечатали мою и Костину небольшие комнаты. Повторный приход с такой целью – это странно. И кто-то всё равно не учёл, что превращение квартиры в обычную коммунальную без перестройки было невозможным – огромная жёлтая комната оставалась проходной. И ещё сложности – как быть с З.Райх. Кто-то мог скомандовать – решить всё в три дня. И решили. Выселение было беспрецедентно оперативным – Косте успели подыскать маленькую комнату в Замоскворечье, докопались, что я прописана на три месяца (дальше объясню, как это получилось), мне заявили, что я могу жить на даче. И квартиру тут же начали делить пополам, сооружая во второй половине кухню и прочее.
Обстановка похорон – это уже «игра ума». Всё вроде бы делали так, чтобы избежать шума, но одновременно и так, чтобы посеять слухи о таинственной связи происшедшего с делом Вс. Эм. Расскажу ещё один эпизод. Когда предупредили, что сразу после похорон будут выселять, дед наш, выяснив, что наш депутат – нар. арт. СССР И.М.Москвин, дозвонился до него. Москвин шёл к телефону, зная, что его беспокоит отец З.Н., и заговорил сам, не давая ему слова сказать:
– Общественность отказывается хоронить вашу дочь.
Дед объяснил – речь не об этом, дочь свою он похоронит сам, а просит он приостановить выселение.
– Я считаю, что вас выселяют правильно.
Был ли И.М.Москвин монстром не только по внешности? Если и был, то неужели до такой уж степени? В том самом высшем органе, который он представлял, с просителями так враждебно не разговаривали. Узнать, в чём дело, выразить соболезнование, пообещать что-то выяснить – в этом крамолы не было. Видимо, Москвин был запуган* и вместе с другими «общественниками» готов давать отпор всем, кто заговорит о З.Райх. Отказывающейся общественностью, наверное, должен был явиться прежде всего Театр Станиславского. О случившемся они были официально информированы сразу. Когда работники МУРа увозили меня с дачи, они не сказали – зачем. И вскоре после моего отъезда деду и бабушке сообщил обо всём присланный из театра шофёр – тот самый, который возил Вс. Эм. О похоронах речи не было.
В прошлом письме я не рассказала, как начиналось следствие [об убийстве З.Н. – Ред.]. Его повели обе инстанции [Лубянка и МУР. – Ред.], каждая своими способами.
Вы спрашиваете – что сказала домработница. Её звали Лидия Анисимовна – очень грузная, рыхлая женщина на шестом десятке, она работала у нас лет семь. С криком «что вы, что вы?» она побежала по коридору, и тут мимо неё кто-то промчался, ударил чем-то острым по голове и выскочил на лестницу, оставляя кровавые следы. Залившись кровью, Лидия Анисимовна повернула назад и тоже выбежала – звать на помощь. Дверь за ней захлопнулась, чтобы попасть в квартиру, дворник приставил к окну лестницу. Второй преступник – это увидели по следам – скрылся, как и пришёл, через балкон. Мать была ещё жива, у неё было восемь ранений в область сердца и одно в шею. Лидию Анисимовну тоже повезли в больницу, она слышала как З.Н. сказала «пустите меня, доктор, я умираю», больше она говорить не могла*. Скончалась она от потери крови.
Лидия Анисимовна пробыла в больнице не больше недели и приехала на дачу. А через два-три дня её увела Лубянка. Это было в моё отсутствие, среди бела дня, обыскали только кухню. А МУР своим чередом вызывал всех близких, составляли протоколы. Из-за этой связи с МУРом до нас дошло, что в первые же дни человек пятнадцать было задержано «по подозрению», но всех отпустили.
Потом Лубянка увела братьев Кутузовых. Тут надо объяснить что к чему. Когда всё случилось, мне исполнился 21 год, у меня был годовалый сын. Выходила я замуж за человека, у которого и отец и мать уже сидели. Мой бывший муж был сыном члена Президиума ВЦИК И.И.Кутузова, который при Ленине был довольно известен, особенно как один из лидеров «рабочей оппозиции»* (Шляпников, Медведев, Кутузов). Гибель И.И. можно было предвидеть, между ним и «отцом родным» издавна существовала неприязнь, и когда вошло в моду каждую речь заканчивать «да здравствует наш великий…», Иван Иванович по всей форме получил выговор за то, что избегал этой здравицы.
У Кутузовых было двое сыновей и три дочери. Жили они в двух шагах от нас, в угловом доме на ул. Станкевича, в огромной совершенно изолированной квартире – окна в окна с Моссоветом. Самая большая комната была опечатана, и в неё потом вселили некоего Булкина с женой и ребёнком – мелкую сошку из интендантской службы. Обстановку комнаты он купил после того, как И.И. был осуждён. Глаза у него горели, и он никогда не улыбался. Он потребовал от братьев, чтобы они убрали из передней портрет своего отца – врага народа. Начались конфликты, Булкин притих, но, конечно, написал донос.
По разным причинам, в основном из-за состояния матери, я к мужу переехала только в конце августа 1938 года – с трёхмесячным ребенком. А через несколько дней моего мужа и его старшего брата Ваню арестовали. Дождавшись утра, я пошла на Брюсовский.
Мать была более или менее в равновесии и происходящее вокруг воспринимала уже не так болезненно. Более того, стал угасать страх за Вс. Эм. Статья Керженцева* была очень многозначительным концентратом – многие были уверены, что либо М-д уже сидит, либо это случится в ближайшие дни. Но позади были уже месяцы. Когда на лестнице попадались соседи с третьего этажа Гиацинтова и Берсенев, это напоминало – тоже вот театр закрыли, но крови не возжаждали*. От неприятных мыслей, если они не диктовали поступков, Вс. Эм. умел отключаться, как никто. А что они могли диктовать? С необходимостью держать язык за зубами Вс. Эм. смирился давным-давно, очень в этом смысле боялся за Костю и за своего внука Игоря, предостерегал иногда очень раздражённо – как можно ломать судьбу из-за ерунды. Но унизительные проявления осторожности – это было не для Вс. Эм. Судите сами. Его самым близким и самым любимым другом был Юргис Казимирович Балтрушайтис – посол Литвы. Этот самый молчаливый на свете человек в 1937 году вдруг обрёл язык и, как персона грата, позволял себе во всеуслышание говорить то, что думал. Пошли слухи, что наши власти будут требовать сменить посла. З.Н. испугалась, она договорилась с Юргисом Казимировичем, что встречи временно будут прекращены. Узнав об этом, Вс. Эм. возмутился – «это самое большое преступление, какое ты совершила в своей жизни». Но ещё одна встреча у них состоялась – об этом с ужасом и восторгом рассказывала мне мать спустя примерно месяц после того, как я прибегала к ней со своей новостью. Мейерхольд шёл куда-то один и вдруг заметил, что по улице Горького двигается кортеж – посольская машина с флажком, в ней сидит заваленный чемоданами Балтрушайтис, а следом идут две сопровождающие машины. Мгновенно сообразив, что это означает, Мейерхольд бросился наперерез, машина притормозила, Мейерхольд сел рядом с Балтрушайтисом. Он проводил изгоняемого посла, посадил на поезд на Белорусском вокзале, они простились навсегда.