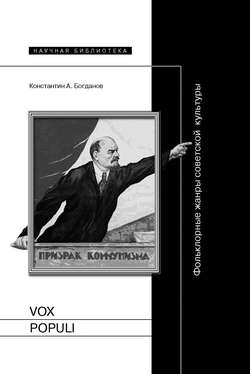Читать книгу Vox populi. Фольклорные жанры советской культуры - Константин Анатольевич Богданов - Страница 2
О ЯЗЫКЕ И РИТУАЛЕ
ОглавлениеВ работах историков своеобразие советской эпохи предстает своеобразием идей, ситуаций и даже человеческих типов, воплотивших реализацию воспитательного проекта по созданию нового, «советского человека» (в эпоху Брежнева неблагозвучно перекрещенного в «гомососа» – «hominem sovieticum» и «совка»)77. Филолог выделяет иное – своеобразие коммуникативного дискурса, обслуживавшего советскую идеологию, – новые слова, новые тексты, новые (в том числе и медиальные) формы социального общения.
Описание общества через факты языка подразумевает, что, будучи включенными в социальную жизнь, языковые явления результируют и вместе с тем стимулируют явления социальные. Соотносимость между сделанным и сказанным в обществе сложна, но даже если сделанное не всегда может быть объяснено как результат сказанного, оно всегда есть то, о чем можно нечто сказать. Но насколько такое «нечто» вариативно в плане своего выражения? В чем состоят изменения языкового и (подразумеваемо связанного с ним) социального опыта?
Масштабы языкового новаторства советской эпохи с наибольшей очевидностью выразились в разнообразии семантических, лексико-словообразовательных и стилистических «советизмов» – слов и словосочетаний, характерно окрашивающих собою тексты общественно-политического значения78. Но роль лексико-семантических новшеств, вызванных новизной и своеобразием политической действительности, представляется в историко-культурной ретроспективе более широкой, нежели сфера политического идеолекта. Исследования по истории русского языка советской эпохи наглядно демонстрируют, что эффект таких новшеств выразился на самых разных уровнях коммуникативного дискурса, трансформировав не только формальные, но и содержательные способы коллективного взаимопонимания79. Пользуясь терминологией Никласа Лумана, рассуждавшего о медиальных условиях, способствующих превращению изначально «невероятной коммуникации» в вероятную и социально эффективную80, можно сказать, что в истории русского языка эпоха советского прошлого стала временем, когда использование самого русского языка – в целях такой коммуникации – претерпело как структурные (словообразовательные), так и коммуникативно-семиотические (риторические и лингвокогнитивные) изменения. Русский язык XX века не может быть корректно описан без учета этих изменений, но еще важнее, что последние не сводятся исключительно к области описательной лексикографии81.
Язык первых лет советской власти пополнился множеством неологизмов и новшеств, неведомых литературному языку XIX века. Афанасий Селищев, подготовивший к 1927 году обширную сводку соответствующих примеров, сравнивал языковую практику своих современников с французским языком революционной эпохи 1789 – 1794 годов, но отмечал и существенную разницу: тогда как французские революционеры демонстративно отказывались от речевых нормативов языкового обихода предшествующей поры, советские речетворцы в общем и целом не порывали с языком русской интеллигенции дореволюционного времени. Приводя в своей книге слова и языковые новшества, отличающие язык советского времени от языка дореволюционной поры (широкое распространение аббревиатур, вульгаризмов, лексических и синтаксических заимствований из иностранных языков, канцеляризмов, морфологические новообразования и изменение прежних значений слов и т.д.), ученый полагал (или, возможно, надеялся), что языковая практика современников в целом демонстрирует преемственность по отношению к языковой традиции, сложившейся в течение XIX века82. Стараясь быть академически объективным, Селищев все же давал понять читателю своей книги (и это припомнится репрессированному в 1934 году ученому83), как он относится к нововведениям, меняющим облик русского литературного языка не только с морфологической, но также со стилистической и общесемантической точки зрения. К середине 1930-х годов в наиболее явном виде такие изменения выразились в появлении многочисленных речевых штампов, апеллировавших, с одной стороны, к «авторской» инстанции стоящей за ними власти, а с другой – к денотативно расплывчатым метафорам и семантически неопределенным призывам84. Лозунги и тезисы послереволюционного времени строятся в соответствии с приемами ораторско-диалогической речи, но в коммуникативном отношении предполагают не диалог, а монологическое согласие аудитории. Призывы наподобие «Даешь!», «Поменьше словоблудия – побольше дела!», «Пятилетку – в четыре года» и разноименные здравицы во славу революционных героев составляли (хотя хронологически и варьировали) монологическую риторику советской идеологии вплоть до развала СССР. «Фоновое знание» любого коллектива неизбежно определяется фразами и словами-сигналами, которые так или иначе присутствуют в его медиальном кругозоре; но коммуникативный парадокс такого присутствия в советской действительности состоял в исключительной по своей медиальной агрессивности и, как показало время, исторической живучести слов и словосочетаний, которые в ретроспективе можно считать прецедентными для советской идеологии85. Собственно, уже Селищев продемонстрировал своим исследованием, что семантика соответствующих текстов проще описывается в категориях коммуникативной и эмоционально-экспрессивной, а не номинативной функции речи. Особенно показательны в этом случае приводимые Селищевым примеры, когда непонимание говорящими значения новых терминов и словосочетаний не только не препятствует их контекстуальному использованию как сигналов определенного социального дейксиса (коммунист – «кто в бога не верует»; комсомолец – «это тоже как камунисты», социализм – «это по-новому жить», совет – «это где служат советские», советский служащий – «это у власти кто служит» и т.д.), но даже способствует такому использованию, служа признаком образованности, учености и посвященности в особую смысловую эзотерику86. Подмеченная уже Аристотелем эмоционально-риторическая привлекательность «чужой» речи (Poet. 1458a – 1458b; Rhet. 1405a8) проявляется в этих случаях вполне наглядно: малодоступные для широкого понимания слова и обороты призваны повысить ценностный статус маркируемого ими знания, а соответственно и статус его носителей. Лозунги, призывы, устойчивые словосочетания, метафоры и эпитеты («гидра контрреволюции», «загнивающий капитализм», «хищники империализма» и т.д.), опознаваемые как важные элементы советского социолекта, в этих случаях не столько нечто обозначают, сколько указывают сами на себя и на действия говорящих. Их коммуникативная функция, в соответствии с терминологией Джона Остина, не конститутивна, а перформативна, подразумевая не языковую, но социальную прагматику.
Элементарность лексико-синтаксических приемов, нацеленных на социально прагматическую реализацию контекстуально предсказуемых намерений, обнаруживает в функционировании советизмов много общего с другими примерами использования политизированной лексики в условиях тоталитарных идеологий87. «Тоталитарные» социолекты оказываются схожими прежде всего в плане объединяющей их перформативной целесообразности, стремления не назвать, а создать называемое, утвердить (квази)онтологическое существование языковой действительности. С известными оговорками такие социолекты могут быть соотнесены с языком магического фольклора – заговоров, заклинаний, словесных оберегов, целесообразность которых напрямую связана с самим актом их произнесения, а не с буквальным содержанием (иногда нарочито невнятным, как в случае заклинательных абракадабр)88.
Об эффективности «онтологизирующей» риторики советского идеологического дискурса можно судить уже по примерам исключительно широкого использования в нем числовых значений и счетных процедур. Советская пропаганда постоянно и последовательно оперирует цифрами, призванными придать идеологической утопии счетную атрибутику. Числовые показатели народно-хозяйственных планов, итогов и задач соцсоревнования, (мета)математическая лексика точных «формул» – умножения, увеличения, сравнения и т.д. – представляют собою неотъемлемую часть «текста» советской идеологии, придавая ей пафос медиально наглядной и эмоционально навязчивой статистики. Мера такой навязчивости кажется при этом тем выше, чем в большем загоне находилась в Советском Союзе сама статистическая наука, всецело подчиненная политэкономии и призванная лишь подтверждать директивные фантазии о росте производства и экономического благосостояния советских граждан. Начиная с середины 1920-х годов и вплоть до эпохи перестройки, советская статистика оставалась пропагандистской машиной, неизменно выдававшей желаемое за действительное – в экономике, демографии, социальной и культурной жизни. Медиальное засилье количественных показателей, должных доказывать поступательные успехи советской власти, оказывается в этих случаях характерно связанным с пропагандой качественных особенностей самой социалистической экономики, директивно освобожденной от роли случайности и приоритетов математического анализа89. На фоне критики зарубежной математической статистики, повинной в «фетишизации числа» и опоре на теорию вероятности, численные показатели советской статистики неизменно выражали «качественные» преимущества социалистического хозяйствования и, парадоксальным образом, придавали самому числу перформативную и «онтологизирующую» эффективность.
В терминах психиатрии «присутствие» в идеологическом обиходе советской поры многоразличных счетных формул могло бы быть названо при этом ананказмом, практикой «навязчивого счета», призванного психологически утвердить исчисляемое, придать ему иллюзию объект(ив)ного существования. Наиболее близким в данном случае к особенностям идеологического использования цифр в советской пропаганде являются фольклорные тексты и, в частности, практики ритуалов, рассчитанные на транзитивный и номинативный эффекты счисления, хотя понимание счета как способа онтологического «создания» объекта счисления вообще характерно для традиционных культур. В традиционном фольклоре всегда считается нечто – то, что существует. Того же, что не существует, по слову Екклезиаста, нельзя и считать (Еккл. 1, 15)90.
Пропагандировавшееся знание советского человека о собственной стране непредставимо вне пафоса исчислений, тиражируемых средствами массовой информации. В 1920-х – начале 1930-х годов популяризации политически грамотного «статистического оптимизма» способствует деятельность «сельских» и «рабочих корреспондентов» (селькоров и рабкоров), а также писателей – зачинателей советского производственного романа91. В 1929 году Петр Незнамов в рецензии на «Бруски» Панферова характерно упрекал автора в «нелюбви к цифрам» и полагал, что роман был бы правдоподобнее, если бы был наполнен статистическими данными92. Со временем «конкретика» цифр и пафос исчислений станут в советской литературе опознаваемой особенностью «производственной темы», остающейся в этом отношении содержательно последовательной на протяжении всей своей истории. Наглядным примером в данном случае может служить, в частности, роман Всеволода Кочетова «Журбины» (1952). Одна из сцен этого едва ли не образцового для эстетики соцреализма романа рисует разговор парторга и едущего вместе с ним в поезде поэтически настроенного попутчика. Попутчик рассуждает о том, как трудно теперь оторваться лирику от вагонного окна, ибо увиденное «потрясает»: «На твоих глазах меняется, знаете ли, все – от ландшафта до человека». Но молчащий доселе парторг не приветствует «визуальной» поэтичности: вместо ответа он читает попутчику вслух статью газеты о строительстве на Волге, содержащую сухой перечень цифр, и наставительно резюмирует прочитанное:
– Нашу эпоху никакими рифмами не передашь! <…> Это эпоха поэзии цифр, эпоха поэзии масштаба. Разрешу себе привести еще один пример. У меня в портфеле – вот она! – хранится газетная вырезка. Главное статистическое управление сообщает о том, как выполнен народнохозяйственный план прошлого года. Рассмотрим – как?
Белов называл цифры и принимался рассуждать о том, какими путями советская черная металлургия, советское автокраностроение, советская лесная промышленность достигли таких показателей, что скрывается за этими цифрами. Он говорил о конвейерах, о трелевочных тракторах, о рационализаторских предложениях рабочих, о соревновании бригад, о содружестве производственников с учеными, о могучей волне творчества, вдохновения, которая, радостно разрастаясь, захватывает страну от границы к границе93.
Еще более психотичен пафос исчислений, овладевающий героем-инженером тракторного завода в романе «Битва в пути» Галины Николаевой (1957):
В тишине он открыл самого себя, определив свои главные склонности. Он пристрастился к математике. По ночам цифры слетались к нему вереницами, садились стаями на бумагу, жили своей, особой жизнью94.
Наблюдения над языками ритуала применительно к сфере пропагандистского словоупотребления, как показывают те же примеры из романов Кочетова и Николаевой, являются небезразличными и в том отношении, в каком они демонстрируют дидактическую эффективность самоочевидных (эвиденциальных) высказываний. Даже тогда, когда ритуальные высказывания апеллируют к авторитету (и, значит, в принципе могут подвергаться сомнению со стороны аудитории), они, как правило, приобретают свойства имперсональных, обезличенных, анонимных текстов. Ритуально-прагматические особенности таких текстов в целом хорошо описаны у Джона Дю Буа: это специфическая комплиментарность ритуальной речи по отношению к речи обыденной, ее параллелизм (повторяемость и парафрастичность), наличие обезличенных посредников в передаче ритуального высказывания, языковые ограничения (формализация и «эзотеризация» высказываний)95. Аналогии из области ритуала и обрядового фольклора кажутся при этом тем оправданнее, что в структурно-функциональном отношении лозунги, приветствия и устойчивые словосочетания советского социолекта ситуативно соотносились с событиями, которые описываются как (квази)ритуалы, – митингами, партийными собраниями, демонстрациями, съездами и т.д.96
Ритуаловедческий подход к изучению политических институтов может считаться плодотворным, конечно, не только применительно к советской истории. О полезности использования антропологических (а в отечественной терминологии – этнографических и фольклористических) методов в политологии активно заговорили с начала 1960-х годов, когда стало ясно, что накопленный опыт изучения традиционных обществ оказывается эвристически уместным, если мы стремимся понять основания символических ценностей, побуждающих людей к тем или иным социальным действиям. Пионерской работой в этом направлении стала книга Меррея Эдельмана «Символические способы политики» (1964)97, положившая начало функциональному сопоставлению мифоритуальной и политической символики. В русле такого сопоставления изучение языковых и собственно речевых аспектов социального взаимодействия особенно плодотворно там, где содержательные аналогии между мифами, ритуалами и политикой выступают наиболее ярко. Идеологии, о которой можно было бы сказать, что у нее нет «ритуально-мифологической» или «фольклорной» составляющей, по-видимому, не существует98; однако в разных обществах такие составляющие (если понимать под ними прежде всего так называемые «прецедентные», общеизвестные тексты, знание которых является одним из критериев идеологического контроля и социального самоопознания99) выражаются по-разному и обладают различной коммуникативной настоятельностью.
Пропагандистские лозунги, окружавшие советского человека всюду и везде, являются в данном случае ярким примером прецедентно ритуализованного и уже в этом смысле – фольклоризующего дискурса коммунистической идеологии, а коммуникативный смысл привычных для советского человека лозунгов может быть описан по аналогии со смыслом дейктических слов, указывающих на «физические координаты» коммуникативного акта: его участников, его место и время100. С одной стороны, такие слова (в наиболее явном виде – местоимения и личные глагольные формы) обозначают сами себя, а с другой – распределение статусных ролей участников коммуникации: 1) тех, кто говорит, 2) тех, о ком говорят, и 3) тех, к кому обращаются101. Само это распределение важно именно в коммуникативном, а значит – и в прагматическом отношении: текст, адресованный к «слушающей» или «читающей» аудитории, реализует себя не в том, что он сообщает, а в том, кто сообщает и кому текст в данном случае адресован. Поведенческим примером того же (квази)ритуального дейксиса могут служить аплодисменты, коммуникативно «синкопировавшие» выступления партийных ораторов (характерно, что указания на «аплодисменты», «бурные аплодисменты», «общую овацию» и т.д. – были обязательны и при публикации таких выступлений).
Ритуальные аналогии (как и любые аналогии) не являются, конечно, единственным объяснением присутствия в советском речевом обиходе лексико-синтаксических оборотов, которые сегодня резонно расцениваются как безграмотные, внутренне-противоречивые или попросту бессмысленные; однако до известной степени они проясняют прагматическое целесообразие советского социолекта как языка, дополняющего собою языки «внеритуальной» повседневности. Восприятие любого текста, как показывают психолингвистические эксперименты, зависит от социальных и психологических установок реципиента – ситуативных предиспозиций (например, отношения к автору текста), создающих своего рода модель «опережающего» истолкования смысла информации102. Риторический эффект такой зависимости отмечал уже Квинтилиан, полагавший (вслед за Цицероном в «Бруте») необходимым условием ораторского искусства человеческое и гражданское достоинство. По убеждению Цицерона, знаменитые ораторы были прежде всего людьми чести и долга, знатоками не только красноречия, но также философии и словесности. Квинтилиан делал из этого следующий шаг: выдающийся оратор должен быть «доблестным мужем», или, попросту, «хорошим человеком» (vir bonus), выделяющимся не только своими способностями к красноречию, но и добродетелями души, востребованным в общественных и частных нуждах103. Ни Цицерон, ни Квинтилиан не предполагали, конечно, что акцент на гражданских качествах оратора снимает с того обязанность в овладении навыками виртуозной речи, – но в глазах аудитории требования, предъявляемые к оратору, в существенной мере были (и остаются по сей день) безразличными к формальным и силлогистическим особенностям ораторского говорения. Часто важнее оказывается не речь, но тот, кто ее произносит; не качества текста, но репутация его автора.
Важно учитывать и то, что само содержание текста предопределяется и меняется в зависимости от конкретных «перцептивных задач», которые с ним связываются. Психолингвисты говорят в этих случаях о стратегиях восприятия и образах содержания текста, предвосхищающих и опосредующих смысловую обработку речевой информации, о функциональной роли текста в качестве ориентировочной основы в социальной (в том числе и некоммуникативной) деятельности104. При таком подходе особенности советского социолекта должны описываться с учетом символического характера тех текстов и тех слов (также обнаруживающих при своем восприятии «образы содержания», несводимые к лингвистической структуре значения105), в которых он себя выражает.
Исследователи советского общества и культуры вслед за Джорджем Оруэллом часто писали о специфическом «двоемыслии», свойственном общественному сознанию (и прежде всего сознанию интеллигенции) в условиях тоталитарного режима. Представляется, однако, что правильнее говорить не о «двоемыслии», а о специфическом «двуязычии» или даже «многоязычии», характеризующем речевую культуру советского общества. Примеры коммуникативного двуязычия, как уже говорилось выше, хорошо известны из ритуальной, и в частности из церковной традиции, демонстрирующей нарочитое противопоставление языка магических и сакральных текстов, с одной стороны, и языка повседневности – с другой106. Нечто схожее наблюдается и в советской, внешне секуляризованной культуре. Абсурдная силлогистика Сталина и нечленораздельное словопроизводство Брежнева, при всех своих собственно суггестивных эффектах107, функционируют в системе речевого поведения, соотносимого с социальной прагматикой, схожей с прагматикой ритуала.
Описание русского языка советской эпохи в терминах коммуникативного многоязычия представляется лингвистически продуктивным прежде всего при изучении лексики, условно названной Виктором Заславским и Марией Фабрис «лексикой неравенства», использовавшейся для «описания конкретных практик и механизмов социального, политического и экономического неравенства и стратификации в советском обществе»108. Как показывают эти авторы, специфика советского социолекта в значительной степени обусловливалась институтами цензуры, санкционировавшей круг идеологически рекомендованных тем и идеологически рекомендованного словоупотребления. Ряд тем, не подлежащих к публичному обсуждению, годами «вычеркивался» из печатного и официального словоупотребления, закрепляя в социальном общении своеобразные зоны умолчания и такие риторические приемы, которые позволяют говорить о «возникновении в советском русском языке чего-то вроде политической диглоссии»109. Лексикографические особенности советского социолекта, однако, являются результатом не только цензурных, но и более глубоких, и прежде всего социально-психологических, механизмов властного контроля над словом в авторитарных и тоталитарных обществах. Цензура (и автоцензура) как институт такого контроля является не причиной, но следствием тех (далеко не всегда рациональных) предпосылок, которые способствовали общественному убеждению в оправданности самого этого контроля.
77
Популяризация словосочетания homo sovieticus связывается с одноименным сатирическим романом Александра Зиновьева, в котором оно широко используется и определяется наряду с его транслитерированным сокращением «гомосос» (Zinovjev A. Homo sovieticus. London, 1979, русский перевод: 1982). Стимулы к созданию прилагательного sovieticus, – а, – um существовали, впрочем, и раньше, в частности – в практике естественно-научных изданий: см., напр.: Flora Reipublicae Sovieticae Socialisticae Ucrainicae. Vol. 1 – 12. Kijiv, 1936 – 1965; Horae Societatis Entomologicae Unionis Sovieticae. Vol. 43 – 70. М., 1951 – 1988 (предыдущие тома, c 1861 года, выходили под названием Horae Societatis Entomologicae Rossicae). Введение латинского языка в школьную программу в конце 1940-х годов также, вероятно, не исключало политически актуального словотворчества, созвучного методическим указаниям о «насущной необходимости» «разработки идейно выдержанных хрестоматийных текстов для изучающих латинской язык» (Ленцман Я.А. С. Кондратьев и А. Васнецов. Учебник латинского языка для 8 – 10 классов средней школы. Учпедгиз, 1948 // ВДИ. 1949. № 4. С. 187). По утверждению Михаила Геллера, студенты советских медицинских вузов начинали изучение латыни с фразы «Homo sovieticus sum» (Heller M. Cogs in the Soviet Wheel. The Formation of Soviet Man. London: Collins Harvill, 1988. P. 43). В западной советологии латинизированный перевод словосочетания «советский человек» также появляется задолго до книги Зиновьева: таково, в частности, название книги Иозефа Новака (Novak J. Homo Sowjeticus (sic! – К.Б.) Der Mensch unter Hammer und Sichel. Bern; Stuttgart; Wien: Alfred Scherz, 1962), продолжившей традицию социально-психологической спецификации этого понятия, которое уже стало к тому времени темой авторитетного исследования Клауса Менерта (Klaus Mehnert: Der Sowjetmensch. Versuch eines Porträts nach zwölf Reisen in die Sowjetunion 1929 – 1957. Stuttgart Deutsche Verlags-Anstalt, 1958. Впоследствии многократно переиздавалась, в том числе и на других европейских языках). Авторство неологизма «совок» оспаривается. По утверждению Aлександра Градского, слово придумано им в середине 1970-х: «Доказать авторство слова “совок“ я не могу – авторского свидетельства нет, но знаю, что это придумал я. И, кстати, не в таком контексте, в каком сейчас это у всех навязло в зубах. Придумано было, как уменьшительно-ласкательное. Как объяснение безысходности и бессмысленности борьбы, попытка, так сказать, пригласить к разведению рук. Мол, что поделаешь, ребята, все мы такие. <…> История происхождения весьма забавная. После концерта мы в расстроенных чувствах сели выпивать в песочнице. Домой нас не пускали ни моя бабушка, ни мама Юры Шахназарова. Сели. Выпить было не из чего. Из горла – некрасиво. А кто-то забыл формочки. Вот мы их и употребили. Один накатывал из виноградинки, другой вздрагивал из домика, третий… По-моему, там была груша. Ну а мне достался деревянный совок. Вот такой формы! Удобное узкое горлышко, из него красиво вливалось. На нем было начертано: “Совок. Ц. 23 коп.“ Я сказал: “Вот… Мы как совки употребляем“. Потом была песенка с таким словом» (Александр Градский. Музыка сродни хорошей науке // Музыкальная газета. 1998. № 43 – http://www.nestor.minsk.by/mg/1998/43/mg84304.html). А. Генис и П. Вайль настаивают, что слово «совок» изобретено ими по аналогии со словом «пылесос» для обозначения приезжих из СССР, готовых брать с собой любой хлам. Михаил Эпштейн авторизует слово «совок» себе: словом «совки» (наряду со словами «совейцы» и «совщицы») Эпштейн называет жителей придуманной им (по созвучию с «Русью») страны «Совь» (Эпштейн М.Н. Великая Совь. М., 2006. Текст написан в 1988 году). Кто бы ни был «автором» этого слова (в пользу авторства Градского, замечу в скобках, говорит приурочение «совка» к середине 1970-х годов – лично я узнал это слово, учась в это время в школе), с лингвистической точки зрения занятно, что «авторские» мотивировки появления «совка» иллюстрируют модели семантической деривации русского сленга: у Градского «совок» – результат метонимического переноса, у Гениса и Вайля – метафорического, у Эпштейна – результат суффиксального словообразования от усечения слова «советский» (Розина Р.И. Отношения производности в синхронии и диахронии (на материале русского сленга) // Материалы международной конференции «Диалог 2006» (Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии) – http://www.dialog-21.ru/dialog2006/materials/html/Rozina.htm
78
См., напр., авторское предисловие к юному читателю в: Шанский Н.М. Слова, рожденные Октябрем. Книга для внеклассного чтения (VII – X классы). М., 1980. С. 3 («В ваших руках книжка о словах русского языка советской эпохи, о словах, где немолчно бьется горячий пульс героической жизни нашей Советской Родины, о тех самых словах, которые являются настоящими героями нашего удивительного и славного времени»).
79
Мокиенко В., Никитина Т. Толковый словарь языка Совдепии. СПб.: Фолио-Пресс, 1998. В критической рецензии на этот словарь Эрик Хан-Пира замечает, что собранные авторами советизмы не могут, строго говоря, называться языком, так как они не могут служить примерами особой фонетики, грамматики и особых моделей словообразования (Знамя. 1999. № 7 – http://magayines.russ.ru/ znamia/1999/hanpira-pr.htnl), но не учитывает, что советизмы существовали не только как отдельные слова, но и как маркеры текстов, трансформировавших представление о грамматических и синтаксических правилах русского языка XIX века (см. также: Lenfeldt W. «Язык советской эпохи» или «новояз»? // Russian Linguistics. 2001. Vol. 25. № 2. P. 243 – 253. Ср.: Протченко И.Ф. Лексика и словообразование русского языка советской эпохи. Социолингвистический аспект. М., 1985 (1-е изд. – М., 1975); Heller M. Langue russe et langue sovie´tique // Recherches. 1979. № 39. P. 17 – 21). О роли такого маркирования на уровне риторического оформления текстов и их смысловой суггестии: Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи: голоса из хора. М., 1996; Романенко А.П. Советская словесная культура: образ ритора. М., 2003.
80
Luhmann N. Die Unwahrscheinlichkeit der Kommunikation // Soziologische Aufklärung 3: Soziales System, Gesellschaft, Organisation. Opladen, 1981. S. 25 – 34.
81
Weiss D. Was ist neu am «newspeak»? Reflexionen zur Sprache der Politik in der Sowjetunion // Slavistische Linguistik 1985. Referate des XI. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens / Hrsg. R. Rathmayer. München, 1986. S. 247 – 325; Essais sur le discours soviétique. Sémiologie, linguistique, analyse discursive. T. 1 – 4. Grenoble, 1981; Лассан Э. Дискурс власти и инакомыслия в СССР: когнитивно-риторический анализ. Вильнюс, 1995; Земская Е.А. Новояз, newspeak, nowomova… Что дальше? // Русский язык конца XX столетия (1985 – 1995). М., 1996; Ермакова О.П. Тоталитарное и посттоталитарное общество в семантике слов // Русский язык. Najnowsze dzieje języków słowiańskich / Red. E. Širjaev. Opole, 1997; Сарнов Б. Наш советский новояз. М., 2002.
82
Селищев А. Язык революционной эпохи. Из наблюдений над русским языком последних лет (1917 – 1926). М.: Работник просвещения, 1928. С. 22, passim.
83
А.М. Селищев был осужден по т.н. «делу славистов» («Российской национальной партии») к пяти годам лагерей (досрочно освобожден в 1937 году). В 1935 году в «Правде» была опубликована статья К. Алавердова, в которой монография ученого была объявлена «гнусной клеветой на партию, на наших вождей, на комсомол, на революцию», а ее автор – «классовым врагом», «черносотенцем» и «махровым антисемитом». Селищев скончался от рака в 1942 году, а его книга на долгие годы была изъята из научного обихода.
84
Селищев А. Язык революционной эпохи. С. 24 – 25. См. также: Фесенко А., Фесенко Т. Русский язык при Советах. Нью-Йорк, 1955; Земцов И. Советский политический язык. London, 1985.
85
Левин Ю. Заметки о семиотике лозунгов // Wiener Slawistischer Almanach. 1988. Bd. 22. S. 69 – 85; Weiss D. Prolegomena zur Geschichte der verbalen Propaganda in der Sowjetunion // Slavistische Linguistik 1994. Referate des XX. Konstanzer Slavistischen Arbeitstreffens / Hrsg. D.Weiss. München, 1995. S. 343 – 393; Юровский В. Структура и стиль советского политического некролога после 1945 года // Der Tod in der Propaganda (Sowjetunion und Volksrepublik Polen) / Hrsg. D. Weiss. Bern; Frankfurt, 2000.
86
Селищев А. Язык революционной эпохи. С. 53 – 56, 215, 216. См. также: Шафир Я. Газета в деревне. М., 1924.
87
Классической работой, положившей начало социолингвистическому сравнению тоталитарных дискурсов, стала книга Виктора Клемперера «LTI. Язык Третьего рейха» (1947, рус. перевод А. Григорьева: М.: Прогресс-Традиция, 1998). В широком сопоставительном плане проблемы «тоталитарного языка» рассматриваются в монографии: Young J.W. Totalitarian Language: Orwell’s Newspeak and Ist Nazi and Communist Antecedents. Charlottesville, 1991. См. также: Ржевский Л. Язык и тоталитаризм. Мюнхен, 1951; Hodgkinson H. The Language of Communism. New York, 1955; Эйдлин Ф. Крушение новояза. Тоталитаризм как исторический феномен. М., 1989; Hodge R., Kress G. Language as Ideology. London; New York, 1993; Купина Н.А. Тоталитарный язык. Екатеринбург; Пермь, 1995.
88
Богданов К.А. Абракадабра как заговорная модель: пределы структурирования // Русский фольклор. СПб., 1995. С. 3 – 25.
89
Содержательный обзор положения дел в советской статистике см. в статье: Шейнин О.Б. Статистика и идеологии в СССР // Историко-математические исследования. 2001. Вып. 6(41). С. 179 – 181. О целенаправленности широкомасштабных репрессий в среде советских статистиков в 1930-е годы: Schlögel K. Terror und Traum. Moskau 1937. München: Hauser, 2008. S. 169 – 176.
90
Богданов К.А. Счет как текст в фольклоре // Русский фольклор. Т. XXXII. СПб., 2004 (http://www.ruthenia.ru/folklore/bogdanov3.htm).
91
О начале советского «производственного романа» см. обстоятельную монографию Андреса Гуски: Guski A. Literatur und Arbeit. Produktionsskizze und Produktionsroman im Ruâland des 1.Fünfjahrplans (1928 – 1932). Wiesbaden: Harrassowitz, 1995.
92
Незнамов П. Деревня красивого оперения (Бруски – роман Ф.П. Панферова) // Литература факта. М., 1929. С. 105 – 113.
93
Кочетов В. Собрание сочинений: В 6 т. М., 1973. Т. 1. С. 420 – 421.
94
Николаева Г. Собрание сочинений: В 3 т. М., 1987 Т. 2.. С. 60.
95
Du Bois J.W. Self-Evidence and Ritual Speech // Evidentiality: The Linguistic Coding of Epistemology / Ed. W. Chafe, J. Nichols. Norwood, 1986. P. 313 – 316 (есть русский перевод, увы, без библиографии: Дю Буа Д.В. Самоочевидность и ритуальная речь // Кунсткамера. Этнографические тетради. СПб., 1998. Вып. 12. С. 198 – 222). См. также: Urban G. The «I» of Discourse // Semiotics, Self and Society / Ed. B. Lee, G. Urban. Berlin: Mouton de Gruyter, 1989. P. 27 – 51; Boyer P. Tradition as Truth and Communication: A Cognitive Description of Traditional Discourse. Cambridge: Cambridge UP, 1990.
96
Binns C.A.P. Sowjetische Feste und Rituale (I) // Osteuropa 1979. Bd. 29. Heft 1. S. 12, ff; Lane C: The Rites of Rulers: Ritual in Industrial Society: The Soviet Case. New York: Cambridge UP., 1981; Urban M.E. The Ideology of Administration: American and Soviet Cases. Albany, 1982; Riegel K. – G. Konfessionsrituale im Marxismus-Leninismus. Graz, 1985; Глебкин В.В. Ритуал в советской культуре. М., 1998. «Атеистическая по форме и устремлениям советская идеология может быть истолкована как религиозно-мифологическая. Она имеет собственную “священную историю“, свои “кануны“ в виде “революционных событий 1905 года (действа, дублирующие “главное“ свершение и предваряющие его), своих предтеч (революционные демократы XIX века), своих демиургов и пророков, подвижников и мучеников, свои ритуалы, и обрядовый календарь» (Неклюдов С.Ю. Структура и функция мифа // Мифы и мифология современной России / Под ред. К. Аймермахера, Ф. Бомсдорфа, Г. Бордюгова. М., 2000. С. 30).
97
Edelman M. The Symbolic Uses of Politics. Urbana: University of Illinois Press, 1964 (замечу в скобках, что английское название книги Эдельмана не поддается буквальному переводу на русский язык: англ. «Uses» подразумевает как способы, так и цели, ради которых эти способы используются. Эту сложность учел и немецкий переводчик Эдельмана (Edelman M. Politik als Ritual. Die symbolische Funktion staatlicher Institutionen und politischen Handelns. Frankfurt am Main; New York: Campus, 1990).
98
См., напр., давнюю работу с характерным названием: Arnold T. The Folklore of Capitalism. New Haven, 1937. Ср.: Kertzer D. Ritual, Politics, and Power. New York, 1988.
99
Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987. С. 216, след.; Козлова Н.Н. Горизонты повседневности советской эпохи. С. 161. Применительно к фольклору и фольклористике: Богданов К.А. Повседневность и мифология. Исследования по семиотике фольклорной действительности. СПб., 2001. С. 47 – 69.
100
Кибрик А. Дейксис // Энциклопедия «Кругосвет» (http://www.krugosvet.ru/articles/76/1007612/1007612a1.htm). См. также: Падучева Е.В., Крылов С.А. Дейксис: общетеоретические и прагматические аспекты // Языковая деятельность в аспекте лингвистической прагматики. М., 1984.
101
О коммуникативной семантике дейксиса см.: Успенский Б.А. Ego loquens: Язык и коммуникационное пространство. М., 2007.
102
Wertsch J. The Influence of Listener Perception of the Speaker on Recognition Memory // Journal of Psycholinguistic Research. 1975. Vol. 4. P. 89 – 98.
103
«Oratorem autem instituimus illum perfectum, qui esse nisi vir bonus non potest, ideoque non dicendi modo eximiam in eo facultatem sed omnis animi virtutes exigimus <…> vir ille vere civilis et publicarum privatarumque rerum administrationi accommodatus» (Quintilian. Institutio Oratoria. Prohoemium. IX – X).
104
Лаурнати М., Вихолеми П. Роль социальных установок восприятий газетного текста // Смысловое восприятие речевого сообщения. М., 1976; Леонтьев А.А. Восприятие текста как психологический процесс // Психолингвистическая и лингвистическая природа текста и особенности его восприятия / Под ред. Ю.А. Жлуктенко и А.А. Леонтьева. Киев, 1979. С. 20 – 24.
105
Журавлев А.П. Символическое значение языкового знака // Речевое воздействие. М., 1972; Леонтьев А.А. Восприятие текста как психологический процесс. С. 27 – 28.
106
Адмони В.Г. Система форм речевого высказывания. СПб., 1994. С. 94 – 102. Обзор и литература вопроса: Keane W. Religious Language // Annual Review of Anthropology. 1997. Vol. 26. P. 47 – 71.
107
О языке Сталина: Розина Р.И. Корифей убеждения, или риторика Сталина // Наука убеждать: риторика. М., 1991. № 8. С. 39 – 47; Вайскопф М. Писатель Сталин. М., 2001. Замечательная во многих отношениях книга Вайскопфа заслуживает, как я полагаю, критики в том отношении, что остроумно и последовательно развитое ее автором представление о языке Сталина как силлогистическом курьезе плохо объясняет убедительность этого языка в глазах широких слушателей (см. рецензию Е. Добренко в: Revue des études slaves. 2001. Vol. 73. № 4. P. 769 – 777). Ценные наблюдения над риторикой сталинского «Краткого курса истории ВКП(б)» в: Власов П.Н. Лингво-когнитивные параметры тоталитарного дискурса (на материале советских политических текстов). Курсовая работа. Самара, 2002 (машинопись, электр. версия: scriptum.gramota.ru/linguo.doc). О языке Брежнева: Sériot P. Analyse du discours politique soviétique. Paris, 1985; также: Кертман Г. Эпоха Брежнева – в дымке настоящего // Социальная реальность. 2007. № 2. С. 9.
108
Zaslavsky V., Fabris M. Лексика неравенства. К проблеме развития русского языка в советский период // Revue des études slaves. 1982. Vol. 54. № 3. P. 391.
109
Zaslavsky V., Fabris M. Лексика неравенства. P. 395. См. также: Venclova T. Two Russian Sub-Languages and Russian Ethnic Identity // Ethnic Russia in the USSR. The Dilemma of Dominance. Ed. E.Allworth. New York, 1980. P. 249 – 256; Кронгауз М.А. Новейшая история русского языка: Эпоха социализма // Jezyki Slowanske wobec Wspolczesnych przemian w Kraiach Europy srod-kowej i Wschodnej. Opole, 1993. S. 157 – 166.