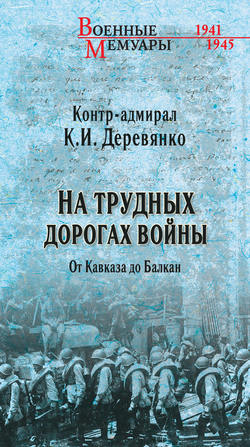Читать книгу На трудных дорогах войны. От Кавказа До Балкан - Константин Деревянко - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
В борьбе за Крым
ОглавлениеВ ночь на 26 декабря сорок третьего я получил экстренную радиограмму от командующего Азовской флотилией контр-адмирала С. Г. Горшкова с приказанием: сдать дела командира Бердянской военно-морской базы начальнику штаба базы капитану 2-го ранга В. А. Иоссе и немедленно прибыть в Темрюк, высылается самолёт. Затем последовали ещё три радиограммы, торопившие меня с прибытием. Но самолёт из-за непогоды застрял на полпути. Сперва я недоумевал: почему такая спешка? А потом подумал: вероятно, произошло или готовится что-то важное и меня привлекают к этому делу. Погода не предвещала быть лётной, и я решил ускорить события по-своему. Вызвал порученца Е. И. Степанова и приказал:
– Степаныч! – Так я ласково обращался к нему за его отличную службу, усердие и дисциплинированность. – Даю вам и шофёру час на сборы, и выезжаем через Ростов в Темрюк.
Теперь мы со Степанычем будем неразлучны и дойдём до Болгарии.
Когда проезжали Ростов, защемило сердце: как гитлеровские вандалы изуродовали город-красавец.
В Ейске меня ожидало приказание С. Г. Горшкова: дальше только самолётом, который стоял в готовности.
Через полчаса я был в воздухе на УТ-2 (двухместный учебно-тренировочный самолёт). За час полёта на открытом самолёте, на морозе, меня сильно продуло, я буквально закоченел, и это не прошло даром.
Темрюк. Штаб, ФКП, политотдел флотилии – здесь. А у Керченского пролива – где проходят основные боевые действия флотилии – находится ЗКП, и на нём небольшая опергруппа офицеров во главе с начштаба флотилии капитаном 1-го ранга А. Свердловым или его заместителем капитаном 2-го ранга А. Ураганом; и там же рядом – начальник перевозок, возглавляющий войсковые перевозки через пролив на Керчь-Еникальский плацдарм, занятый нашими войсками после высадки десанта в ноябре.
Еду в штаб, вхожу к командующему флотилией и вижу – на походной койке лежит забинтованный Сергей Георгиевич. Он, оказывается, попал в автомобильную катастрофу в поездке по делам перевозок и чудом остался жив – взяла молодость. И в таком состоянии он продолжал управлять сложными делами перевозок и готовиться к новому десанту, с чем самому штабу без него не управиться, хотя у врачей по отношению к командующему уже были свои соображения и планы.
Несмотря на ранения, Горшков был оживлён и, как человек, не терпящий празднословия, сразу перешёл к делу, по которому вызвал меня:
– Произошли крупные неприятности с перевозкой через пролив войск, боеприпасов, вооружения, грузов на Керченский плацдарм для Приморской армии, в связи с этим произошла размолвка между командармом и комфлотом. Позавчера состоялось бурное совместное заседание Военных советов армии и флота, под руководством представителя Ставки Маршала Советского Союза Ворошилова, на котором командарм Петров в резкой форме предъявил серьёзные претензии к флоту в медленной доставке армии пополнения и снабжения. А комфлот Владимирский выдвинул обоснованные встречные претензии в неорганизованности погрузки, выгрузки и вывозки. Конечно, надо быть самокритичными и признать промашку с обеих сторон. Поэтому и были приняты на заседании взаимообязывающие решения. По моему предложению Военсовет флота утвердил новую организацию в Керченском проливе – создать боевое соединение на правах военно-морской базы с наименованием «Керченская переправа» и её командиром назначить тебя. И приступить к делу немедленно, уже сегодня, а надо было ещё вчера, почему и торопил тебя. Петров хотя поначалу и противился, но потом согласился с новой организацией и одобрил твоё назначение, ведь он тебя хорошо знает по Одессе. У тебя будет сильный аппарат управления. И флот пришлёт дополнительные силы: суда и корабли, которых очень не хватает, собственно, из-за этого и пошли перебои в перевозках. Я на заседании Военсоветов не мог присутствовать, и тебя подробно ознакомит с их решениями лично комфлот, он приказал тебе по прибытии явиться к нему, он работает в соседней комнате, с ним член Военсовета флота Кулаков, там же и начальник Главполитуправления ВМФ Рогов, они уже неделю работают на флотилии, их вызвал маршал К. Е. Ворошилов, прибывший в качестве представителя Ставки на наше направление, с ним прибыл и начальник оперативного управления Генштаба генерал С. М. Штеменко. Дела тебе принимать не от кого, так как начальник перевозок Тетюркин заболел и убыл в госпиталь, так что от комфлота сразу на переправу – и к работе. Положение надо выправить быстро. А меня, к сожалению, доктора грозятся госпитализировать.
И мы расстались почти на полтора месяца.
Я прошёл сперва к начштаба флотилии Свердлову, чтобы от него заполучить сведения о положении дел в его толковании.
Он был чрезвычайно удручён и вёл нервный, нескладный разговор. Ещё бы. Он был вызван на заседание Военсоветов самим Петровым, где, высказывая недовольство Владимирскому, Иван Ефимович метал громы и молнии и в адрес флотилии, Горшкова и Свердлова: командование и штаб флотилии самоустранились от масштабных оперативных решений в целях создания чёткой организации войсковых перевозок и взвалили непосильную задачу огромного оперативного значения на неподготовленного для этого человека, не имевшего аппарата управления большим делом. Из сбивчивого сообщения начштаба я видел, что он не мог не мучиться промашками флотилии в этом вопросе. Начштаба ознакомил меня с составом сил и средств, занятых на перевозках, их состоянием и возможностями, со сложившимся на сегодня положением в перевозках, дал характеристику району действий переправы. Я получил достаточное представление о перевозках. С тем и направился к комфлоту.
У Владимирского находились Рогов и Кулаков. Они совещались, как лучше выполнить совместные решения Военных советов и указания представителя Ставки по перевозкам. Мне приказано присутствовать при этом. Так как эти решения отныне больше всего будут касаться именно меня лично и основная нагрузка по конечному результату ложится на меня, комфлот вручил мне для изучения документ с принятыми решениями. Назывался он весьма пышно: Протокол (от 25 декабря 1943 года) совместного совещания Военных советов армии и флота по вопросу перевозок войск и грузов через Керченский пролив… Ещё пышнее была его концовка. Внизу протокол замыкали десять подписей: маршал, шесть генералов, два адмирала, один капитан 1-го ранга[1]. Многовато.
Но в оправдание скажу: обстановка с пополнением и питанием армии настолько обострилась, что потребовались и встреча большого числа ответственных лиц, и острые дебаты, и взаимные письменные обязательства. А начинался протокол с того, что ответственность за перевозки войск и грузов через пролив возлагалась на командующего флотом, непосредственное руководство перевозками осуществляет командующий флотилией Горшков, а до его выздоровления руководство перевозками берёт на себя комфлот Владимирский.
Прочитал и подумал: а для чего же меня вызвали? Тут, конечно, сгоряча на комфлота взвалили такую ношу. Керченский пролив, безусловно, на сегодняшний день представлял главное направление действий флота, но никто с флота не снимал других задач, решаемых на огромном Черноморском театре военных действий: от Керчи до Батуми и до западных берегов моря. За комфлотом целый флот: надводные, подводные и воздушные силы, береговая артиллерия. И всё-таки Керченскому проливу надо было как важному направлению уделить больше внимания, тогда бы не возникли и недоразумения и вот такие записи в адрес комфлота. Но своё слово сказал Горшков. Он рассудил по-своему: задача поставлена флоту и флотилии, а выполнение её будет возложено на новое соединение – Керченскую переправу и её командира, он будет непосредственно руководить перевозками. Эта существенная поправка к протоколу, внесённая на другой день Горшковым, была всеми одобрена – и Петровым, и Владимирским. С ней согласились.
А для успешной деятельности новой организации в протоколе было записано много хорошего, дельного: подать в пролив дополнительно большое число судов, организовать судоремонт, гидрографическое, инженерное, тыловое, медицинское и боевое обеспечение Керченской переправы, построить новые причалы, организовать образцовую погрузку, разгрузку и вывоз. И в связи с этим на армию, как и на флот, было возложено много задач. Всё это мне понравилось, так как облегчало мне руководство новым делом, за которое отныне отвечал сам комфлот наравне с командармом перед Ставкой, так настоял записать её представитель, а протокол послать в Ставку и Генштаб. Я лично приветствовал этот документ с серьёзными взаимными обязательствами командования армии и флота.
Комфлот заверил меня, что все суда, указанные в протоколе, прибудут на переправу в назначенный срок, потом они втроём наставляли меня, как лучше и быстрее выполнять решения Военных советов, навести твёрдый порядок на переправе, с чем обстояло неважно. Мне было объявлено, что будет создано мощное управление Керченской переправы со штабом, политотделом, тылом и всеми службами по штатам военно-морской базы. Всё будет сделано, чтобы покончить с допущенными просчётами и недостатками в перевозках. И дело теперь за командованием переправы, её личным составом и мной лично. Я заверил Военсовет флота, что приму все меры к скорейшему выправлению положения в перевозках и начну это делать даже сейчас, с имеющимися силами и средствами. При этом я не удержался и спросил комфлота: «Если сейчас создаётся специальное управление переправы, то почему нельзя было использовать управление Керченской военно-морской базы, разместившееся в Тамани, вдали от событий и ничем не занятое?» Комфлот ответил: «Было такое предложение командования флотилией, но командарм Петров не согласился, считал, что её командир не справится, – этим должна заниматься флотилия и её командующий непосредственно. А сейчас предложение Горшкова о создании переправы и вашем назначении уже не вызвало возражений. Ждём от вас положительных результатов». На этом мы распрощались.
От меня не ускользнуло, что Владимирский и Кулаков в чрезвычайно подавленном состоянии – тут и гибель трёх кораблей, по которым ожидается решение Ставки, и вот эта крупная неприятность с перевозками, вызвавшими конфликт с командованием Приморской армии в присутствии представителя Ставки.
Через несколько минут я уже ехал к Керченскому проливу.
Но я решил прежде всего повидаться с армейскими товарищами, посетить начальника тыла армии, потому что считал: не только моряки флотилии повинны в медлительности перевозок, по протоколу была видна и вина армий. И вообще было полезно прислушаться к обеим сторонам. Перевозки оказались большим испытанием и флоту, и армии. Здесь налицо как раз тот случай, когда десант с главными силами войск прошёл удачно, а его питание по морским коммуникациям терпело неудачу. История знает немало таких случаев. Так получилось и с Азовской флотилией: блестяще проведя операцию по высадке морского десанта в составе морской пехоты и войск Приморской армии на крымский берег, флотилия и ее командующий Горшков в дальнейшем не справились с коммуникациями – наращиванием сил, пополнением боеприпасами и всеми видами снабжения армии на Керченском плацдарме.
Я заехал в станицы Ахтанизовскую и Батарейку, в которых размещалось управление тыла армии. И попал ко времени и к месту. У начальника тыла армии генерала Н. А. Найдёнова находились ещё четыре генерала: член Военсовета армии по тылу П. М. Соломко, заместитель командующего армией К. С. Мельник – ответственный за перевозки через пролив, и заместители начтыла А. М. Пламеневский и А. А. Хилинский. Они собрались для составления плана мероприятий по «Протоколу десяти» (как стали величать протокол совместного заседания двух Военсоветов). То, что руководители и флота, и армии засели за спешную разработку мероприятий, говорило об остроте вопроса – без пополнения армия становилась небоеспособной, и надо торопиться, кроме того, всё это взял под контроль представитель Ставки, и он доложил в Ставку о принимаемых мерах по налаживанию перевозок в целях повышения боеспособности армии и готовности её к наступлению. Всё это правильно. Только на мой взгляд – слишком уж много начальников сидело над одним, хоть и важным, делом. А по-моему разумению: тут хватило бы и одного с сильным характером и организаторским талантом, ведь громоздкость всегда вредит делу, она снижает персональную ответственность.
Меня привлекли к разработке тех мероприятий, которые соприкасались с флотской спецификой. Эти вопросы мне были понятны, так как я прошёл большую школу начальника штаба двух военно-морских баз – Одесской и Потийской, – возглавляя морские коммуникации, постоянно взаимодействуя с армейскими товарищами. Меня познакомили с армейской организацией на переправе и с теми решениями Военсовета армии, какие принимались по перевозкам ранее. Оказывается, командарм Петров уже в ноябре проявлял неудовольствие ходом перевозок. 3 декабря на заседании Военсовета армии были заслушаны доклады начальника тыла армии Найдёнова и командующего флотилией Горшкова о перевозках через пролив, и в постановлении было записано требование об улучшении переправы войск, а перевозку грузов довести до 1100 тонн в сутки. А в приказе номер 33 от 24 декабря командарм писал: «Действия войск Отдельной Приморской армии на Керченском полуострове всецело зависят от организации и состояния перевозок войск и грузов через Керченский пролив». Поэтому ответственным за перевозки и был назначен заместитель командующего армией генерал-лейтенант Мельник. И специальным пунктом было записано: «Главной и основной задачей Азовской флотилии является переправа войск и грузов через пролив, для чего ФКП флотилии перенести на Кордон Ильича»[2]. Это прямо у уреза воды в северной части Керченского пролива, куда я сейчас выезжаю и где находится маленькая группа управления морских перевозок. А 25 декабря на совместном заседании армейских и флотских руководителей эти вопросы были уже кардинально решены в присутствии Ворошилова.
Скажу откровенно.
Командарм Петров проявил мудрость в этом деле – он прозорливо усмотрел, что будущий успех его войск находится в руках моряков, в Керченском проливе, а самой флотилии и её соединению – Керченской переправе – отводил роль оперативного фактора, влияющего на успешное наступление. И мы, моряки, должны были гордиться отводимой нам ролью и приложить такие усилия, чтобы оправдать доверие командарма. Меня лично вдохновляла на большой ратный труд та роль, которая отводилась нам, морякам-азовцам, сражавшимся на морском фронте Керченского плацдарма.
Генерал армии С. М. Штеменко в своих воспоминаниях так описал события тех дней. 22 декабря Ворошилов, Петров и Владимирский рассмотрели план удара по противнику на правом фланге с одновременной высадкой десанта с Азовского моря в тыл противника силами Азовской флотилии. При рассмотрении вопросов взаимодействия и обеспечения наступательной операции более интенсивными перевозками войск и грузов через пролив между командармом и комфлотом вспыхнули разногласия. «И.E. Петров резко высказал своё неудовольствие по этому поводу и заявил К. Е. Ворошилову, что вопросы взаимодействия с флотом нужно решить капитально… Климент Ефремович приказал созвать совещание и там покончить со всеми спорами, добившись единого понимания задач и способов их решения. Состоялось оно 25 декабря… Дебаты между И. Е. Петровым и Л. А. Владимирским разгорелись здесь ещё жарче. Командующий Приморской армией… добился ясности насчёт обязанностей и ответственности флота по перевозкам. В то же время на совещании были уточнены задачи армии, согласованы сроки и порядок всех совместных мероприятий по обеспечению операции. В конце совещания я зачитал проект ежедневного доклада в Ставку, где проведенное обсуждение представлялось как обычное подготовительное мероприятие накануне предстоящей операции. Однако К. Е. Ворошилов решил иначе: он предложил оформить особый протокол по взаимодействию армии с флотом, записав туда всё, что возлагалось на флот и на армию, а затем скрепить всё это подписями ответственных представителей каждой из заинтересованных сторон. Всего на протоколе, по определению К. Ворошилова, должно было красоваться десять подписей, включая его собственную и мою. К этому времени я уже отлично знал работу Ставки и отношение её членов, особенно И. В. Сталина, к порядку решения важных вопросов. На моей памяти бывали случаи, когда в Ставку поступали документы за многими подписями. Верховный Главнокомандующий резко критиковал их, усматривая в таких действиях нежелание единоначальника или Военного совета взять на себя ответственность за принятое решение или, что ещё хуже, их неверие в правильность собственных предложений.
– Вот и собирают подписи, – говорил он, – чтобы убедить самих себя и нас.
Верховный требовал, чтобы все представляемые в Ставку документы подписывали командующий и начальник штаба, а наиболее важные… скреплялись бы тремя подписями… ещё подписью члена Военного совета. Я откровенно высказал Клименту Ефремовичу свои опасения насчёт предложенного им протокола и просил, чтобы этот документ подписали по крайней мере не более трёх лиц. Но Климент Ефремович расценил это как неуважение к присутствующим, как попытку присвоения коллективно выработанного решения. Он настоял на своём, и документ был подписан десятью персонами. Назвали его так: «Протокол совместного совещания Военных советов Отдельной Приморской армии (генерал-полковник Петров, генерал-майор Баюков, генерал-майор Соломко, генерал-лейтенант Мельник) и Черноморского флота (вице-адмирал Владимирский и контр-адмирал Кулаков) с участием Маршала Советского Союза тов. Ворошилова К. Е., начальника Оперативного управления Генштаба генерал-полковника тов. Штеменко, заместителя Наркома военморфлота генерал-лейтенанта тов. Рогова и главного контролёра по НКВМ флоту Наркомата госконтроля инженера капитана 1-го ранга тов. Эрайзера – по вопросу перевозки войск и грузов через Керченский пролив». Когда лестница подписей была наконец заполнена, я ещё раз заявил, что поступили мы неправильно и уж мне-то обязательно попадёт за такое отступление от правил оформления важной оперативной документации. Климент Ефремович только посмеялся над этим. Протокол послали. При очередном разговоре по телефону с Антоновым узнал, что Сталин и впрямь очень бранил нас за этот документ[3]. В тот же день было получено сообщение об утверждении плана основной операции Отдельной Приморской армии[4].
Такова история этого полезного совещания с правильным и необходимым решением практического улучшения питания и пополнения армии. Но форма его – это, конечно, настоящая импровизация, непростительная даже в гражданских условиях коллективного руководства; и тут прав Штеменко, критикуя этот протокол, так как он больно ударил по нему самому, ибо эта история имеет свое продолжение. Будучи вызван в Москву, Штеменко докладывал Ставке о делах в Приморской армии: «Верховный вспомнил наш протокол с десятью подписями:
– Колхоз какой-то. Вы там не голосовали случайно?.. Ворошилову такое можно ещё простить – он не штабник, а вы-то обязаны знать порядок. – Затем, обращаясь уже к Антонову, кивнул в мою сторону: – Надо его как-то наказать за это…
После освобождения Крыма многие из участников операции были награждены. При этом Сталин опять вспомнил наш злополучный протокол. Обнаружив в списках представленных к наградам мою фамилию, он сказал Антонову:
– Награду Штеменко снизим на одну ступень, чтобы знал наперёд, как правильно подписывать документы.
И синим карандашом сделал жирную пометку».
А я в связи с этим протоколом получил новое назначение. Начштаба флотилии Свердлов рассказывал мне как участник этого совещания; когда он доложил командующему флотилией Горшкову (он из-за болезни не присутствовал на нем) о бурном заседании Военсоветов, проходившем тут же, в штабе флотилии, и зачитал содержание протокола, он отреагировал на него по-своему, в полном соответствии со своим характером. Горшков продолжал придерживаться своей старой линии: командующий и штаб флотилии лично и непосредственно планируют и осуществляют десантные операции, а перевозками должен заниматься специальный начальник. Другое дело – надо было сразу на это поставить более сильного командира, дать ему штатное управление и больше сил и средств; а этого не было сделано, потому и пошли недоразумения. В этом я вижу ошибку командующего флотилией Горшкова. Наученный горьким опытом неудачи с перевозками, он принимает на этот раз правильное решение: коль скоро командарм Петров не согласился с переводом управления Керченской базы из Тамани на косу Чушка в Кордон Ильича для руководства перевозками, что ей на роду было написано, то использовать управление другой базы – Бердянской, существование которой становилось ненужным, и создать за её счёт специальное соединение под названием Керченская переправа, а её командиром назначить Деревянко[5]. Военсовет флота и замнаркома Рогов сразу же утвердили этот замысел Горшкова на осуществление операции по переправе войск и грузов через пролив. Я со всей силой подчёркиваю слово «операция», потому что это была по срокам, масштабам, пространственности и оперативной значимости настоящая операция, не менее важная, чем высадка десанта, которая до этого лихорадила два Военных совета, все управления армии и флота, обернулась конфликтной ситуацией, вызванной тем, что войска всех трёх корпусов армии (ОПАРМ) не имели в достатке боеприпасов, оружия, продовольствия, зимнего обмундирования, задерживалась переправа дополнительных войск; и при этой ситуации не могло быть и речи о наступательной операции армии. Ей должна предшествовать успешная операция по переправе в Крым огромного числа войск, ожидавших переправы, танков, артиллерии, боеприпасов, продовольствия, скопившихся в неимоверно опасных количествах на причалах косы Чушка – их противник мог уничтожить, взорвать ударами авиации и артиллерии, а они наносились ежедневно. Свердлов сообщил мне, что на этот раз Петров – уже после заседания Военсоветов – согласился с созданием предложенного Горшковым нового соединения и с моей кандидатурой. Это объяснимо. Он хорошо знал меня по Одессе – и как мы поддерживали его огнём, и какой размах приняли одесские морские коммуникации, и помнил образцовую посадку при эвакуации нами его армии за четыре часа – и вообще он был высокого мнения о нас, одесских моряках, и писал: «Личный состав Одесской базы на посадке войск проявлял величайшую организованность, посадка войск проходила дружно, организованно»[6].
Каждому командиру крайне необходимо и дорого доверие старшего в бою и операции. И я его чувствовал сейчас на себе. Я гордился доверием, оказанным мне Владимирским, Кулаковым, Роговым и особенно Петровым, ибо одно его слово возражения (он придерживался мнения, что командующий и штаб флотилии должны непосредственно управлять операцией на переправе) могло порушить все задуманное флотом, как перед этим получилось с несостоявшимся переводом управления Керченской базы из Тамани в Кордон Ильича. Петров согласился, и в мой адрес пошла радиограмма: немедленно прибыть в Темрюк.
Теперь предстояло оправдывать доверие, оказанное мне такими высокими инстанциями, тем более что в это были посвящены и представители Ставки и Генштаба.
Одно очень важное положение: и Владимирский, и Горшков объявили мне, что в целях оперативности мне предоставляется право самостоятельного сношения с армейскими руководителями, непосредственно занимающимися перевозками и питанием армии.
Это, как и всё остальное, меня полностью устраивало. И вообще я был рад, что я вновь рядом с армией и работаю на неё. Вновь, как и в Одессе, с Приморской армией, но в другом качестве, и опять же рядом Петров. Мне нравилось, что после некоторого затишья в моей деятельности я вновь на горячем месте, под ударами, и занимаюсь не отвлечёнными делами, а буду решать задачи с армией на главном направлении борьбы с врагом.
Закончив работу с генералами тыла армии по улучшению перевозок через пролив, я заторопился в Кордон Ильича – скорее к делу, от которого зависела будущая наступательная операция Отдельной Приморской армии (ОПАРМ).
Узнав, что я «безлошадный» и приехал сюда на попутной грузовой машине, член Военсовета армии Соломко распорядился выделить мне в постоянное пользование легковую машину, а генерал Хилинский, с которым я отныне буду планировать перевозки, – видно от избытка чувств, природной щедрости и уважительности к морякам – приказал дать мне из резерва почти новенький роскошный лимузин ЗИС-101А. И через полчаса я выехал. Конечно, я понял подоплёку этих щедрот, так как знал, что в армии, в полевых условиях такая машина не нужна, там высоко ценился легковой вездеход, и на нём разъезжали и командир полка, и командующий фронтом. Но для укатанной дороги косы Чушка и в Темрюк этот лимузин вполне подходил. 12 минут требовалось, чтобы проскочить от Кордона до оконечности косы, что позволяло мне дважды за день посещать там самое бойкое место: Дамбу – причал № 7, с которого шёл основной поток войск и грузов, и Дамба постоянно была завалена тысячами тонн груза.
Только мы тронулись, и непривычное мягкое покачивание, уют и тепло погрузили меня в глубокий сон. Проснулся я от сильного толчка, – машина стояла – и тревожного голоса шофера Николая Зубова:
– Товарищ капитан 2-го ранга! Подъехали к Кордону Ильича, его бомбят или обстреливают, ехать или переждём?
– Ещё чего не хватало; а если тут беспрерывно так, тогда мы с вами никогда не въедем в пункт назначения, – отшутился я, – трогайте. Война есть война, на ней могут и убить.
И в это время впереди три одновременные вспышки и взрывы. Похоже на артобстрел. Это здорово напомнило мне Одессу, она была под огнём вражеской артиллерии, и мне не привыкать, хотя тошновато. Кордон Ильича – небольшое рыбацкое село с хатками, находящееся у северной оконечности Керченского пролива, чуть южнее мыса Ахиллеон и вблизи начала (корня) косы Чушка, вытянувшейся узкой песчаной полосой на юго-запад на 16 километров. Здесь и ЗКП флотилии, и управление морскими перевозками.
Впереди светится синий огонёк. Подъезжаем – шлагбаум у развилки дорог и около него силуэт. Остановились. Подхожу. Вглядываюсь – девушка с карабином за спиной, а неподалеку, у землянки, другая – с карабином в руках. А рядом продолжают рваться снаряды и слышен мерзкий посвист.
– Ваши документы! – строго потребовала девушка-боец.
Просмотрела, отдала честь и подняла шлагбаум. Я впервые встречаюсь в прифронтовой полосе с девушкой регулировщицей и вот в такой ситуаций. И я не мог вот так просто взять и уехать. И может невпопад, но спросил:
– Как оцениваете обстановку на вашем участке?
– Обычная, боевая, – опять же строго ответила она.
И в это время очередная порция разрывов и посвистов, от которых хотелось пригнуться, хотя это бессмысленно, поздно.
– И часто такое вот у вас тут?
– Ежедневно и подолгу, то снаряды, то бомбы, мы уже втянулись.
Милое ты мое создание: в мирное время у неё с губ не сходило бы слово «мама». А сейчас бы жениха ей хорошего, да мужа бы доброго, да детей бы здоровеньких. А она уже с карабином обручилась, и ей, видите ли, бомбы и снаряды обычное дело, и она вроде бы уже и втянулась в это. Да нет же – лёгкая, неприметная для неё, предательская дрожь в голосе выдаёт её опытному глазу – ведь бесстыжая, обнаглевшая за войну «курносая, безносая» непрестанно бродит вокруг да около и зазывно дышит ей в лицо при каждом воздушном и артиллерийском налёте.
Шлагбаум обозначал въезд во владения Керченской переправы. Регулировщица пояснила: дорога налево – это на косу Чушка, а направо – это уже улица Кордона Ильича, у первых хаток спросите у часового, он покажет, где располагается морской штаб.
Я прошёл в землянку дежурного по перевозкам. Мне представились дежурный и его помощник лейтенанты Александров и Белов. Тут же находились и представились ближайшие помощники начальника перевозок: капитан-лейтенанты Н. А. Рыбинский и Г. С. Липовский. Первый был оператором, а второй – представитель отдела Военных сообщений Азовской флотилии, помогал планировать перевозки грузов. Они ввели меня в курс всех дел и показали знание порученного дела. И ещё мне понравилось то, что никто из них не пошевелился, не вздрогнул при очередном разрыве снарядов, падавших с немецкой педантичностью через точные промежутки, вокруг землянки, которая была сработана небрежно, без накатов, и не облицована, отчего при каждом близком взрыве нам на голову сыпалась земля. Предшественник мой – в госпитале, дел принимать не от кого, и через час я подписал приказ о вступление в командование Керченской переправой и приказал всем отныне так именовать наше соединение. Рыбинского я знал ещё по Одессе как храброго и умного командира тральщика и объявил ему: отныне он начальник оперативного отделения штаба переправы и вридначштаба ее. А Липовскому, которого я вижу впервые, приказано считать себя начальником нашего маленького ВОСО (военные сообщения), и он несёт ответственность за планирование с тылом армии перевозок; контролирует ход перевозок, организуя с помощью комендантов пристаней и участков погрузку и разгрузку, которые производят армейские товарищи; ведёт учёт перевозок. И Липовский, закончив со мной разговор, убыл в Ахтанизовскую в тыл армии к генералу Хилинскому планировать завтрашний день. И так каждый день. Рыбинский отвечал за выделение сил и средств на перевозки, и вот при мне он назвал Липовскому, на что он может рассчитывать. А я добавил: уже завтра увеличить нагрузку на эти суда на десять процентов. Рыбинский нёс ответственность за боевое обеспечение перевозок, которые осуществляются по фарватерам и под ударами авиации и артиллерии противника, и он руководил тралением фарватеров, назначал катера ПВО, имевшие на вооружении 37-миллиметровые автоматические пушки для сопровождения крупных судов, вызывал истребительную авиацию при обнаружении вражеских самолётов и вызывал артогонь наших береговых батарей против вражеских батарей, не дававших нам житья.
Я не ошибся в выборе этих двух офицеров. Не щадя самих себя и своих жизней, они доблестно воевали, отлично исполняя свой долг. На переправе не было ни одного недоразумения, произошедшего по их вине.
Узнав о моем прибытии, пришел из соседней землянки начальник оперотдела штаба флотилии капитан 3-го ранга А. А. Ураган. Впервые встречаюсь с ним, но первое впечатление хорошее. Он пополнил мои сведения о делах на переправе и признал: конечно, налицо у нас промашка с перевозками – тут повинны и армейские товарищи, и ещё больше мы. Будем вместе исправлять положение.
На южной оконечности косы Чушка находился главный грузовой причал: Дамба. Там базировались почти все суда, там же в землянке обосновался начальник плавсредств капитан 3-го ранга Н. Л. Каневский. Мой давний сослуживец по Одесской базе. Человек от природы острого ума, беспокойный в труде, сильный мореход. Я позвонил ему, сообщил, что приступил к работе, и напрямую сказал: нами недовольно командование армии, поэтому, не ожидая усиления судами, уже с завтрашнего дня надо увеличить перевозки на десять процентов.
Рядом с землянкой дежурного находилась хата и в её конце комнатушка, по соседству с камбузом и столовой офицеров, в ней я и поселился, несмотря на обстрелы и бомбёжки, – не лежала моя душа моряка к землянке, да ещё безграмотно сделанной, такая казалась мне готовой могилой. В глинобитной хате мне показалось уютнее. Перед уходом на отдых я приказал Рыбинскому: с этой минуты дежурного по перевозкам именовать оперативным дежурным Керченской переправы и объявить об этом сейчас же всему личному составу. Даже этой, далеко не формальной мерой я внушал каждому, что отныне в Керченском проливе жизнь надо налаживать по-иному.
Невзирая на близкие разрывы снарядов, я быстро заснул, но ночью проснулся от сильного жара. Пригласил врача, он измерил температуру – под сорок. Печально: начать службу большого значения с болезни. И я приказал врачу: любыми средствами и дозами поставить меня на ноги в считаные дни, мне нельзя болеть. И вообще на войне стыдно болеть, здесь только убивают или ранят. И врач честно взялся за меня. Но приказы старшего бессильны в этом деле. К утру температура сорок с половиной, и я начал бредить и впадать в забытье. Прибыл врач из Темрюка, и меня выхаживали усердно, но температура стойко держалась на критической отметке весь день. Но хорошо помню, ночью при каждом разрыве снаряда я приходил в себя и видел, что комната моя от пламени разрывов хорошо освещается. Медицинская сестра усердно меняла компрессы и давала различные лекарства. Но никакой пылающий жар не стёр в моей памяти событие, происшедшее на второе утро болезни. Меня звал по фамилии низко наклонившийся над моим лицом какой-то человек, с хорошо знакомым голосом:
– Деревянко! Это Петров. Проверял работу переправы. Привез своего врача, он подтвердил правильность диагноза и лечения ваших врачей. У тебя большая температура, но заболевание не самое страшное, воспаления лёгких нет, но есть коварная болячка – воспаление плевры. Скоро всё пройдёт. Теперь будешь знать, как одеваться в полёт в открытом всем ветрам самолёте. Как поднимешься, сразу приезжай ко мне на КП в Крым, ты мне очень нужен со своим одесским опытом. Будем вместе выправлять положение с переправой войск и грузов – на подходе стрелковая и пластунская кубанские дивизии. Вчера переправа перевезла уже немного более обычного. До скорой встречи на плацдарме.
Не забыл-таки Петров старой одесской дружбы, навестил больного.
Оказывается, командарм прибыл с крымского берега на южную оконечность косы Чушка проверить ход перестройки работы переправы, и ему Каневский доложил, что я сильно заболел. Петров позвонил и приказал направить ко мне главного терапевта армии, а закончив работу, проехал ко мне. Вот в этом весь Иван Петров: строгость в руководстве и внимание к людям во всем. Я уже говорил, что Иван Ефимович – человек больших благородных страстей, его душа полна ими, бывало, и играли они даже через край, выплёскиваясь взрывами. Но опять же в какую сторону?! В усердии служить честно Родине. Среди всех страстей были у него две, которые заполняли почти всё его время и существо: постоянно рвался на передовую – там, где живые творили историю, и непременно посещал госпитали – там, где страждущие, общаясь с командармом, получая нравственный заряд, несли его потом на передовую. Петров был большой психолог и знал, что делать. Да что говорить, повторюсь и скажу: там, где был Петров, там не только можно было иметь немножко меньше войск, но там было и крепкое политико-моральное состояние войск – люди гордились, что сражаются под началом этого храброго генерала Вперёд…
Действительно, как сказал Петров, со слов врачей, к вечеру мне полегчало, к утру температура нормализовалась. Молодость и медицина сделали своё. И я почувствовал безразличие к табаку. А ведь я стал заядлым курильщиком, и меня не брали папиросы, перешёл на трубку. Меня преследовал кашель. И я решил бросить курить. Да в каких условиях. И навсегда. Стало легко дышать. Помогла скоротечная болезнь.
Молниеносная вспышка температуры принесла слабость, я не мог ходить. Но потеряно два рабочих боевых дня. И 30 декабря я принимал в помещении и заслушивал подчинённых. С помощью Рыбинского и Липовского подробно познакомился с делами переправы. А замначштаба флотилии Александр Автономович Ураган просветил меня в делах высшего порядка: что из себя представляет наш плацдарм на Керчь-Еникальском полуострове и операционная зона Керченской переправы. Теперь я буду видеться с ним ежедневно и неплохо узнаю его. В нём много интересного. Ниже среднего роста, неулыбчив, с низким басовитым голосом, энергичен, весь в движении, спокоен, уравновешен, но при непорядках мог взорваться; человек с острым природным умом, обогащённым морскими науками и хорошим знанием сухопутных дел, так как всё время во взаимодействии с армией, быстро всё схватывал, на лету, и излагал логично и грамотно; строг и требователен, с железной волей. К концу войны А. А. Ураган станет начальником штаба зарубежной Констанцской военно-морской базы, а после войны – командующим Дунайской флотилией.
И сейчас он производил хорошее впечатление, рассказывая об армейских и флотских делах.
После высадки десанта с косы Чушка на крымский берег и последующего наращивания войск Отдельная Приморская армия тремя корпусами удерживала омываемый морем с трёх сторон Крымский плацдарм размерами (приблизительно и по прямой) 10 на 9 километров, к северо-востоку от Керчи; его можно называть Керчь-Еникальским полуостровом (по названию береговой крепости Еникале) – это северо-восточная оконечность Керченского полуострова, выступающая к востоку, клювиком нависающая над северной, самой узкой частью Керченского пролива. География, точнее – топография плацдарма для нас невыгодная – местность покатая, с понижением в нашу сторону, обрывающаяся крутым берегом в пролив; противник, занимая возвышенности, просматривал наши позиции. Наши войска – число дивизий которых было позднее доведено до одиннадцати, плюс две морские бригады, держали на западе плацдарма сухопутный рубеж, упиравшийся справа и слева в море; северное и южное побережья плацдарма до пролива охранялись наблюдением частей и морских батарей; восточное побережье плацдарма, примыкавшее к проливу, также охранялось частями армии, но уже совместно с Керченской переправой – с её постами наблюдения и патрулями комендантской службы причалов Крымского берега пролива. Для отражения десантов противника у берегов плацдарма в готовности содержались специально назначенные части армии и морской пехоты и морские батареи. КП командарма находился на плацдарме в 8 километрах от передовой у берега северной части пролива – как раз напротив моего КП (через пролив) в Кордоне Ильича. Побережье плацдарма у пролива – это сплошные склады тыла армии, рассредоточенные на склонах взгорья – дело теперь за нами, моряками переправы: заполнить их до полной потребности армии для ведения наступления армией в течение полумесяца.
Керченская переправа, формируемая по организационной схеме и штатам военно-морской базы, имела свою операционную зону, силы, средства, – которые сейчас усиленно пополнялись, – а также береговые сооружения, части, учреждения и органы управления, которые за два дня моей болезни значительно укомплектовались. Операционная зона переправы включала в себя северную, узкую (Байкальскую) часть Керченского пролива, южной границей которой являлась линия, соединяющая южную оконечность косы Чушка (Кавказский берег) с мысом Еникале (Крымский берег), а северной границей являлась линия, соединяющая мыс Ахиллеон (Кавказ) с мысом Хрони (Крым). Длина проливной части зоны составляла около 17 километров, а ширина пролива зоны в южной части – около 5 километров, а в северной – около 11. Пролив был заминирован, и плавание совершалось по фарватерам, для чего была создана чёткая и совершенная система безопасности плавания: на обоих берегах для каждого фарватера были установлены створные знаки со строго направленными огнями, а на фарватерах поставлены буи и вехи, что помогало плаванию ночью и в тумане. Коса Чушка, протянувшаяся вдоль пролива на 16 километров, являлась восточным берегом Керчь-Еникальского пролива, и с неё шло питание армии. Начиная от Кордона Ильича и до 13-го километра косы имелись четыре причала, а затем стало семь, и только один из них глубоководный, к нему подходили наиболее ёмкие суда, поднимавшие тяжеловесы и бравшие сразу много грузов. Этот причал был пристроен к голове каменной дамбы, издавна здесь существовавшей, потому и получивший наименование «Дамба». Он стал главным причалом (номер семь) – через него идёт основной поток войск и грузов: боеприпасов и продовольствия, вся артиллерия, танки и автомашины. Он удобен тем, что отсюда до крымского берега всего 5 километров, это ускоряет оборачиваемость судов. Дамба – самый южный причал, на 13-м километре косы и хорошо просматривается противником из района Керчи с горы Митридат и с мыса Ак-Бурну (ныне Белый). Там противник установил батареи и обстреливает Дамбу и всю косу до Кордона, с корректировкой огня. И сейчас нам предстоит совершенствование контрбатарейной борьбы с целью подавления вражеских батарей и задымления, причалов и фарватеров по одесскому опыту.
На крымском берегу, начиная от мыса и крепости Еникале и далее на север, у прибрежных поселений Опасное, Жуковка, Маяки и Глейка было семь причалов, главный из них в Опасном; все причалы как раз напротив косы Чушка.
Таким образом, Керченская переправа имела сперва десять, а позже – четырнадцать погрузочно-разгрузочных причалов на двух прямо противоположных берегах, разделенных 5–6-километровой водной полосой, начинённой минами, простреливаемой вражеской артиллерией крупных калибров, – и между этими причалами непрерывно сновали многие десятки судов, под постоянными ударами артиллерии и авиации противника, такими ударами, какие не испытывал сухопутный фронт плацдарма. Это подтверждали лично мне и неоднократно офицеры с передовой, переправлявшиеся через пролив: у вас тут жарче, чем у нас на сухопутной передовой. Переправу враг бомбил, штурмовал, обстреливал, намереваясь прервать морские коммуникации и этим лишить армию боеспособности, готовности к активным действиям.
С полным правом утверждаю: Керченская переправа стала морским фронтом борьбы нашего Крымского плацдарма. Рухнет он – и не устоять сухопутному фронту. Так произошло с Эльтигеном.
На Керченскую военно-морскую базу, штаб которой находился в городе Тамани (командовал ею капитан 1-го ранга В. И. Рутковский), были возложены следующие задачи: прикрывать Керченскую переправу от ударов кораблей противника с юга, подавлять вражеские батареи, обстреливавшие переправу, оборонять побережье Таманского полуострова южнее косы Чушка. Штаб переправы имел прямую радио- и телефонную связь со штабом Керченской базы. А её дозорные корабли в южной части пролива делали донесения и в наш адрес на общей радиоволне.
Вскоре Керченская база была подчинена флотилии, и в операционную зону Азовской флотилии входили весь Керченский пролив и Азовское море.
Пролив в зоне переправы мелководен (2–5 метров), а у берегов и причалов совсем мелко (2–3 метра). Здесь для перевозок не применишь грузовые суда пароходства, можно использовать только малые суда, баржи, буксиры с малой осадкой. К моему приезду на перевозках участвовали: четыре буксирных катера, три баржи, паромы, понтоны, сейнеры, тендеры, мотоботы, рыбацкие шлюпки-дубки. Буксиров не хватало, требовалось больше барок. В достатке было боевых катеров для охранения плавсредств и обороны пролива. Что же нам должно быть выдано для усиления по решению двух Военсоветов?. Я ещё раз внимательно изучил «Протокол десяти» и убедился, что это дельный документ, и по нему к нам уже следуют буксиры и баржи.
Что же собой представлял этот «Протокол десяти», который так красочно описал генерал армии Штеменко? Он был в двух изложениях (вариантах). Протоколом на флот и армию возлагались взаимные обязанности: флоту – подать семь буксиров и пять барж и установить хорошее навигационное береговое и плавучее оборудование; армии – построить новые причалы и наладить организацию погрузки грузов на плавсредства, выгрузку и быстрый вывоз их с причалов; и ещё много пунктов было записано для обеих сторон. И вдруг в конце протокола читаю странную запись особым пунктом в адрес флотилии: в двухдневный срок обеспечить команды плавсредств горячей пищей, теплым и водонепроницаемым обмундированием[7]. И я подумал: неужели бойцы два месяца, с начала ноября, бились в смертном бою, питаясь всухомятку? Это же элементарно для флота и армии – трёхразовое горячее питание, и только чрезвычайное обстоятельство может отодвинуть горячий обед и совместить его с ужином, и это не только моральный дух, но простая физиологическая потребность, при сухомятке от человека не жди боевой физической отдачи, да еще при перегрузках; также элементарно для флота: команду, постоянно работающую на верхней палубе, одеть в непромокаемую одежду. Тут налицо вина тыла флотилии, который почему-то основным составом находился в далеко – в Ейске, а ему вместе со штабом надо было работать на косе, где решается сейчас главная задача флотилии. Виновен и тыл флота (начтыла – генерал Куманин) – ему надо было давно обревизовать здешний тыл, ведь флот в последние два месяца не вёл каких-либо крупных боевых действий, кроме как в Керченском проливе. Значит, главное приложение усилий флота должно быть здесь, сюда должны быть нацелены силы и средства и внимание штабов, тылов и политорганов. Политуправление флота, которое возглавлял генерал Филаретов, и политотдел флотилии, которым руководил капитан 1-го ранга Панченко, упустили контроль за тыловиками, которые своей невнимательностью к людям отрицательно влияли на моральное состояние, настроение моряков переправы. В этом, безусловно, повинен прежде всего командующий флотилией Горшков, ведь забота о людях является первейшей обязанностью командира.
Тут напрашивался вывод: одной из главных причин невыполнения задачи по перевозкам является невнимание к людям. И я ухватился за мысль, которая привела меня к решению начать свою работу, как говорят в армии, с обустройства войск. Завтра же… То есть: почему завтра? Ещё моя бабушка Деревянчиха, приучая меня к хлеборобству, наставляла: не откладывай на завтра дело, которое надлежит сделать сегодня. «Нехай» (пусть подождет – завтра сделаю) – плохой человек, от него много бед, – говаривала она.
И надо же такому случиться! Постучали в дверь. Входит мой давнишний сослуживец – был начальником отдела тыла в Батуми.
– Подполковник Коротков Василии Зиновьевич прибыл в ваше распоряжение служить начальником тыла Керченской переправы, и со мной начальники отделений тыла, – отрапортовал Коротков.
– Где они?
– За дверью, во дворе.
– Зовите сюда.
Коротков представил: начпрод и вещевик – капитаны Натаров и Сёмин, артиллерист – Ильин, минёр – Орлов, топливник – Шапкин, начальники шкиперского и автотракторного отделений – Марусидзе и Перушкин. Все нужны позарез, а первые два сейчас же. Зачитал им последний пункт протокола и объявил:
– Свою работу я начинаю на переправе с тыловых дел, и сегодня же. Нам надо немедленно позаботиться о людях, тогда и боевые дела пойдут успешнее.
Коротков вставил:
– Я в Темрюке познакомился с протоколом и уже просил начтыла флотилии сегодня же гнать машины на переправу с тёплым и непромокаемым обмундированием. Мне обещано послезавтра всё доставить.
Я похвалил Короткова за предприимчивость и оперативность. И тут же позвонил на Дамбу к Каневскому: как с питанием личного состава? Пока – не налажено, нет посуды для варки пищи.
Звоню в тыл армии и попадаю к генералу Пламеневскому, заместителю начальника тыла армии, и прошу его о немедленном выделении нам двух походных кухонь, ибо срок исполнения протокола истёк, я должен уже завтра накормить людей горячим обедом.
Генерал оказался внимательным и чутким человеком и обещал к утру доставить кухни к Дамбе. И сдержал своё слово – обязательность в любом деле решающая сила, в военном деле дважды.
Вызываю врача и объявляю ему: считать моё лечение законченным. Приказываю начтыла, врачу, начпроду тотчас отбыть на Дамбу – все подготовить к началу приготовления горячей пищи, и впредь – без перебоев всегда проверять, как производится мытьё людей. Прибуду утром и заслушаю доклад. Пробу пищи буду снимать лично у котла.
Заходит незнакомый человек и представляется:
– Капитан 2-го ранга Дворяненко Сидор Ильич, заместитель начальника политотдела флотилии, назначен вашим заместителем по политчасти.
Я познакомил его с моими планами и решениями, и он прямо загорелся этим:
– Беру на себя это, прямо скажем, политическое дело и вместе с товарищем Коротковым в несколько дней выправим положение с бытом моряков. Пока вы болели, на переправе уже задействовал политотдел, возглавляемый мной.
Сидор Ильич оказался обязательным человеком, дисциплинированным и усердным в работе и обаятельнейшим во взаимоотношениях с людьми. Мы дружно с ним заработали и с первого же дня близко сошлись. Я медленно схожусь с людьми, долго присматриваюсь и, пожалуй, лишку взвешиваю: за и против, – чтобы подать руку дружбы. Может, поэтому и редко ошибался в выборе друзей. А вот с Дворяненко получилось с ходу – открытая у него душа и магнитом тянет к себе.
Наутро со Степанычем выехали к Дамбе, где средоточие плавсредств. Степаныч быстро освоился со своими обязанностями порученца и характером своего начальника, и теперь у него всегда блокнот и карандаш. Ещё с Бердянска он усвоил моё требование: при моих встречах с людьми и беседах с ними записывать все претензии и просьбы и с моего ведома передавать их тем, кто обязан был выполнить это, а лучше всего – не допускать проблем; Степаныч брал их на контроль и по истечении срока докладывал об исполнении – я отвергал всякую возможность их невыполнения.
Встреча с Каневским. Мы с ним знакомы с Очакова: в бытность мою начальником штаба Одесской базы он был командиром береговой базы 2-й бригады торпедных катеров, входившей в состав Одесской базы. Николай Леонтьевич – интересный человек. Командовал торпедным катером. С годами перешёл на чисто береговую службу. И везде проявлял усердие в работе. Участник обороны Очакова, который штурмовала 50-я немецкая пехотная дивизия, усиленная танками, артиллерией и авиацией. Из личного состава бригады и бербазы была сформирована рота катерников. И здесь Каневский показал себя отважным и умелым воином. Рота была нами влита в состав морского гарнизона, который вместе с городскими ополченцами под командованием флотского генерала береговой службы И. Н. Кузьмичёва десять дней бился с семикратно превосходившим в силах врагом, с 10 по 20 августа 1941 года, а потом, перейдя на острова и Кинбурнскую косу, защитники Очакова закрыли противнику кратчайший путь в Западную Таврию. Всю войну Каневский в боях, он участник многих операций флота. И отовсюду о нём идёт добрая слава воина. И снова он в самой горячей точке Черноморья – на Керченской переправе.
С Каневским обошли причалы, много около них и на них навалено грузов и техники, бросается в глаза недостаточная организованность в погрузке и потому малая оборачиваемость плавсредств и конечно же мало судов, есть свободные места у причалов. Посетили суда и встретились с экипажами. Скромный наш народ – не с претензий начали разговор, а с того, как улучшить перевозки. Общее мнение свелось к единодушному заключению: до прихода дополнительных сил и средств можно за счёт лучшей организации в полтора раза увеличить перевозки. При опросе претензий, который новый начальник по уставу обязан провести, люди пожаловались на длительное отсутствие горячей пищи, тёплого и походного обмундирования и не налаженное банное дело.
Я тотчас же послал Степаныча на машине в Кордон Ильича – привезти начальника инженерной службы переправы инженер-капитана Я. Л. Гуревича, командира инженерной роты капитана В. В. Бабенко и заместителя начальника квартирно-эксплуатационного отдела флотилии инженер-капитана Л. И. Барбакадзе, прикомандированного к переправе в качестве инженера-строителя. И через час мы сообща порешили строить землянки-бани: начать сегодня же, чтобы в первый день нового года «обмыть» первую баню. Леван Иванович Барбакадзе, которому было поручено лично руководить их строительством, оказался старательным и изобретательным строителем, а главное – обязательным: на исходе дня 1 января позвонил и пригласил меня первым помыться и дать оценку. Что я с удовольствием и сделал, так как и для меня это стало проблемой, ведь я был в одинаковых условиях с рядовыми: жил в старой рыбацкой хате и землянке, питался с одного котла и мылся в матросской бане-землянке. Тогда же мы приступили к строительству землянок для жилья экипажей малых судов. А строить на косе сложно – здесь в глубину не вроешься, копнёшь лопатой: вода выступает; и приходилось делать насыпные землянки с использованием для каркаса изогнутых листов алюминия. И тут отличились Л. И. Барбакадзе и B.B. Бабенко. И матросы поминали их добрым словом за заботу о них.
Без четверти двенадцать подошли к походным кухням, у которых хлопотали и стряпали два матроса-кока и одна женщина. Я-то думал, что она на подхвате подсобницей. Однако я ошибся. Ко мне подошла именно она и отрапортовала по-военному: на первое – флотский борщ, на второе – макароны по-флотски (с молотым мясом), на третье – компот. И представилась старшим коком.
Отличнейший обед – такова была оценка: моя, Короткова и Каневского, – когда мы опустошили тарелки. Хотя это искусство коков и особенно старшего, всё-таки главным виновником этого приятного события был начпрод Натаров. Ночь не спал – подвозил продукты, топливо, посуду; утром принял кухни; полдня простоял у кухонь как специалист, консультировал коков; а потом, сняв пробу с врачом, доложил нам: обед готов. Конечно, в питании были сбои, но вопрос о законной для воина, сражающегося на море, продуваемом свирепыми морозными ветрами, да ещё и в мокрядье, горячей пище был снят с повестки дня волевыми и быстрыми решениями и делами небольшой группы начальников и рядовых. А решить всё надлежало ещё в начале ноября. Да, день человека начинается с еды, а в наших условиях – круглосуточных боевых действий – сутки должны начинаться с ночного ужина, и мы обеспечили четырёхкратное питание бойцов и чаепитие. И люди повеселели, сноровистей заработали. Я, политотдел и тыл переправы, и прежде всего Дворяненко, Коротков и Натаров, отдавали себе отчёт, что, наряду с политическим кредо, хорошо поставленное питание укрепляет моральный дух личного состава.
Люди не только прочувствовали на себе крепкую власть нового начальника, но и почувствовали заботу строевых командиров, политических и тыловых работников. И тогда командованию переправы незазорным стало выдвинуть девиз: у нас приказы начальников выполняются точно, бегом и с радостью. Чтобы в ближайшие недели дать армии всё требуемое ею.
Какая бы ни была забота начальника, а всё-таки в питании к бойцам ближе стояла наш старший кок на Дамбе. Кто же она такая? Молоденькая, миловидная, не у домашнего очага, а здесь, в таком пекле морского фронта, где запросто убивало – и в подчинении два матроса-кока, главная кормилица основной нашей боевой силы. К моему стыду, я запомнил только имя: Маша. А сейчас разыскиваю её и людей, знавших её. И был бы рад любой весточке о ней.
Патриотические чувства, военные и человеческие горести привели Машу в ряды воинов, сражавшихся с гитлеровцами. Так она оказалась на Керченской переправе. Кормила и обстирывала небольшое число людей. А сейчас ей поручили большое дело: кормить сотни воинов круглосуточно, так как питались по скользящему расписанию, по мере подхода судов – ещё более ответственное занятие.
Ещё утром, перед поездкой на Дамбу просматривая боевую документацию, я познакомился с приказом командарма Петрова, устанавливающим судам нормативы перевозок и премирование за сверхплановые рейсы: самоходным понтонам норма – 5 рейсов, за сверхплановый рейс – 1000 рублей, баржам – 3 рейса, за сверхплановый рейс – 800 рублей, тендерам – 7 рейсов, за сверхплановый рейс – 500 рублей. Вот насколько остро стоял вопрос с перевозками и связанной с ними боеспособностью армии, что Военсовет ОПАРМ пошёл на такие расходы. Я спросил у Каневского и представителя армии: часто ли приходится выплачивать премии. Редкий день, – был ответ. Я остался до вечера на Дамбе и решил сам включиться в организацию перевозок. Тендера и баржи не выполнили норму, понтоны – выполнили. Но к исходу суток перевезено 800 тонн; это больше, чем неделю назад, на 200 тонн, но далеко от нормы, которую недавно установил командарм: перевозить ежесуточно 1200 тонн грузов, не считая войск.
Несмотря на усталость, решил ехать в тыл армии на планирование завтрашних перевозок. Вместе с Липовским выехали в станицу Батарейка. Я поделился с генералами Пламеневским и Хилинским своими впечатлениями о перевозках: на перевозки требуется от армии поставить волевого начальника, решительно улучшить организацию погрузки и разгрузки, и дело пойдёт. Мне ответили, что такой уже назначен и что они сами будут систематически посещать и налаживать дело на обоих берегах. Пламеневский будет на косе Чушка, а Хилинский – в Крыму.
Канун нового года я пробыл на Дамбе и в Опасном в Крыму, где шёл основной поток грузов. Сегодня мы дадим 900 тонн грузов.
Как приказал командующий флотилией С. Г. Горшков, сегодня прибыло походное непромокаемое обмундирование, и за ночь оно было выдано экипажам. Видите, все нашлось, и оно было, не было внимания к людям со стороны тыла и политоргана и волевого нажима, приказания строевого начальника, возглавлявшего перевозки.
Если Новый – 1943-й – год мы встречали в радостной обстановке наших побед, то Новый – 1944-й – год мы встречали под впечатлением победы Красной армии на Курской дуге и непрерывного изгнания гитлеровских фашистов с территории СССР, наступления Красной армии и Военно-морского флота. Это дало мне повод встретиться у меня с ближайшими соратниками: Дворяненко, Коротковым, Каневским, Рыбинским, Липовским. И фронтовой чаркой, из фронтовой алюминиевой кружки, и пока что с не покрытого ничем моего рабочего стола, и со скромной закуской – мы отметили знаменательные события в жизни советского народа, что скоро ступим на ту проклятую землю, с которой пришло к нам страшное зло и горе. Одновременно по моему приказанию Коротков распорядился выдать всем боевым участникам перевозок новогоднюю чарку.
Нарком Кузнецов прислал на флот новогоднюю поздравительную телеграмму, мы её отрепетовали в низы, а Дворяненко составил нашу поздравительную с постановкой задач, и мы послали её подчинённым.
Скромная встреча за несервированным столом дала мне повод попросить Короткова скрасить наши заботы более приличным бытом, и не только командования переправы, а всех, особенно тех, кто постоянно под ударами врага и стихии, мокнет в воде и покрывается ледяной коркой от колючего морозного норд-оста. Василий Зиновьевич лукаво улыбнулся и произнёс: есть кое-какие резервы, разрешите с нашей фронтовой переправы послать человека в тыл флотилии, в Ейск, и там же – к кое-кому. Я так понял, что он хочет потрясти не только тыл, но кое-кого из ближних своих и самого себя. Больших секретов по части своих тайных возможностей, резервов и запасов он не выдал, сразу замкнулся. Да грош цена тому начальнику, если он не имеет тайников – законных, учтённых – и втайне от всех, дефицитных, редкостных предметов или хотя бы путей их добывания. Он уронит свой авторитет начтыла, все могущего сделать во имя воина. Он потрясет веру у командира в способность начтыла выходить из любого сложного положения, когда получит экстренное задание на сверхчеловеческие возможности. С хорошим начтыла командиру легче воюется; за таким – как за каменной стеной: воины и бой будут обеспечены немедленно и всем при любых внезапно возникающих обстоятельствах, какими полна всякая война. Это не только не исключает, но даже обязывает командира до тонкости знать корабельное хозяйство, общевойсковой тыл, его возможности и способности, знать на каждый момент наличие всего боевого и материального обеспечения и уметь в критическую минуту тактично взять его в «загашниках», прибережённых на крайний случай, когда командир сильно подступится.
Никогда я не нажимал на начальника тыла. Хотя давал волю своим чувствам, когда воину не отпускалось положенное по нормам, а на складах оно было. Но это случалось очень редко, так как мне довелось работать с хорошими тыловыми руководителями.
Рассвет первого дня нового года я встречал на Дамбе, тут уже был старморнач косы Чушка Каневский со всеми своими помощниками: В. М. Адамовым, Н. А. Калиниченко, В. М. Булдаковым, Евтеевым и комендантами причалов: Г. В. Кисилёвым, М. У. Голенко, Г. В. Касьяновым, Д. Я. Микшуном, А. А. Вербаховским, Ф. И. Филипповым, А. Г. Девятаевым, К. И. Дубовым. Пригласили армейских офицеров, ответственных за погрузку. Познакомил их с решением Военсоветов армии и флота, обсудили возможности и сообща пришли к выводу, что уже сейчас можно в полтора раза увеличить перевозки. И тут же они получили эту задачу. Подъехал генерал Пламеневский и лично взялся за организацию быстрой погрузки. Теперь он будет сюда наезжать ежедневно, пока не наладится дело.
Через час приехал подполковник И. И. Тарапунько – начальник ВОСО флотилии, он только что сменил на этом посту Д. Г. Емельянова. Это мой давнишний сослуживец и верный помощник по воинским перевозкам, и мы с ним дружим с Одессы и Поти. Я попросил его поселиться у меня и помочь комендантам и старморначам помочь улучшить перевозки. А он, оказывается, с этим и приехал. Он так умело поведёт дело, что под его руководством и флотские, и армейские командиры сноровистее заработают уже в первые последующие дни. Иван Иванович усердный и преданный долгу человек, не нуждавшийся ни в каких понуканиях, он сильно помог мне и выручил нашу переправу. Полсуток он проводил на Кавказском берегу, а полсуток – на Крымском и там же в землянках отдыхал.
Старморначу косы Чушка Каневскому я приказал: «Отныне все суда плавают по проливу ночью с включёнными ходовыми огнями во избежание столкновений, ибо будем стремительно наращивать число рейсов, оборачиваемость судов, на фарватерах будет сплошное движение, и в зимних условиях, при пониженной видимости, недалеко до беды». Эта мера полностью исключила происшествия – у нас не было ни одного случая столкновения судов. В связи с усилившимися налётами вражеской авиации на малых высотах со штурмовками судов приказал: на дневное время выставлять вдоль фарватера Дамба – Опасное катера ПВО с автоматическими 37-миллиметровыми пушками. Приказал также: днём держать катера с дымаппаратурой вдоль фарватера и при первом же падении вражеских снарядов немедленно ставить дымзавесы, прикрывая суда и причалы, наблюдаемые противником.
Тем временем старший кок Маша пригласила к столу, и мне представился случай ещё раз высоко оценить её искусство. Отобедав с И. И. Тарапунько, мы вместе направились на самоходном понтоне с грузом на крымский берег – познакомиться с людьми, разгрузочно-погрузочными работами, а заодно на себе испытать удары авиации и артиллерии противника по нашим коммуникациям. И за этим дело не стало – мы испытали на себе все: и свист осколков, и фонтаны воды, обрушившейся на нас после разрывов снарядов и бомб невдалеке. Спрашиваю у командира понтона лейтенанта И. К. Исаева: «И частенько так?» – «Почти каждый день с хорошей видимостью». Исаев понравился мне – я приметил: не дрогнула у него рука, лежавшая на штурвале, при разрывах снарядов и бомб, а это признак выдержки, уверенно вёл он судно. Я взял себе на заметку этого человека – на будущее. Придёт время, и я представлю его за храбрость, проявленную на морском горячем фронте, и за наибольшее число огненных рейсов к ордену Красного Знамени, и он будет награждён им. Катера дымзавесчики поставили надёжною дымзавесу, а катера ПВО вели такой интенсивный огонь, что не позволили «мессершмитам» снижаться и штурмовать наши суда.
Нас встретили старморнач Керчь-Еникальского полуострова капитан-лейтенант Усатенко и старший комендант всех причалов в Крыму М. И. Приземный. Мы с Тарапунько приступили к работе: обошли причалы, присмотрелись к работе людей, поговорили с ними, выслушали их пожелания. Я вынес впечатление, что работа здесь спорится – чувствуется, что старморнач Федор Иванович Усатенко старается наладить дело по-новому: Приземный за эти два дня поработал хорошо. Ведь он только позавчера прибыл сюда. Провожая его, я вышел с ним из помещения и показал в сторону крымского берега, который как раз в этот момент бомбили вражеские самолёты: «Отправляйтесь туда на катере, приступайте к работе сей же час, жду от вас перелома в работе по ускорению разгрузки и погрузки, поднимайте армейских товарищей и своих комендантов причалов». Михаил Иванович знаком мне по Поти, он там отлично себя показал, работая на Севастополь. А сейчас он представил мне своих комендантов причалов: Н.C. Гальперина (хорошо мне известного по Одессе), К. И. Катаникова, Ю. Ю. Даркина, И. Н. Сагайдака, Андреева, Н. С. Загорулько, Т. В. Смеловенко, Ф. С. Мельника, В. Т. Овчинникова, М. А. Ананьева. Их задача: руководить разгрузкой судов и погрузкой на суда тяжелораненых и тары, особенно стреляных гильз от снарядов и патронов – это было настолько важным делом, что им занимались тогда все командующие армиями и фронтами, ибо по этой части было особое правительственное решение, от этого зависела работа оборонных заводов. И я заметил, что у причалов нет скоплений гильз.
Закончив работу на причалах, я направился на КП армии, представиться Петрову – тем более был наказ: прибыть по выздоровлении. Иван Ефимович хотя и строгий, и я бы даже сказал – жёсткий военачальник, но человечности у него хоть отбавляй, к тому же он хорошо воспитанный человек. Встретил меня радушно, как старого знакомого, сослуживца и подчинённого – тем более что наше первое знакомство состоялось и дальнейшее сближение продолжалось в экстремальных условиях, в обороне Одессы, а это незабываемо и накладывает отпечаток на всё дальнейшее поведение людей во взаимоотношениях. Вообще, людям, побывавшим вместе в сложных боевых ситуациях, свойственно влечение друг к другу и в последующем. И мы не исключение. Петров тепло и с благодарностью вспомнил последние часы своего пребывания на нашем ФКП в Одессе, эвакуацию армии и прощание на Платоновском молу, когда Кулишов и я проводили его и Крылова в Севастополь. Вспомнил он и мимолётную нашу встречу в крымских степях в октябре сорок первого.
Однако после воспоминаний Петров перешёл к делу. Он резко высказал своё неудовольствие работой переправы. Так и сказал:
– Армия поставлена в критическое положение. Нам нужно иметь про запас не один, а хотя бы три боекомплекта всех видов боеприпасов. Принятые Военсоветами армии и флота решения должны обеспечить перелом. Но основное: как будут работать экипажи судов. И в этом я возлагаю большие надежды на вас лично, памятуя ваш одесский опыт. Вам будет легче работаться, так как к вам идёт солидное пополнение от командования флотом; ведь у флота нет больше других забот, как переправа, для него его самая горячая точка приложения всех усилий, на других направлениях надводные силы сейчас не действуют, и мы ждём от моряков большего. Поэтому – 1200 тонн грузов в сутки не предел, заглядывайте вперёд, надо наверстать упущенное.
Петров непьющий, и мы за ужином только пригубили – с Новым годом. Дорого время командарма, да и моё, и долгое застолье недопустимо. И я заторопился к себе. От Глейки напрямую к Кордону Ильича на катере-охотнике – и через 12 минут я в своём штабе. И сразу же с Тарапунько и Липовским выехали в станицу Батарейка в тыл армии на планирование.
Генерал Пламеневский считает, что если каждый последующий день будет такое приращение перевозок, как последние два дня, то через полмесяца мы достигнем ежесуточной нормы в 1200 тонн.
Все эти дни я провожу на Дамбе, мы туда со Степанычем ездим на дню дважды. Не покидает мысль о цифре: 1200. Уже подошли обещанные буксиры и барки. Цифра реальная. Дело в людях – надо их поднимать. И я решил дойти до каждого человека. Провёл собрания личного состава, а с отсутствующими встретился отдельно. Внушил каждому: положение армии бедственное, люди тоже обеспокоены нашими просчётами. Даже заговорили о возможности превысить установленную норму. Но нашим мечтам предстояло горькое испытание. Это тебе не железная дорога. У морских коммуникаций много врагов: помимо авиации и артиллерии противника, стихия – штормы и лёд. Зима. И задули свирепые норд-осты с морозом. Малые суда часто становились на прикол. Азовское море бурное, а так как оно мелкое, то волна на нём короткая с опрокидывающейся верхушкой, гребень волны все время накрывает малые суда, нещадно их заливает, а при морозе, как сейчас, идёт обледенение. А Керченско-Еникальский пролив ещё хуже – это аэрогидродинамическая труба, да на мелководье. Малые суда в таком огромном количестве впервые в истории пролива работают здесь зимой. Мы ждали нашествия стихии, метеослужба своевременно предупредила нас о надвигающемся сильном норд-осте. Мы немедленно приостановили движение по проливу, приказали закрепить суда у тех причалов, где застала их непогода, и выставить вахту у швартовых тросов. И вовремя. Через 2 часа ветер – 26 метров, это 11 баллов. Из Азовского моря накатывались высокие и крутые волны, которые в проливе создавали ужасающую толчею. Сгрудившиеся борт о борт у причалов десятки судов бились друг о друга, трещали борта, появились вмятины, беспрерывно рвались концы – начтыла Коротков и начльник шкиперского отделения Марусидзе опустошили свои склады и доставили все свои тросы к причалам: менять швартовы.
Несмотря на предъявленные к личному составу высокие требования, дисциплина у нас еще была не на высоте. Служба на мотоботах оказалась несостоятельной – один мотобот ночью оторвало и понесло вместе с экипажем в юго-западном направлении. Обнаружили это позорное ЧП только под утро. Посылать в такой жестокий шторм корабли, искать его в кромешной тьме было невозможно и бессмысленно – можно было потерять еще больше людей и кораблей.
Много часов я просидел с операторами над картой гадая: заведется ли мотор на мотоботе, а может, его прибьет к острову-косе Тузла, который лежал на пути дрейфа мотобота; а вдруг его пронесет мимо острова, тогда все, конец – его выбросит на крымский берег, занятый противником. Это было бы невиданным доселе на флоте позорным событием, которым бы мы, моряки, и прежде всего я, ославились бы на все вооруженные силы – угодили бы в плен за здорово живешь!
Принимаю рискованное решение: с рассветом выслать на поиск два охотника из дивизиона капитана 3-го ранга Г. И. Гнатенко. Рисковал 44 воинами ради трех. С охотников пришло донесение: мотобот выброшен на остров. Это нам сильно повезло. По моей просьбе командир Керченской базы В. И. Рутковский выслал буксир из Тамани – благо, что это рядом – мотобот стянули и отбуксировали в Тамань. Пока снимали – улучшилась видимость, и противник батареями с мыса Ак-Бурну (это рядом) открыл огонь по острову и катерам.
Береговые батареи артдивизиона Н. В. Зиновьева открыли огонь по вражеским батареям и заставили их замолчать. Вот во что вылилось разгильдяйство одного-двух человек, обязанных наблюдать за швартовыми тросами и принимать незамедлительные меры к предотвращению ЧП.
И мне впервые на переправе пришлось применить власть и наложить строгие взыскания, с арестом на гауптвахте, как того, кто дежурил по подразделению, так и старшего из тех, кто безмятежно спал богатырским сном и плыл в плен, проснувшись лишь от толчков о берег острова.
Старморначу, моему штабу и политотделу, мне лично это послужило хорошим уроком: надо было немедленно, вслед за проявленной заботой о горячем питании, теплой одежде и хорошей бане, целеустремлённой политработой и строгой взыскательностью – крепить дисциплину и организацию службы, покончить с разгильдяйством.
Потребовалось внушить, что непозволительно упиваться заслугами и успехами в блестяще проведенной флотом десантной операции по высадке войск на Керчь-Еникальский полуостров и допускать послабления в дисциплине, что без укрепления порядка на переправе не будет успехов в боевых действиях по обеспечению армии всем необходимым, а это сведёт на нет всё хорошее в десантной операции. Мне и политотделу во главе с Дворяненко пришлось теперь уже браться не только за тыловые вопросы и организацию перевозок, но и за дисциплину. А это оказалось намного сложнее и потребовало больших наших усилий.
В результате жестокого и многодневного шторма у нас выбросило девять судов на берег, к нашему счастью на песчаный. Вот тут, при всей моей строгости, я не бросил ни одного слова упрёка ни одному своему подчинённому, потому что сам видел героическую борьбу людей, многие из которых получили ранения. Тут стихия взяла верх над человеческими возможностями. Больше того – отличившиеся были отмечены похвалой. Как только стихло, с помощью тракторов и заведённых блоков на мёртвые якоря все суда в один день были стянуты на воду и введены в строй. За это люди были удостоены похвалы, были взяты на учёт для будущего представления к правительственным наградам.
Так как весь пролив был заминирован, плавали мы строго по фарватерам. От нас требовалось повышенное внимание к противоминной безопасности. Шторм на мелководье срывает мины, и они всплывают и дрейфуют, оставаясь опасными для судов. Необходимо было осматривать фарватеры и всплывшие мины подрывать. Волна может вызывать подвижку якорных мин – они могут оказаться на фарватерах, требовалось постоянное разведтраление на фарватерах. Я приказал штабу систематически осматривать и тралить фарватеры, а после шторма, перед возобновлением движения судов, всеми наличными катерными тральщиками производить разведтраление всех фарватеров. Это обеспечило нам полную безопасность.
Первым новогодним приказом командующий Азовской флотилией объявил новую организацию Керченской переправы и произвёл назначения всех её должностных лиц. А Военсовет флота решением номер один узаконил эту организацию, утвердив структуру переправы по штатам военно-морской базы, с управлением около двухсот человек. Конечно, с таким управлением, имевшим все флотские службы, мне работалось легче, чем моему предшественнику. Но этим решением мне приказывалось довести перевозки уже 1600 тонн в сутки, и это-то в зимних штормовых условиях. О такой норме не мечтал даже командарм. А комфлот Владимирский звонил мне – не приказывал, а высказал пожелание с учетом штормов: надо бы в январе перевезти тысяч сорок тонн грузов. Я молча принял эту цифру, не будучи уверен в её выполнении, так как в тот день наши люди руками и зубами (если можно так выразиться) держались за причалы, чтобы суда не оторвало и не унесло ветром к берегам противника. Генерал Хилинский рассказывал мне, что командарм Петров, прочтя это решение и не снимая своих претензий к флоту, выразил удовлетворение намерениями моряков. Комфлота правильно поступил, избрав Темрюк для своего КП – на главном направлении основных действий Черноморского флота.
Да, наша Керченская переправа в первые три месяца сорок четвертого года – это не только морской горячий фронт нашего плацдарма в Крыму, на который противник обрушил свою мощь для срыва коммуникаций с целью подорвать боеспособность Приморской армии, но это и главное направление для боевых действий Черноморского флота. Для него в эти месяцы не было ничего более важного, чем переправа, которая нуждалась не только в крепком руководстве, но и в лучшем обустройстве, оборудовании и обеспечении со стороны всех служб флота в целом (а не только флотилии), сама она не в состоянии была поднять такое большое дело, как организация мощной морской коммуникации через пролив – не было у неё достаточно сил, средств и кадров.
Волею судеб и я был привлечён к этому большому делу – возглавить соединение, действующее на основном направлении приложения усилий флота в данный момент. И я постоянно буду благодарить Л. А. Владимирского, И. В. Рогова, Н. М. Кулакова и прежде всего Ивана Ефимовича Петрова за то, что они выдернули меня из тихого, теперь уже тылового Бердянска и привлекли к горячим делам на помощь армии, с именем которой я связал свою судьбу еще в Одессе в первые месяцы войны. Там и здесь – снова с Петровым рядом. Наши КП стоят прямо друг против друга, разделённые узким проливом. А говорите, что истории не повторяются, ещё как повторяются, повторяются в ином качестве.
Врачи уложили Горшкова в Ейский госпиталь. И во временное командование флотилией вступил контр-адмирал Г. Н. Холостяков – сосед, командир Новороссийской военно-морской базы. Видно, флотское руководство посчитало, что начштаба флотилии Свердлов не потянет то большое дело, которое было возложено на флотилию по коммуникациям и предстоящим десантам, и пошло на необычное решение вразрез с условиями. Тут было учтено и мнение командарма Петрова. Это была правильная мера, направленная на исправление положения. Георгий Никитович Холостяков, боевой, храбрый, знающий и опытный военачальник, участник обороны и освобождения Новороссийска, герой Малой земли, позже Герой Советского Союза. Хотя на первых порах он встретится с затруднениями, в отличие от начштаба, у него уйдет много суток на ознакомление с флотилией, её людьми и её делами.
Вот поэтому и Военсовет флота прочно обосновался на флотилии, действующей на главном направлении усилий флота. Мне лично нравится, что комфлот, член Военсовета, а с ними и начальник Главполитуправления ВМФ, не полагаясь только на данные Холостякова, не возвратились в Геленджик, чтобы оттуда управлять боевыми действиями флота в Керченском проливе, а наоборот, стали укреплять свой ФКИ в Темрюке, подтянув его к сухопутному фронту и вплотную к морскому фронту Керченского плацдарма. Теперь уже отсюда Военсовет тянет с флота всё необходимое для Керченской переправы. Наштафлота Елисеев, находясь на Кавказе, поторапливает всех с отправкой – это он форсировал присылку на переправу большого количества судов в эти дни. А давалось это не легко: и разбросанность флотских тылов и служб по всему Кавказскому побережью от Тамани до Батуми, в десяти пунктах базирования, с удалением до 600 километров, и возможности флота оказались ограниченными – силёнок поубавилось. Флот и пароходство в боях за четыре черноморских города-героя, за Кавказ и Крым – в многочисленных десантах, на коммуникациях и в артподдержке армии понесли большие и невосполнимые потери: за войну мы смогли достроить и ввести в строй только два эсминца и получили по железной дороге два десятка мелких судов, а потеряли около сотни.
В Темрюке при комфлоте находилась большая опергруппа штаба флота из наиболее сильных офицеров-операторов: П. Мельников, Ю. Ковель, И. Дышлевой, П. Уткин, В. Ерещенко, С. Хонес. Они часто приезжали к нам на переправу для оказания помощи в налаживании оперативной и службы по боевому обеспечению. Особенно подолгу задерживался у нас Юрий Петрович Ковель, ведь он флагштурман флота и требовал от гидрографов наилучшего обеспечения безопасности плавания многочисленных судов в стеснённых условиях при пониженной видимости. Мы обязаны ему тем, что у нас не было ни одного случая столкновения судов.
Военсовет флота не только прислал нам дополнительные силы и средства – буксиры, барки, сейнеры, – но и дал много кадров и распорядился направлять нам с флота боевое и материальное обеспечение всех видов как для людей, так и для базирования и ремонта судов, приказал наращивать береговую артиллерию для контрбатарейной борьбы в целях недопущения артобстрела противником наших причалов и судов. А для лучшего оперативного руководства всем этим и высвобождения лично меня от многочисленных тыловых работ Военсовет флота вызвал к себе в Темрюк и на переправу всех начальников управлений, отделов и служб флота. Все они побывали у меня, на причалах и судах, на обоих берегах, некоторые просто поселились у нас, горячо взялись за свои дела по своей специальности и подтягивали с Кавказского побережья всё необходимое для переправы.
Все эти флотские руководители, мои бывшие сослуживцы, а со многими из них я просто дружил, мы быстро находили общий язык в любом сложном деле. Их работа благотворно повлияла на боевую деятельность нашего соединения, освободила меня от многих забот и способствовала всему успеху дела питания Приморской армии. До сих пор я с благодарностью вспоминаю всех этих старательных людей – моих соратников и товарищей по совместной борьбе с врагом.
Фактически к началу января в Темрюке и на Керченской переправе было сконцентрировано все управление флотом в интересах боевой деятельности в Керченском проливе. Но каким бы полезным и приятным ни было внимание к нашему соединению и помощь ему, такой отрыв командования флотом и его управлений от мест базирования его основных сил можно оправдать и объяснить. Сколачивалась Керченская переправа, ее командир нуждался в ежедневном общении со старшим для разрешения сложных вопросов. Скоро придёт время, когда сам старший увидит, что младший тяготится длительной заботой, превратившейся в опеку. Сейчас близость командования флота и его управлений к проливу была крайне необходима (пока шло организационное и боевое сколачивание переправы). И я хочу добрым словом помянуть тех людей, которые приложили огромные усилия в этом сколачивании.
Начальник оргмоботдела штаба флота Владимир Иванович Никитин и начальник оргмоботдела флотилии М. И. Перебасов создали стройную структуру и удовлетворяющие нас штаты переправы, а до этого побывали у нас, присмотрелись к нашей работе, побеседовали с нами и уж потом доложили командованию флота и флотилией штаты на утверждение. Начальник отдела офицерских кадров флота Гавриил Акимович Коновалов с начальником отдела кадров флотилии В. Л. Ильичом, его помощниками Ф. П. Евсеевым и Т. Д. Григорьевым и кадровиком переправы Ф. Н. Сологубом за неделю укомплектовали переправу. К нам прибыли заместитель начальника тыла флота генерал Е. И. Жидилов с начальником тыла флотилии полковником П. И. Миньковским и полностью сняли с меня тыловые вопросы. А начальник техотдела флота С. И. Ставровский и инженер-механик флотилии А. А. Бахмутов и И. Ф. Бодрягин просто поселились на переправе, возглавив ремонт кораблей и судов, объём которого был неимоверно велик, ибо снаряды, бомбы и шторм делали свое дело. Тем временем я убедился, что навигационно-гидрографическое обеспечение в наших зимних, штормовых условиях, в тумане полностью гарантирует безопасность плавания по фарватерам, и хотя наш начальник гидрографической службы капитан 3-го ранга И. П. Алдохин старался, у него не всё получалось, не хватало надёжных средств: надёжных буёв, более ярких створных огней. И к нам на помощь приехали руководители гидрографии флота и флотилии А. В. Солодунов, В. Н. Козицкий, А. Д. Николаев, Б. Д. Слободник с полным набором техники, и наши мореплаватели возрадовались – стало в непогоду легче плавать. Это подтвердили мне и лоцманы Абрамов, Соколов, Тендин, которым я поручил проверить и на ходу принять всю систему навигационного обеспечения. Приехали начальник инженерной службы флота Панов и флотилии Кульбяков и вместе со своим армейским коллегой генералом Пилипцом возглавили работы по сооружению новых причалов и береговых бытовых построек, чтобы матросы-катерники могли по-человечески отдыхать. И тут большой объём работ лёг на начальника 9-го строительного управления П. Н. Артемьева, которого подчинили мне, и его помощников Р. В. Чистякова, И. М. Килевника.
Условия для боевой деятельности переправы улучшались с каждым днём в обеспечении, а вот зима начинала себя давать знать и донимали вражеские самолёты и артиллерия, и потери нарастали.
Вечером 4 января нас постигло большое несчастье.
Я работал с начальником политотдела переправы С. И. Дворяненко в его хате, которая находилась от моей метрах в полутораста. Ко мне приехал начальник Военно-транспортной службы флота П. П. Романов для оказания помощи в лучшей организации перевозок. Я прервал работу в политотделе, чтобы продолжить её после ужина. И с Романовым мы уединились у меня. Закончив деловую беседу, мы предались воспоминаниям о совместной защите Одессы, там он был комендантом порта. Нам было что вспомнить и по Поти, когда мы питали Севастополь. Только мы сели поужинать и отметить приятную встречу фронтовой чаркой – входит незнакомый мне капитан 1-го ранга и представляется: «Матушкин Алексей Алексеевич, вновь назначенный член Военсовета флотилии; я на минутку, заходите после ужина в политотдел, поговорим». И повернулся уходить. Но мы вдвоём подступились: ни в коем случае, вот так сразу и такие встречи полагается хотя бы скромненько, но отметить. И буквально силой его усадили за стол. Только опустошили чарки, раздался гром зенитно-артиллерийских залпов и свист многочисленных бомб – наш Кордон подвергся массированной бомбёжке. Рядом раздался сильный взрыв, под нами закачалась земля, зазвенели стёкла, посыпалась штукатурка, взрывной волной сорвало двери моей комнаты и бросило на нас, и мы повалились. Придя в себя, выскочили во двор. Там, где стояла хатка политотдела, ничего не осталось, а стоявшая рядом автомашина с киноустановкой пылала ярким факелом. Мы бросились туда – прямое попадание в хату. Погиб начальник политотдела С. И. Дворяненко и многие его работники, в том числе В. П. Беляев, Я. С. Медведев, Ф. Л. Коньков, а остальные были тяжело ранены. Это была большая потеря для всей переправы, так как политотдел не только идейно вдохновлял воинов на выполнение боевой задачи, но и оперативно решал задачи обеспечения быта моряков. Неделю я поработал с Дворяненко, а казалось, мы друзья с далёкого прошлого.
Сидор Ильич, человек сердечный, большой открытости души, величайшей оперативности в работе и всегда в гуще рядовых бойцов. Ему переправа во многом обязана хорошим началом работы. Я потерял хорошего помощника и друга. Потому и память о нём сохраню до конца своих дней, как о политработнике фурмановского типа.
Наутро мне представился новый начальник политотдела переправы – подполковник В. Г. Казачёк. Достойная замена погибшего. Узнав, что я очень скорблю по поводу гибели Сидора Ильича Дворяненко, по человеку высокого благородства, большого трудолюбия, необычайной храбрости, Владимир Георгиевич Казачёк, во многом схожий со своим предшественником, мудро продолжил его линию, во многом подражал ему – его методам и стилю в работе.
К нам прибыли уже все обещанные Владимирским и Горшковым очень нужные в наших условиях суда – буксиры и баржи – без них никак не выполнить нам планов командарма.
У нас было два парома большой грузоподъёмности – до 100 тонн – это сущая находка для переправы: на них уставлялись танки, орудия, автомашины, пусковые ракетные установки, но их буксировали слабосильные катера, получалась слабая оборачиваемость. А теперь первый паром водил мощный ледокольный буксир, с красивым названием «Фанагория», которым командовал Степан Иванович Ершов. Второй паром водил сильный и юркий буксир «Сиваш» (он до сих нор в строю), им командовал опытнейший мореход Павел Иванович Овчинников, помощником у него был И. Руденко, механиком – П. И. Пантелеев, а его помощником – Цамая, матросом был Л. Грань: команда крохотная, но все как на подбор. Умельцы плавали круглосуточно, а отдыхали урывками, как положено на фронте в непрерывных боях. Раньше паромы делали три рейса, а сейчас семь рейсов за сутки. За первые две недели мы перевезли всю скопившуюся боевую технику, а затем они одни начнут перевозить за сутки более четырёхсот тонн грузов.
Большой грузоподъёмностью обладали баржи, их стало у нас десять. Их шкипера – это «просмоленные» марсофалы, почти все в годах: A.Д. Дудников, И. И. Погорелов, А. В. Бобылев, А. М. Шилов, Т. Г. Ахмердиев, С. М. Стаковский, Гумешок, а Спиридон Петрович Балакло просто годился мне в отцы, рождения аж 1888 года, прямо-таки патриарх на переправе – таких и не призывали на войну: он пошёл со своей баржей в наше пекло сражаться за Родину, и за это по моему представлению он был удостоен высокой боевой награды. На барже «Тверь» воевала матросом уже немолодая Анастасия Денисовна Погорелова, родственница шкипера, а ещё старше её там же был матрос М. И. Солодов – оба за храбрость, вместе со шкипером Н. И. Погореловым, были удостоены высоких боевых наград. Эти баржи водили буксиры, которыми командовали И. Б. Цоппа, И. Е. Дема, В. В. Косяченко, Авраменко и другой патриарх, рождения 1888 года, Демьян Никитович Прошечкин – капитан буксира «Медик». А командовали отрядом буксиров и барж капитан-лейтенант А. С. Колесников и его помощник лейтенант Г. И. Акулов.
Большими тружениками на переправе оказались рыбацкие сейнеры, которыми командовал капитан-лейтенант Д. Р. Микеберидзе, и рыбацкие дубки – крупные беспалубные шлюпки, на них в довоенное время таманцы возили через пролив в Керчь на рынок дары полей Кубани – арбузы и дыни; а сейчас те и другие перевозили боеприпасы для армии, и на них особенно отличились шкипера В. П. Мордовин и П. И. Петрушенко, награждённые орденом Красной Звезды.
На всех этих средствах экипажи состояли из гражданских лиц; они пришли к нам воевать на передовую морского фронта Керченского плацдарма по велению сердца. Я всегда восторгался, как они старательно выполняли задания военного командования, самозабвенно трудились круглосуточно. При этом надо помнить, что и погрузка, и выгрузка, и переходы проходили под непрерывными ударами вражеской авиации и артиллерии. Василий Иванович Дудков был награждён орденом Красного Знамени, он крепко уже повоевал за Одессу, Очаков, Тендру, Керчь, Новороссийск. Не отставал от него и лоцман Я. Ф. Пшеничный, доставивший по назначению без потерь все доверенные ему суда.
Самыми мобильными средствами у нас оказались самоходные понтоны – они перевозили боевую технику и крупногабаритные грузы, и каждый мог поднять до 60 тонн. Среди их командиров выделялись Исаев, Лопатенко, Попов. Им была установлена норма оборачиваемости – 5 рейсов в день. А стоило было поднажать на организацию погрузки и разгрузки, они довели до 10 рейсов в сутки, – отдыхали во время сорокаминутной стоянки при погрузке, под разрывами снарядов и бомб. За каждый сверхнормативный рейс полагалась премия командарма – 1000 рублей. И тут понтон номер пять лейтенанта Ивана Кузьмича Исаева (помощником у него был мичман Ермаков) начал прямо-таки творить чудеса: довёл до 12 рейсов, а вскоре и до 15. За ним потянулись и другие. Захотелось мне поскорее дотянуть их до Исаева.
Решил день провести сперва на Дамбе – улучшить погрузку понтонов, а потом пошёл в Опасное (на Крымском берегу) на понтоне номер три, которым командовал старшина 1-й статьи Попов: посмотреть, на себе испытать, как люди выдерживают вот эти десятки дневных рейсов туда и обратно под ударами снарядов и бомб, причём ежедневно, постоянно, непрерывно. Нервно-психическое напряжение пошёл снимать, может, и недозволенным способом – второй чаркой. Но прежде, чем решиться на такое «беззаконие», надо было всё взвесить, на себе проверить. Пошли. На палубе танк и 30 минут хода. И хотя нас прикрывала дымзавеса, поставленная катером, в ней были просветы, да и фарватер противник давно пристрелял и вёл огонь и прицельно, и по площадям. Это был не просто переход, а огненный рейс сквозь строй свечей всплёсков от разрывов снарядов и бомб. Помимо постоянных бомбёжек переправы сегодня суда на переходе штурмовали вражеские истребители – «мессершмиты» – к счастью, ни одного прямого попадания, а пробоины от осколков, это у нас не в счёт.
На том наши беды не кончились. Мы подошли к пристани Опасное, это рядом с древней крепостью Еникале, где сейчас поселок Сипягино, и попали под артналёт противника. Видно, водитель танка был настолько ошеломлён этим морским огненным переходом, что потерял ориентировку и при разгрузке вместо переднего дал задний ход, танк свалился в воду, и танкист погиб. Пока я организовывал водолазов для заводки подъёмных тросов, очередным разрывом снаряда был убит командир понтона Попов – храбрый и умный воин и судоводитель, не уступавший в вождении судна офицерам. За день, даже за час, столько ошеломляющих событий. Вот такой была наша Керченская переправа каждый день в январе, феврале, марте 44-го. Здесь здорово гуляла «курносая, безглазая, с косой».
Обратно я возвращался на понтоне номер два лейтенанта О. Н. Лопатенко. И всё повторилось на переходе вновь, а Дамбу, которую непрерывно прикрывали дымзавесой, противник обстреливал по площадям.
Так как понтонисты больше всего были под ударами на переходах, я принял твёрдое решение: чтобы снять сверхчеловеческое психическое перенапряжение, выдавать личному составу понтонов вторую чарку водки за одиннадцатый рейс. Пригласил врача А. Ф. Петрушкова, начтыла Короткова и начпрода Натарова для отдачи приказания. Первым зароптал доктор:
– Как бы не было многовато.
– Советую выпить чарку, и на понтон, к концу похода вам выбьет весь хмель в этой обстановке, да на морозном ветру с водой, – и рассказал о моём походе на понтоне. И доктор сник.
Коротков и Натаров стояли на своём:
– Всыплют нам за перерасход спиртного.
– Попадёт мне, а не вам, получайте письменное приказание, – и вручил им записку, – и не забывайте, что командарм в лучшие дни только одному понтону выдаёт 10 тысяч премиальных, к тому же я имею сведения, что в чрезвычайных обстоятельствах на фронте командиры иногда выдают вторую чарку, а у нас не каждый день получается одиннадцать рейсов, и в штормовые дни не будет полагаться. И ещё одно. Отныне Машу освободить от приготовления пищи и поручить ей кормить экипажи понтонов и паромов прямо на Дамбе, по мере их подхода и в ходе короткой стоянки, и чтобы с полной сервировкой стола, как в офицерской кают-компании. И при круглосуточных боевых походах обеспечить четырёхкратное горячее питание с ночным ужином, как на кораблях в походах.
Врач Петрушков действительно, выполняя мой совет и по делам медицины, ходил на тот берег и как раз на понтоне и попал в перепалку, после чего пришёл ко мне и сокрушался: до чего же тяжело на том фарватере плавать, особенно если в светлые часы суток 16 раз туда и обратно, да ежедневно, да с боеприпасами на борту. Это хорошая примета, что доктор сдался. Но этого, как покажет время, было совершенно недостаточно. Коротков и Натаров превзошли самих себя.
Поставили на Дамбе стол со скамьями и сделали навес от непогоды. Пригласили меня. Пришла Маша с матросом – они принесли вёдра, кастрюли, посуду. Сперва накрыла стол клеёнкой, а потом… я аж ахнул – покрыла скатертью, расставила тарелки, разложила вилки и ножи. Подошёл очередной понтон и матросы – сразу к столу. «Стоп! – скомандовала Маша и показала на ведро с водой: – помыть ручки и за стол». Поставила дымящийся бачок с первым, закуску-сельдь и графин с водкой. Полчаса – и в новый поход-прорыв. Пусть обстановка – обстрелы, бомбёжки и штурмовки – срывала частенько такой роскошный сервис, но, как правило, Маша строго этого придерживалась. Что сказывалось на настроении людей.
Я сознательно пошёл на выдачу второй чарки понтонистам за одиннадцатый рейс, это беззаконие и нарушение приказа (и мне это потом припомнили), которым юридически нет прощения, морально оправдаешь с натяжкой, а вот психологически – полностью. Конечно, наш доблестный воин сражался за Родину, не думая о наградах, деньгах и водке, но и это нельзя сбрасывать со счетов полностью.
Человек есть человек со всеми своими добродетелями, благородством, высокой нравственностью, но и со своими слабостями; хотя психическое возбуждённое состояние не отнесёшь к моральной слабости, это сложный мир ощущений, в который наука ещё и не проникла глубоко. И приходится эти психические катаклизмы в чрезвычайных обстоятельствах погашать теми подручными средствами, что имеются у тебя под рукой во имя высших целей, поступаться частным, чтобы выиграло общее большое дело, имея в виду, что эта мера временная. Всех, кто со мной не согласен, всех моих оппонентов приглашаю хотя бы мысленно пройтись под ударами на понтоне, сидя на ящике со снарядами, десяток раз по маршруту Дамба – Опасное; и я думаю, поубавиться желающих поскалозубить по поводу второй чарки.
И всё-таки эта история имеет два продолжения.
Начальник политотдела Казачёк показал мне политдонесение замполита коменданта причалов косы Чушка, в котором он осуждает вторую чарку. Примечательно – пишет не замполит плавсредств, который часто ходит на судах, а тот, кто сидит на земле, и я посоветовал Казачку порекомендовать этому политработнику сходить в Крым для обмена опытом, именно на понтонах. Говорили, что он уклонился от этого, но разговоры о вреде второй чарке прекратил.
А вот по служебной линии я всё-таки схлопотал себе в приказе по флоту (по докладу ревизора госконтроля) выговор за эту чарку. Правда, одновременно с вручением мне ордена Красного Знамени за успешные боевые действия Керченской переправы по перевозке и питанию Отдельной Приморской армии в канун её наступления на Керчь, Феодосию, Ялту, Симферополь и Севастополь.
А сейчас я вспоминаю этот мой психологический приём, ибо он удачно пошёл на пользу нашего общего дела. (Тем более что сам я ко второй чарке не прикладывался.) Бывший офицер-оператор штаба переправы К. Х. Гафин пишет мне, что Исаев, Ермаков и вообще команда понтона номер пять была малопьющая и у них всегда был резерв. Когда сильно штормило, перевозки прекращались, к Исаеву частили с визитами вежливости и с поздравлениями с успехами, ну а в таких случаях у всех народов планеты не обходилось без возлияний, а в данном случае на законном основании.
Большую часть грузов перевезли тендера и мотоботы. Тендера – это исторические суда: прибыли к нам с «Дороги жизни» Ладожского озера. Это грубо сработанные в Ленинграде на скорую руку коробки для перевозки в блокадный Ленинград продовольствия и боеприпасов! Они входили в состав Ладожской флотилии, которой командовал контр-адмирал В. С. Чероков, – они сплошным потоком сновали по озеру, спасая ленинградцев от голодной смерти. После снятия блокады Ленинграда часть из них доставили по железной дороге к нам. Каждый тендер поднимал 15–25 тонн груза или 50–70 человек. На переправе их было более 20 единиц, введенных в дивизион, которым командовал капитан-лейтенант К. С. Иващенко, а замполитом был A.M. Тверской. Экипажи тендеров – героические люди: много раз они смотрели смерти в глаза; претерпели жесточайшие шторма, постоянно под ударами авиации и артиллерии; а так как они ходили в самые горячие точки боёв с врагом, то испытали на себе и миномётный, и ружейно-пулемётный огонь врага. Да что там говорить: на тендерах малодушным нет места.
Мотоботы – ещё меньшие судёнышки; их было у нас около двадцати. Командовали дивизионом и отрядами офицеры Ф. И. Усатенко, В. А. Попов, М. Л. Остренко, Н. Н. Серков, Г. Жук, Г. Балимов. Каждый мотобот поднимал 6 тонн груза. На них такой же героический народ, что и на тендерах. В штормовую погоду им крепко доставалось. Тендерами и мотоботами командовали старшины, хорошо ориентирующиеся в сложной минно-навигационной обстановке пролива. Это были очень маневренные средства, они делали до 10 и более рейсов в сутки.
Кроме сил и средств для перевозки войск и грузов переправа имела боевые корабли. Нам сильно досаждали мины, которые штормом срывало или которые вместе с якорями дрейфовали на фарватеры, приходилось производить непрерывное разведтраление фарватеров. Для этого у нас были тральщики, которыми командовали капитан-лейтенант И. Г. Черняк, старший лейтенант Орлов, лейтенант А. А. Елисеев. Они полностью обеспечили нам безопасность плавания. Этим сложным делом руководили капитан-лейтенанты В. В. Иванчик и С. П. Богданов. В состав переправы были включены для прикрытия её оперативной зоны 6-й дивизион малых охотников капитана 3-го ранга Г. И. Гнатенко, бронекатера под командованием капитан-лейтенанта В. И. Лачевского и торпедные катера. Они несли дозоры и состояли в дежурстве: мы были гарантированы от внезапного нападения вражеских кораблей на суда, перевозящие грузы.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
1
Центральный военно-морской архив (далее – ЦВМА). Ф. 10. Д. 18299. Л. 1–8.
2
ЦВМА. Ф. 175. Д. 10726. Л. 98.
3
Генерал армии А. И. Антонов – заместитель начальника Генерального штаба.
4
Штеменко С. М. Генеральный штаб в годы войны. Книга первая.
5
Так как командарм Петров своим приказом 33 главную задачу момента – переправу войск, боеприпасов, оружия, грузов через пролив – возложил на флотилию, он и слышать не хотел, чтобы эта задача перекладывалась на самостоятельное соединение.
6
Военно-исторический журнал. 1962. № 7. С. 65.
7
ЦВМА. Ф. 10. Д. 18299. Л. 1–8.