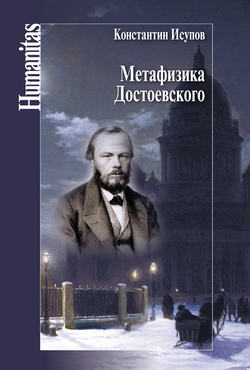Читать книгу Метафизика Достоевского - Константин Исупов - Страница 4
Глава 1
Метафизика Достоевского (онтология и теология)
Метафизика внутреннего человека
ОглавлениеОнтологический план в текстах Достоевского (картины мира с ее хронотопами; поэтика вещи, ландшафта и города; внешность и вся материальная утварь обстояния героя) поддается конкретному анализу.
Но когда речь заходит о ландшафтах сознания, о горизонте видения героя, о природе самосознающего «я», т. е. о структурах внутреннего человека и о наличии в его самосознании мыслительной драматургии, – начинаются сложности, никакой филологией не одолимые.
Дело аналитика и просто читателя безмерно усложняется, когда возникает вопрос о специфической авторской «терминологии», которая не проходит «по ведомству» какой-либо науки, да и не претендует на то.
Зато возможен обратный процесс – психология и теория творчества охотно заимствуют авторские термины-метафоры, несущие соблазн самообъяснения; такова, например, судьба формул «реалист в высшем смысле», «красота спасет мир» (ее хронически приписывают автору, а не герою) или пришвинского выражения «творческое поведение».
Приведем пример метафизического затруднения в комментарии работы понятия применительно к Достоевскому.
Есть в его антропологическом обиходе популярное словечко «всечеловек» (иронический перевертыш – «общечеловек» позитивистов).
Позитивно мыслящий логик скажет: это родовое имя для обозначения видового. Философ-антрополог добавит: это словесная маркировка общечеловеческого в рамках личности.
Но метафизик будет утверждать, что писатель имел в виду тот тип мистической коллективности, что еще называют единомножественным Собором, или Богочеловечеством, конкретно-зримым свидетельством какового является каждое человеческое лицо в его уникальности и в его причастности общей исторической жизни.
А Достоевский не логически-дефинитивно предъявил, а показал лик всечеловека (соборного существа и живой образ Богочеловечества) как органическую «сумму» всех лиц. Раскольников, взглянув на Сонечку, «вдруг, в ее лице, как бы увидел лицо Лизаветы» (6,315). Весьма вероятно, что, по прямому воздействию интегрирующей метафизики лица у Достоевского, другой писатель записал в дневнике: «Хожу по земле, гляжу на людей и вижу у каждого вокруг лица, как у святого, нимб, то покажется, то исчезнет. И каждый, делая что-то хорошее для нас, не знает, что делает все в нимбе всего человека, и только чувствует перемену в себе, когда нимб исчезает или сияет вокруг него»[15].
Наследников нашего писателя излишне было убеждать в исключительности его метафизического опыта и опыта его героев. Все филиации неокантианства, экзистенциализма, фрейдизма, персонализма, герменевтики и философской антропологии в той или иной мере обязаны Достоевскому.
Если читатель простит нам навязчивое цитирование, напомним несколько красноречивых эпизодов из истории рецепций Достоевского-метафизика за последнее столетие.
Граф Н.Д. Татищев (1902–1986), выпускник Пушкинского лицея (1917), поэт, писатель-эмигрант (с ноября 1920 г.) и критик, в очерке «Россия 1973 г.» рассказывает о встрече в ярославском музее (бывшем имении Татищевых) со своим гимназическим учителем, глубоким стариком, который, представившись Аркадием Семеновичем, «одним из заведующих этим музеем», дарит автору книгу М. Бахтина «Проблемы поэтики Достоевского» (М., 1963) и советует «читать со страницы 32-й. «Там говорится про этапы диалектического развития духа. Главных, по Бахтину, три. Они образуют единый путь, по которому среди мучений и опасностей проходит человеческая жизнь. Верхний пласт – это Среда, или сословие, или каста. <…> Второй пласт – Почва, национальность, историческая традиция. Третий пласт – Земля. Это самое глубокое у Достоевского. Та Земля, которая от детей не рознится. Это высшая реальность, и ее нельзя потерять. Здесь царство свободы, вечной радости и, конечно, любви. Основные темы книг Достоевского располагаются по этим планам.
– Я не совсем понимаю разницу между почвой и землей, – говорю я.
– Это различие – основное открытие Достоевского. Свидригайлов и Ставрогин пребывают в почве чувственности и не могут понять Землю. Алексей Карамазов и Зосима преодолели страсть и вступили сознательно в область любви. Или в свободу, в понимании себя и всякого человека…»[16] Н.Д. Татищев, которому на момент встречи уже за восемьдесят, или что-то путает, или фальсифицирует: «Аркадием Семеновичем», да еще с книгой М. Бахтина в руках, может быть только Аркадий Семенович Долинин, который умер в 1968 г. в Ленинграде, за пять лет до описанной Н. Татищевым встречи. В Ярославле он в школьные годы графа не учительствовал. Рассуждения о среде, почве и земле принадлежат не апокрифическому «А.С. Долинину», а Б.М. Энгельгардту в знаменитой статье «Идеологический роман Достоевского», каковая напечатана во втором выпуске двухтомного сборника «Ф.М. Достоевский. Статьи и материалы» под редакцией А.С. Долинина (М.; Л., 1924). С ним и полемизирует Бахтин на той самой 32-й странице. Слова, выделенные нами в цитате подчеркиванием, принадлежат Энгельгардту, а курсивом – Бахтину, излагающему концепцию оппонента. Вывод же самого М. Бахтина, как известно, прямо противоположен гегельянской схеме Энгельгардта: «Ни в одном из романов Достоевского нет диалектического становления единого духа»[17].
Дело не в литературоведческой галлюцинации Н.Д. Татищева (или эстетской игре в нее), а в той читательской привычке, наблюдаемой в бытовых областях философской культуры, с какой прямые наследники Достоевского стали смотреть на мир и на поступки героев-визионеров. «Аркадий Семенович» говорит напоследок: «Землю нельзя объяснить логикой, Земля ничего не пытается объяснить, она только помогает уму упразднить ум. Не существует метода для озарений такого рода, но раз вступив на этот путь, уже нельзя сойти с него. Земля вас захватила и уже не отпустит. Бессознательно это происходит со всяким, а сознательно тоже со всяким, в особенности в старости и особенно, когда пришла смерть»[18].
Онтологическая триада Достоевского: «“среда” (мир механической причинности) / “почва” (органика народного духа) / “земля” (высшая реальность подлинной свободы)» – в гегельянской трактовке Б.М. Энгельгардта усложнена следующим поколением читателей софиологическими акцентами: «Бытие как бы разбито для Достоевского на три уровня: эгоистически-бесструктурная “среда”, сохранившая софийную зависимость “почва” и сама София – “земля”»[19].
В рассуждениях старшего современника С.С. Аверинцева метафизика Достоевского артикулирована в вольных терминах трансфизической феноменологии и авторской концепции экзистенциального прорыва бытия усилием интуиции. Г.С. Померанц показывает «три уровня» (опять – три!) «приближения к вечности, или к глубине, или к Богу. Первый – это невозможность жить в мире разума без прикосновения к сверхразумному. <…> Кьеркегор не мог жить в мире гегелевского разума. Иов не мог жить в мире богословского разума. Лев Шестов не мог жить ни в мире ученых, ни в мире философов, ни в мире богословов. <…> Второй уровень – неожиданное взрывное чувство сверхразумной реальности (указаны чань-буддизм; индуизм (путь бхакти), суфизм; созерцательные практики йоги и исихазма. – К.И.). Третий уровень – устойчивый контекст со сверхразумным, божественным, парение в духе. Без всяких путей. Без всяких вопросов. <…> В русской литературе достигнут только первый и второй уровень»[20].
В Г.С. Померанце говорит поколение пятидесятых, которое училось у Достоевского выскальзыванию из (социального) бытия в пользу метафизических путей приближения к нему и обретения его сущности в новой онтологической конструкции.
Промежуточной фигурой в процессе ученического обретения новой оптики можно назвать Ж. Батая (1897–1962), выпустившего в 1943 (!) году книгу с названием, как если бы ее писал Homo interior Августиновой «Исповеди» – «Внутренний опыт»; в ответ на милый совет друга-писателя, в котором явно прозвучала «цитата» из Достоевского («Бланшо спросил меня: почему не вести внутренний опыт так, словно я был последним человеком?»), Батай ответил репликами, которые могли бы стать эпиграфом для всей философии диалога, инициированной пятью-шестью одинокими мыслителями века: «Внутренний опыт <…> нужен для другого»; субъект есть сознание Другого[21].
Ж. Батаю свойственны апофатические игры с готовыми концепциями (Декарта, Гегеля, Ницше), и даже главный свой труд он поименовал, в пику Фоме Аквинскому и его «Суммам» (читай: всей католической традиции системного философствования), «La Somme atheologique» (1972). На фоне изрядно надоевших лозунгов о «смерти Бога», «смерти Автора», «смерти Героя», «смерти Другого», «смерти текста», «смерти классики», «смерти читателя», а также «конца истории» и прочих «концов» Ж. Батай, с его по-французски элегантной манерой инкорпорировать философский дискурс в стилистику художественных и публицистических жанров, показывает, сколь ненадежными выглядят висячие мосты и лествицы метафизических переходов от имманентного «я» к трансцендентным ценностям Другого: «В опыте объект предстает драматичным наваждением самоутраты субъекта. Это рожденный субъектом образ. Прежде всего, субъект хочет идти навстречу себе подобному. Ввергнув себя во внутренний опыт, он ищет субъект, который был бы подобен ему по углубленности во внутренний мир. Более того, субъект, опыт которого изначально и сам по себе драматичен (самоутрата), испытывает потребность обнаружить этот драматический характер. <…> Пребывая в блаженстве внутренних движений, можно наметить некую точку, которая-де изнутри вбирает в себя всю разорванность мира, непрестанное скольжение всех и вся в ничто. Время, если угодно. <…>…Эта точка есть не что иное, как личность. В каждое мгновение опыта она может замахать руками, закричать, воспылать»[22].
Уж не о Мышкине ли это? Что это за «точка-личность», в которой зреют ростки нового бытия и в тугой бутон свернуты лепестки грядущей Розы Мира?[23] Или это Божественная Точка Николая Кузанского, первоклетка Бытия, эмбрион Макрокосма, в котором дремлет и ждет часа рождения Универсум, развертывающий свою многоразличную жизнь по всему горизонту Божьего мира?
И не это ли – ситуация «на пороге», когда герой в те мгновения, «о которых только грезит сердце», инициирован на «обретение новой онтологии, нового видения»?[24]
15
Пришвин М. Незабудки. М., 1969. С. 218; курсив автора. Иконические образы этого ряда достигли в наши дни и массовой литературы в духе «фэнтэзи». Чтобы привести далеко не худший пример: в романах С. Лукьяненко «Ночной дозор» и «Дневной дозор» (оба – М., 2000) хранители Тьмы и Зла (над ними клубится чернота ночи) противостоят светоносным хранителям Добра (их узнают по нимбам над головами).
16
Татищев Н. В дальнюю дорогу. Париж, б/г. Кн. 2. С. 211–212.
17
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. М., 1972. 3-е изд. С. 44.
18
Татищев Н. Цит. соч. С. 212. Эта реплика может показаться цитатным коллажем из статей о Достоевском молодого Н. Бердяева, но суть дела от того не меняется: автор затерянной брошюры «Философия Достоевского» (1918) свой позднейший персонализм («Я и мир объектов (Опыт философии одиночества)», 1934) выстроил на Достоевском, и не скрывает этого.
19
Аверинцев С.С. София // Философская энциклопедия: В 5 т. М., 1970. Т. 5. С. 62.
20
Померанц Г.С. Указ. соч. С. 305–304.
21
Батай Ж. Внутренний опыт. СПб., 1997. С. 119. Морис Бланшо – автор повести, на обложке которой мы встречаем вполне «достоевское» словосочетание: «Последний человек» (1956; рус. пер.: СПб., 1997). Отметим кардинальную разницу в позициях внеприсутствующего в цитированных репликах Достоевского (соответственно – М. Бахтина) и Ж. Батая. Если герой Достоевского воскресает в Другом или пытается обрести новое рождение в открытом для диалога метафизическом конфиденте, то Ж. Батай, вообразив себя «последним человеком», с ужасом одолеваемого амнезией человека предощущает ту же судьбу самоутраты «я», какую пережил субъект у М. Бахтина в книге о Старой Франции и Франсуа Рабле: «Будучи мухой, ребенком, субъект субъектом не является (жалкое существо, жалкое в собственных глазах); обращая себя сознанием другого, отводя себе роль свидетеля, каковая в античности оставалась за хором гласа народного в драме, он теряется в человеческом сообщении, летит прочь от себя как субъекта, сливается в неразличимую тьму возможностей существования…» (Указ. сон. С. 119–120; курсив автора. Под античной «драмой» тут, видимо, надо разуметь трагедию). Отдаленным ностальгическим эхом догадки Достоевского о трагедии последнего человека в ситуации отрешения от диалогической жизни реализуются и в нашей творческой современности. Весьма известный петербургский философ и прозаик, проф. А.А. Грякалов, в двух планах – художественном (Последний святой. Воронеж, 2002) и в научном (Эстетиз и логос. Нью-Йорк, 2001; малый вариант – СПб., 2004) являет себя в расщеплении героя/автора, который в воронежской книге думает цитатами из нью-йоркской монографии о судьбах дискурса постмодерна и, соответственно, в ученой книге изъясняется порой репликами героя им же написанной художественной прозы. См. комментарий этого типа авторской инверсии (имеющей свою традицию: от С. Кьеркегора и Н. Гоголя до Ю. Тынянова, Р. Олдингтона, Х.Л. Борхеса, У. Эко, С. Лема, А. Битова) в нашей рецензии на обе книги (Человек. М., 2003. № 3). Умирание автора в герое, как и симметричное ему успение героя в авторе есть выражение юридически правомерной «последней воли» последнего человека. В начале века Д. Мережковский напечатал эссе «Последний святой» (Русская мысль. 1907. Кн. VIII. С. 74–94; Кн. IX. С. 1–22).
22
Батай Ж. Указ соч. С. 219–220.
23
Чтобы читателю метафора «Роза Мира» не показалась риторическим излишеством, напомним, что ее присутствием, задолго до трактата Д. Андреева, русская мысль обязана своим католическим симпатиям. Так, ранний Н. Бердяев с головой выдал свое лично-приватное католиканство, выразив в книге 1916 г. смысл искупления старинной эмблемой: «Это – распятие на кресте розы жизни» (Бердяев Н.А. Философия свободы. Смысл творчества. М., 1989. С. 327). М. Бахтин в лекции о Вяч. Иванове, причастившемся иноверию в ограде Ватикана, делился наблюдениями о «розе» как тематизирующем поэтику образа принципе и даже как о фабульном приеме (Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М., 1979. С. 323).
24
Карасев Л.С. О символике Достоевского // Вопросы философии. 1994. № 10. С. 106; Арбан Т. «Порог» у Достоевского: Тема, мотив, понятие // Достоевский: Материалы и исследования. Л., 1976. Т. 2. С. 19–29; Созина Е.К. Ситуация «на пороге» // Достоевский: Эстетика и поэтика. Словарь-справочник. Челябинск, 1997. С. 220.