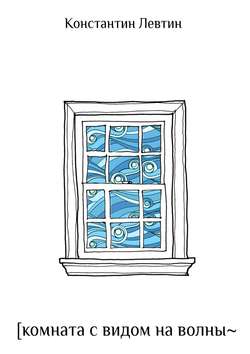Читать книгу Комната с видом на волны - Константин Левтин - Страница 5
Часть 1: Убить карпа, спасти алоэ
Глава 1
ОглавлениеТемнота. Электрические вспышки яркого, бело-голубого света, тянущиеся отовсюду, будто паутинки, собирающиеся в сине-зелёные, пульсирующие белым пятна. Одно из них всё ближе и ближе. Теперь другое. Свет яркий до боли. Свет. Свет. Свет. И снова темнота. Густая, словно закупоренная банка с чёрной краской.
Он чувствовал, что спит неглубоким, слегка тревожным сном. И отчего-то осознание этого простого факта вызвало у всей его сущности настороженное удивление, которое он успел лишь на секунду поймать в фокус, а затем оно снова расплылось в образах сна.
Ему снилось, будто он старая, позабытая всеми асфальтовая дорога. Сухая и пыльная. Изрытая выбоинами и трещинами. Затерянная где-то в горах среди безликого молчания деревьев.
В этом сне ему хотелось только одного: чтобы скорее пошёл дождь, будто его не было уже сотни лет. Чтобы он, тёплый и полноводный, омыл его от застарелой пыли, наполнил свежей водой все его рытвины, дал бы ему снова, пусть хоть ненадолго, почувствовать себя целым. И дождь, будто слушая его мольбы, сыпался с неба. Бурный и прямой, он колотил по соснам, по жухлой траве, по его пыльной, закостеневшей шкуре, заливая его лужами, наполняя каждую полость и каждую пору. Но вот что-то изменилось. Небо потемнело сильнее и сумерки сизым туманом окутали лес. Капли дождя стали тяжелее и медленнее и на мгновение точно замерли в синеватом воздухе, а потом ускорились и с невероятной силой забарабанили по лужам, превратившись в крупный град. Град принёс с собой холод. Вода подёрнулась тонкой, словно папиросная бумага, плёнкой, и начала замерзать, стремительно и неотвратимо. Вода в лужах, вода в рытвинах, вода в выбоинах, в каждой его поре. Превращаясь в лёд, она разрывала в клочья его старую асфальтовую шкуру. Взламывала его всего изнутри. Жгучая боль превратилась в чёрную пелену, застилающую полмира, весь мир, и лишь ветвистые силуэты елей бесшумно и быстро вращались над ним на фоне почти потухшего, тёмно-синего неба.
***
Он широко открыл глаза1 и с сиплым шумом вдохнул так глубоко, как только мог. Воздух оказался таким холодным, что он почти сразу закашлялся. Жгучая морозная боль не прошла, она стала лишь отчётливее, и только когтистые полутени деревьев прекратили свой хоровод и скромно замерли вокруг, будто равнодушные свидетели изнасилования. Даже несмотря на ожесточившуюся боль, проснуться было облегчением. Он уже не был куском асфальта, он чувствовал две руки и две ноги, а боль больше не раздирала его изнутри, а только чудовищно жгла затылок. И спину. И зад. И тыльную сторону ног. Осознав лишь то, что он лежит, распростёршись на спине, с головой наполненной отдалённым гулом, он дёрнулся и вскочил на четвереньки. Конечно, задумкой было вскочить на ноги, но ноги его нисколько не слушались2.
Он был совершенно голым, если не считать снега, облепившего спину ледяной коркой, один посреди полутёмного заснеженного леса. Он начал судорожно и как можно более энергично отряхивать снег и отрывать лёд, иногда, судя по достаточно ощутимой боли, если не вместе с кожей, то со значительным количеством волос точно.
Размахивая руками, он наткнулся на очень простую, но крайне масштабную мысль – он ничего не помнил. Ни своего имени, ни даже себя, как такового. А ещё он не имел ни малейшего представления о том, как он здесь очутился. Зато одного взгляда в направлении ног было достаточно, чтобы из ниоткуда выскочила глупая и не очень-то уместная в морозном лесу шутка о том, что теперь он хотя бы точно знает свою половую принадлежность.
Сознание его постепенно прояснилось для того, чтобы понять одну очень важную вещь: если он сейчас же не возьмёт себя в руки и не найдёт места или способа согреться, в ближайшие полчаса он окажется в своей снежной могиле. Спиной он уже там.
Он был почти уверен, что пролежал на снегу минут двадцать, не более. Будь его сон хоть немногим дольше, и вряд ли бы он вообще сумел подняться с земли.
Сейчас он стоял ногами на том самом месте, где ещё недавно лежал, и поэтому ему было довольно легко определить толщину снега на глаз: до середины голени, не выше. Правда, никто в здравом уме не смог бы пообещать ему, что снежный покров точно такой же по всему этому проклятому лесу.
Он панически огляделся вокруг и не увидел никакой надежды, ни единой подсказки, абсолютно ничего, кроме мечущихся во все стороны ветвистых силуэтов. У него закружилась голова. Тогда он закрыл глаза и постарался сделать пару глубоких вдохов-выдохов. От массированного поступления морозного воздуха в тело его пробила настолько крупная дрожь, что сначала даже мелькнула дикая мысль: «а может, это предсмертные судороги?» Стиснув изо всех сил зубы, лязгающие на манер железной калитки на ветру, и постаравшись выкинуть долбящую дрожь на самый задний план своего сознания, он заставил себя оглядеться вокруг ещё раз, медленно и внимательно.
Дневной свет умирал, а ему нужно было направление. В голову, будто потоком из лопнувшей канализационной трубы, лезли совсем нерадостные мысли. Угадать с направлением – полбеды. С чего это он решил, что на расстоянии десяти-двадцати минут своего полухромого бега он найдёт хоть что-то? Человека или жилище?
Но просто стоять и замерзать посреди тёмного леса было поистине смертельно тоскливо. И движение, пусть даже отчаянное, почти рефлекторное, было единственным спасением. Возможно, лишь спасением души, но всё же…
Он заставил себя, как можно медленнее поворачивать голову и лучше вглядываться сквозь наливающуюся синяком тьму. На половине пути среди густого лесного однообразия он увидел нечто похожее на узкую просеку. Она начиналась в сотне метров от него небольшой поляной и уходила куда-то наискось вправо, так что видно было лишь её импровизированные ворота – два могучих дерева, сросшихся ветвями где-то на высоте в три человеческих роста.
Едва осознав, что перед ним такое, он сразу же сорвался с места и побежал прямиком туда, в эту дыру, погружаясь голыми ногами в снег почти по колено. Полный надежд и страхов в равных пропорциях, он заглянул внутрь и с чудовищным облегчением понял, что не ошибся. Это действительно была просека. А может быть, даже аллея. Прямая словно шоссе, но куда менее широкая, она явно была делом рук человеческих. Из-за сумерек и не унимающейся дрожи было проблематично оценить её длину. Куда полезнее и проще было её просто пробежать. Одно было ясно: заканчивалась аллея очередной стеной глухого леса. Не то чтобы он и вправду ждал неоновых вывесок и ярких отельных огней, но первый запал слегка прошёл, и ему пришлось силой погнать себя вперёд.
Он бежал добрых десять минут, изо всех сил стараясь дышать носом, а на деле, глотая ртом морозный воздух, и лишь однажды перешёл на шаг. Пятки жгло невыносимо. Но сейчас в этой боли было куда больше жизни, чем в её отсутствии.
Стена леса приблизилась уже достаточно, чтобы он мог понять, что аллея заканчивается не просто забором из деревьев, а другой, куда большей поляной. Добравшись до неё, он остановился отдышаться и оглядеться. Но надрывное дыхание и резкий болезненный кашель на некоторое время поглотили всё его внимание. Лишь спустя несколько минут он смог снова поднять голову и методично осмотреть поляну слева направо.
Нестерпимо мёрзла промежность, выделяясь, будто солирующий инструмент на фоне целой симфонии жгущей боли. Он попытался отогреть её ладонями, но руки так настыли во время бега, что не давали и намёка на тепло, а скорее отнимали его.
Говорят, что за сутки взрослый человек выделяет столько тепла, что его хватит, чтобы довести до кипения тридцать три литра ледяной воды. Он явственно ощущал, что за последние пять минут прыгнул разом литров на двадцать…
Он выматерился вслух. Никчёмные мысли, выскакивающее в его сознание наподобие кротов в допотопном игровом автомате, начинали его безмерно раздражать. Лучше бы ему вспомнилось, в каком направлении находится ближайший дом или машина.
Он почти сразу приметил новую аллею в левой части поляны, а спустя мгновение ещё одну в правой. Нужно было выбрать. У него не было ни сил, ни запасов тепла, чтобы детально изучить каждое ответвление, как-то их сравнить и выбрать наиболее перспективное. А потому он просто побежал в правое. В то, что казалось ближе. Ещё не добежав до середины поляны, боковым зрением он поймал крошечный жёлтый огонёк, блуждающий среди деревьев. И лишь остановившись на входе в аллею, он увидел, что блуждал вовсе не огонёк, а он сам. Огонёк был стабильно закреплён и заметно выделялся на фоне чего-то темно-коричневого и квадратного, теряющегося в густых зимних сумерках среди лесного массива. Стена. Хижина. Дом. От радости, отдающей шоком, и холода, отдающего серьёзным обморожением лёгких, у него перехватило дыхание. Начав дышать снова, он двинулся в направлении света.
Через несколько минут захлёбывающегося бега, он смог более-менее отчётливо разглядеть в том далёком огоньке окно дома. И с каждым обжигающим шагом и хриплым вдохом-выдохом оно становилось всё яснее и чётче. Окно было внушительных размеров. Свет, падающий из него, освещал аккуратную бревенчатую стену и небольшой участок чистой от снега каменного дорожки вокруг хижины, которую в данный момент с большей справедливостью следовало бы называть «загородным особняком». Мешала разве что одноэтажность здания и отсутствие гаража на пять-шесть машин. Хотя, с учётом того, что он мог видеть это строение только с одного бока, уверенности, что гараж не спрятался с другой стороны, конечно, не было. Ещё через пятьдесят метров бега то и дело переходящего в торопливое ковыляние, а затем снова в бег, он уже мог видеть смутные детали помещения, проглядывающие сквозь незашторенное окно. Он ожидал, что вот-вот там покажется чей-то силуэт, что кто-нибудь выйдет во двор, дымя сигаретой или подзывая собаку, и можно будет, собрав последние крупицы сил, помножить их на отчаяние и накопившуюся боль и крикнуть, возможно, даже достаточно громко для того, чтобы быть услышанным. И попросту потерять сознание в уверенности, что так его не бросят. И пускай потом носятся вокруг, вызывают парамедиков, полицию и вертолёты службы спасения, отогревают как могут – его дело только заорать погромче и упасть помягче.
Не успев даже додумать свою мысль, он понял, что это конец. Сладкие полусны с быстрыми вертолётами и улыбчивыми врачами, застилающие сознание, когда ты стоишь голым посреди зимнего леса, это последние образы, которые тебе дано увидеть в твоей жизни.
Нужно было срочно разозлиться. Но мысли путались в голове, злиться на себя самого было чертовски нелепо, себя хотелось пожалеть. Он ещё раз с надеждой глянул на дом, но никто так и не появился ни в окне, ни на пороге. И выход пришёл сам собой: он решил изо всех сил разозлиться на этих ленивых, бездушных неизвестно кого, которые сидят в тепле своего дома и совершенно не думают о том, что в этот самый момент человек может замерзать насмерть в ста метрах от них.
Он дойдёт до них, вопреки этому сраному снегу и холоду. Он дойдёт и скажет им всё, что о них думает. Жирные говнюки услышат и увидят, каково это, когда никто не выходит тебя спасти. Холодный синий огонёк ненависти в этот момент показался ему даже теплее, чем потухающее пламя самосохранения или жёлтый свет из всё ещё слишком далёких окон. Конечно, это был не тот огонь, что даёт силы бежать, а потому он лишь медленно, но неумолимо заковылял по направлению к дому. Мерзкие ленивые ублюдки.
Если бы он не был голым и не двигался с элегантностью зомби трёхнедельной свежести, то его манеру перемещения вполне можно было назвать «неспешной прогулкой». Хотя бы по скорости. «Месье, неспешно прогуливаясь, направился к особняку…»
Спустя минут десять этого променада, сделавшегося замутнённым, полуживым кошмаром наяву, он буквально уткнулся лицом в дверь коттеджа. Что, кстати, неплохо помогло ему взбодриться. Он начал колотить в дверь своими до бесчувствия замёрзшими, синеватыми руками. Безрезультатно. Бездушные глухие ублюдки. Сидят там и ни хрена не слышат!..
Он уже не мог согнуть пальцы так, чтобы нормально ухватиться за дверную ручку, и просто просунул за неё сжатую в кулак ладонь, надавил вниз запястьем и рванул дверь на себя. Дверь не поддалась. Тогда он захрипел, в отчаянии ткнулся в дверь в противоположном направлении и внезапно распахнул её с такой силой, что влетел в дом и упал на тёплый деревянный пол. Рука его при этом, как была просунута в дверную ручку, так там и осталась. Не отделяясь от тела, конечно. Он привстал, слабо цепляясь за остатки сознания, высвободил ноющую руку, а затем поскорее захлопнул дверь и двинулся внутрь дома, шатаясь, будто пьяный матрос, проспавший всю ночь в гамаке во время восьмибального шторма.
Он хотел кричать, звать на помощь, но его губы лишь беззвучно шевелились, не произнося ни звука. Чёрт знает почему, но в тепле дома дрожь пробрала его с новой силой. Последние искры разума метались внутри его очень холодной головы, непрерывно ища и так же непрерывно отбрасывая разные варианты срочного согревания. Растопить камин, набрать горячую ванну… Но сил не было совсем. И никого не было в этом удивительно тёплом доме. Никто не бежал ему на помощь. Никто не бежал даже с криками и оружием наизготовку. А его голову буравила лишь одна разумная мысль: согревание не должно быть уж слишком срочным. Он где-то слышал это или читал об этом, или даже видел страшные последствия «срочного согревания» в каком-то полудокументальном фильме о неудачной полярной экспедиции, но вот альтернативного, или лучше того, «правильного» способа согревания он не знал. А может быть, и знал когда-то, но потерял там, на пустой заснеженной поляне в холодном зимнем лесу.
На низком журнальном столике возле пустого камина, он увидел массивную пепельницу из светлого камня, полную пепла и обрубков сигар, приземистый, будто сумоист в боевой стойке, стакан и початую бутылку виски. Или коньяка. Чего-то золотисто-коричневого, точно крепкого и, следовательно, согревающего. Ответ напрашивался сам собой. Он схватил бутылку, сорвал колпачок, и, подавив желание прильнуть губами, начал поливать себя с шеи до ног, содрогаясь от боли и кощунственного расточительства. Отчаянно жгло глаза, растресканные в кровь губы и самые неожиданные участки тела, судя по всему лишённые верхнего слоя кожи. Он вернул бутылку на стол и кинулся, что было сил растирать грудь, руки и бедра, и напоследок лицо: онемевшие скулы, щёки и лоб. Лишь после этого он запрокинул горлышко в рот и сделал пять больших громких глотков. Поступи он иначе, предпочти он растиранию употребление коньяка (коньяка, это-то он теперь знал наверняка) внутрь, и Бог знает, сколько бы у него было времени в запасе, прежде чем господин Алкоголь отыскал бы своего верного компаньона старика Измождение, и они совместными усилиями вышибли бы землю у него из-под ног. Судя по всему, совсем немного. Он уже чувствовал, что это вот-вот случится. Сознание уходило вдаль, будто берег в иллюминаторе скоростной яхты, с бульканьем погружающейся под воду. Размытым, вырвавшимся из-под контроля зрением он заметил в гостиной нечто, похожее одновременно на пшеничное поле и спину давно не стриженного ретривера. Он добрёл до светлого пятна, упал, не почувствовав боли, и завернулся тёплым мохнатым краем.
***
Ему снова снился сон. В нём была дверь, и в нём была комната. Но дверь была отдельно, и комната была сама по себе, и они будто плавали в чёрной бестелесной пустоте. Иногда они пересекались, и тогда дверь на мгновение будто становилась частью комнаты, но буквально в следующий миг ускользала вновь. А потом он сам оказался внутри этой комнаты. Он пытался дойти до двери, но псевдослучайные, будто невероятно длинные траектории далёких небесных тел, перемещения двери и комнаты постоянно сбивали его с пути. А потом комната начала уплывать у него из-под ног. Пространство уходило прочь, словно океан, гонимый отливом. Надо было бежать, надо было войти в ту самую дверь. Но комната двигалась слишком быстро, вызывая тревожные, почти болезненные ощущения в желудке, будто тот был сам по себе и безостановочно куда-то падал. Он успел лишь открыть рот, чтобы закричать, и внезапно проснулся.
Солнце пробивалось сквозь широкие окна и светло-соломенную бахрому ковра, лежащего у него на лице. Он откинул ковёр и посмотрел сначала вокруг, потом на себя. Вокруг был всё тот же чертовски уютный загородный дом, лишь немного подпорченный его вчерашним визитом. От двери к ковру вели высохшие пятна воды – очевидно, его следы, открытая бутылка коньяка валялась на полу в крошечной луже той самой жидкости, что изначально содержалась в ней, а он сам лежал небрежно завёрнутый в ковёр.
Он посмотрел на свои руки и ноги. Память не вернулась к нему. Та, изначальная, далёкая память: детство, юность, первый поцелуй и причины быть брошенным в лесу на верную смерть. Но вот то, что вчера он прошёл голым сквозь снег и мороз, он помнил даже слишком отчётливо. Он ожидал увидеть почерневшие, покрасневшие, побелевшие пальцы, напрочь лишённые ногтей, куски кожи, сгустки крови или любые другие признаки серьёзного обморожения. Но ничего подобного не было. Руки были как руки, а ноги как ноги. Ничего не болело, и всё имело вполне нормальную чувствительность и окраску.
«Чудотворный коньяк, не иначе, – само собой пронеслось у него в голове. – А может и не совсем,» – уже чуть более осознано признался он себе, поняв, что что-что, а вот голова-то у него действительно болит. Как со знатного перепоя.
Он встал на ноги, кряхтя, будто столетний дед после бурной ночи с воспалившимся радикулитом, и минут пять просто стоял, наслаждаясь теплом яркого солнечного света, льющегося сквозь окно. Света, многократно усиленного огромным зеркалом безупречно белого снега, укрывающего всё вокруг: лужайку перед домом, сам дом, деревья вокруг и высокие холмы, а может быть, даже невысокие горы, вдалеке.
Ему вспомнилось, как когда-то давно, будто целый миллион лет назад, он стоял так маленьким ребёнком. Было утро субботы. Повсюду за окнами тоже лежал снег, с кухни доносилось уютное бренчание посуды и манящий запах оладий, а зимнее солнце по-настоящему грело сквозь двойные стекла окон его старого дома. Это воспоминание было тихим и приглушенным, почти не его. Будто всё это он не пережил сам, а просто видел в каком-нибудь фильме или на фотографии в журнале. А потом в комнату зашла его мать. Не тут, конечно, а в его воспоминании. Случись это здесь и сейчас, и ему, пожалуй, было бы не миновать сердечного приступа. Она строго посмотрела на маленького мальчика и сказала: «Бретт, а ну-ка живо одевайся! Тебе уже не три года, чтобы стоять голышом! И марш завтракать! Всё на столе!».
Бретт… Это воспоминание хлестнуло по голове сильнее хорошей оплеухи. Словно приржавевшие шестерни его мозга кто-то попытался запустить с пинка. Но они сделали лишь треть оборота и снова замерли, оставив его с одним только словом «бретт». Бретбрет. Бретт! Теперь он, похоже, знал, как его зовут. Этот, казалось бы, незначительный факт, всё же придал ему определённости и новых сил. Имя и пол. Этого большинству политических деятелей хватило бы на целый цикл своих мемуаров. Он вышел из оцепенения смутных воспоминаний, ароматов оладий и стыдливого страха перед матерью, набрал в лёгкие побольше воздуха и наконец-то сделал то, что должен был сделать ещё вчера вечером. Он крикнул:
«Здесь кто-нибудь есть? Эй!..» – подождал в тишине пару секунд и крикнул снова: – Эй! Кто-нибудь!.. Я собираюсь ходить по дому и брать одежду и еду!»
Тишина.
«Эй!.. Я буду гадить в вашем туалете, тупые вы мерзавцы! А может и не только там!..»
И снова только тишина. Бретт тяжело вздохнул.
«Такого не перенести никому, – наконец решил он, – дом точно пустой».
«Я вас предупредил!» – проорал он уже на порядок тише и двинулся по дому.
Первым делом он подошёл к дивану, чтобы взять с него скомканный шерстяной плед. В помещении было достаточно тепло, но шататься повсюду голым было неприятно. Бретт потянул плед и из него выпала странного вида книга: листов двадцать бумаги без всякой обложки, накрепко сшитые с одного края.
На первом листе было напечатано большими буквами: «Lv:m [лю:эм]: история, меры профилактики и пр.»
«Мне сейчас крайне важна профилактика голода, всё остальное может и подождать,» – усмехнулся Бретт.
Он накинул на себя плед на манер римской тоги и продолжил своё завоевательное шествие по дому. На желанную кухню он наткнулся быстро. Это была большая, продуманно обставленная комната. По-своему уютная, хоть и не самая обжитая. Чувствовалось, что её в целом любили, но не слишком любили ей пользоваться. Там были разнообразные шкафы и шкафчики, печь с духовкой, массивный двухэтажный холодильник, небольшая телепанель и даже мини-бар с миниатюрной барной стойкой: на двух-трёх человек за раз, не более. Слева от бара висели старинного вида часы, вероятно, с кукушкой. Птица в данный момент не была на виду, но, судя по общему виду часов, обильно декорированных под охотничий домик в баварском стиле, она просто пряталась где-то внутри. Помимо ярко-выраженной буколической внешности часы имели ещё одну примечательную особенность: они шли, добросовестно качая из стороны маятником, стилизованным под собачью будку, но при этом бессовестно врали. Секундная стрелка в них не была предусмотрена вовсе, а две оставшиеся говорили, что сейчас шесть часов семнадцать минут. Что, учитывая яркое солнце за окном, которое не могло быть ни утренним, ни вечерним, являлось откровенным обманом. На мысленную оценку часов Бретт потратил не более пары секунд и тут же кинулся к холодильнику, который, наудачу, оказался забит под завязку. Он выудил оттуда ветчины, яиц и сыра. А ещё молока и масла. Поставил на огонь сковородку и большую медную турку, предварительно налив воду и масло. Масло на сковородку, а воду в турку. Никак не иначе. Затем он порылся в шкафах, попутно откусывая то от сыра, то от ветчины, и нашёл изумительно мягкую булку хлеб. Бретт отломил кусок, отправил его в рот следом за ветчиной и сыром, и ещё раз поразился, насколько всё свежее. Кто-то точно живёт здесь. Или жил не далее как день назад. Куда же все подевались?..
Бретт пожарил яичницу, обильно сдобрив её сыром и ломтями ветчины, намазал сливочным маслом три больших куска хлеба, сварил кофе и влил в него молока. В процессе готовки на правой руке обнаружился старый шрам, ничего ровным счётом ему не говорящий. Бретт выжидательно посмотрел на большое выболевшее пятно посреди ладони, словно ожидая, что то шепнёт ему пару-тройку подробностей из их совместной жизни. Однако чем дальше, тем яснее было, что подробности не планируют материализоваться на руке в виде папиллярных линий, изогнутых в буквы, иероглифы или схематические рисунки, а есть хотелось всё больше, и в борьбе за внимание публики шрам стремительно уступил горячей еде свою лидирующую позицию.
Жареные яйца Бретт уплёл за первые три минуты, и теперь сидел, попивая горячий кофе вприкуску с хлебом. Приятное сытое тепло растекалось по всему телу. Допив кофе наполовину, он, уже не торопясь, подошёл к бару, выбрал бутылку коньяка и плеснул себе немного в кружку. Потом подумал немного, положил горлышко на зубы и сделал три глубоких глотка. Сделалось ещё теплее, и теперь тепло не просто растекалось по телу, а колыхалось внутри, будто горячие волны какого-нибудь южного моря.
Не сказать, что ему было здесь плохо, и что ему очень уж хотелось поскорей выяснить, кто он такой и как попал он в этот снежный лес, который, кстати говоря, сейчас, залитый ярким дневным светом, был откровенно и даже как-то вульгарно красив. Он вообще толком не знал, чего бы ему хотелось, кроме как вздремнуть полчасика. Зато он точно знал, чего ему не хочется. Его нисколько не прельщала идея снова оказаться снаружи. Особенно в ближайшее время. Особенно голым. Сказывалась вчерашняя вечерняя прогулка, не иначе.
Однако мысль очутиться вне дома ночью или в густых зимних сумерках была ещё более отталкивающей, а определённый, пусть и приглушенный яичницей и коньяком интерес осмотреться вокруг вообще и найти то место, где он вчера очнулся, в частности, всё же имелся.
Бретт торопливо допил свой кофе и отправился искать одежду потеплее. В комнате по соседству с кухней нашёлся целый выходной-парадный гардероб отчаянного любителя охоты. Здесь были утеплённые куртки военного образца, короткие и длинные пуховики, шапки, штаны и даже комбинезоны. Бретту сразу вспомнилась фотография на каминной полке: пятеро друзей, у троих шикарные бороды, у одного так себе, зато большие усы, у каждого по ружью, все обнимают друг друга вот в этой самой одежде на фоне, судя по всему, этого самого коттеджа. Сказать точнее было непросто. Автор снимка был очевидно самым большим фанатом боке на всей планете. И здоровенное чучело рыбы над камином вспомнилось тоже.
«Хозяин был явно не дурак поохотиться, – пронеслось у Бретта в голове. – И выпить тоже».
Ну что ж, отлично. Человек, занимающийся охотой профессионально или как минимум достаточно долго, понимает, что в жизни случается всякое, люди то и дело теряются в лесах. Криворукие путешественники всех сортов и расцветок, полупьяные придурки, случайно или намеренно позабытые своими приятелями по вечеринке, влюблённые парочки, чересчур упёртые в своём стремлении уединиться ото всех и вся, и Бог знает кто ещё. Так что хозяин должен с лёгкостью понять, что Бретт просто заблудился, и этот дом был его единственным спасением. А опыт обращения с оружием, охотничья выдержка и любовь к достойным сортам коньяка как-то сами предполагали, что человек просто не может быть настолько неуравновешенным, чтобы палить в Бретта при первом же виде его незнакомой физиономии в своём доме. По крайней мере, Бретт на это очень надеялся.
С одеждой всё получилось очень просто и удобно. Немного порывшись, Бретт отыскал себе тёплый флисовый свитер по размеру, шапку и рукавицы, длинный пуховик защитного цвета и чёрные горнолыжные штаны. А вот с обувью вышла накладка: все ботинки и сапоги были на два-три размера больше, чем требовалось.
«Хорошо, что хотя бы не на пять меньше,» – подумал Бретт и принялся надевать дополнительные носки на ноги, чтобы хоть как-то заполнить межзвёздную пустоту облюбованных им здоровенных охотничьих ботинок.
На улице стоял великолепный денёк. Конечно, было прохладно, и снег даже не думал таять, но солнце приятно пригревало, а ветра не было совсем.
Первое, что поразило Бретта, была тишина. Спокойная, всеобъемлющая, это была вовсе не тишина пустой комнаты. Скорее дремотное, наполненное размеренным дыханием молчание природы, полуспящей в это время года.
Отдалённо и почти неслышно чирикали скрытые от глаз птички. Ясное небо, исчерченное тонкими полосками перьевых облаков, словно наспех выкрашенный голубой краской дощатый забор, натыкалось на низкорослые горы. Солнце было почти в зените и потому решительно ничего не говорило Бретту о сторонах света.
Бретт обошёл коттедж кругом, но не нашёл ничего интересного. Дом был хорошенько укутан снегом. С левой, если смотреть от входа, стороны дома росло три могучих сосны, а буквально позади него было ещё штук пять, чуть поменьше. Ни гаража с машиной, ни снегохода, ни космического корабля инопланетных, мать их, захватчиков. Один этот факт заставил Бретта крепко призадуматься. Другой был ещё хуже. Со всех сторон, насколько позволяло зрение и деревья, примерно на равном отдалении виднелись горные хребты. Складывалось впечатление, что дом стоит в лесу, окружённом каменным кольцом. Настоящая услада для любого отшельника.
Бретт сложил руки рупором и громко крикнул. Эхо на секунду подхватило его возглас, но тут же умолкло, словно капризный ребёнок, который бросает свою игрушку, ещё недавно казавшуюся его самой любимой. Вдалеке с верхушки дерева снялась крупная птица. Она немного покружила на месте, потревоженная криком, а затем направилась прочь от хижины куда-то в сторону гор.
«Всё это чушь,» – с неожиданной даже для самого себя злостью подумал Бретт. Где-то там, среди этих гор, наверняка есть ущелье, и ущелье достаточно большое, чтобы сквозь него могла проехать машина или хотя бы снегоход. Как-то ведь в этом доме оказались не только яйца и сыр, но и громадный холодильник для их хранения. Вряд ли его скинули с самолёта или тащили через скалы, привязанным к спине. Наличие свежих продуктов также говорило о том, что регулярный подвоз провизии здесь налажен. Хозяин, почти наверняка, как раз и отправился в ближайший населённый пункт по данному вопросу. И, вероятнее всего, скоро вернётся назад. А ещё он мог просто пойти на охоту. Он ведь охотник, а это охотничий, мать его, домик посреди роскошных охотничьих угодий. Вот только почему же тогда он не вернулся назад вчера вечером? Или хотя бы сегодня поутру… Нет, продовольственная вылазка звучала куда более правдоподобной версией. Дом, кстати говоря, совершенно не выглядел законсервированным на зиму. Так что вряд ли у хозяина просто закончился отпуск, и он вернулся на постоянное место жительства до следующего года. С другой стороны, учитывая, что хлеб ещё не зачерствел, а упомянутый холодильник был вполне себе полным, то существовала высокая вероятность, что хозяин отправился в город с каким-то иным, никак не связанным с закупкой деликатесов делом. Например, с острым приступом аппендицита. А это значит, что сидеть, сложа руки на полном ветчины пузе, и просто ждать его возвращения, было бы непоправимой наивностью. Нужно было искать дорогу самому.
Судя по всему, после того, как коттедж покинул его обитатель или обитатели, здесь вовсю шёл снег – вокруг дома Бретт не увидел ни единого следа, кроме следов своих вчерашних ковыляний. Никакого намёка на то, куда и на чём отправился хозяин дома и его возможные гости. Один факт был очевидным: несколько людей или один человек, они уходили в спешке.
Дом был не заперт, но это вовсе не являлось неопровержимым доказательством. Так среди охотников принято делать на случай, если кому-то другому понадобится место, чтобы отогреться, отдохнуть или переждать непогоду. Хорошая традиция, что и говорить. А вот непогашенный свет был отчётливым сигналом поспешности. Странно, что при такой спешке в коттедже не осталось каких-нибудь личных вещей: сумок, рюкзаков, менее охотничьей одежды, телефонов…
«Телефонов… – пронеслось в голове у Бретта, – Телефон, мать твою! Ну конечно! В этом доме обязан быть телефон!»
«Боже мой, ну что я за идиот!» – крикнул он вслух и ринулся внутрь.
Спустя полчаса Бретт разочарованно сидел на ступеньках у входа. Телефона нигде не было. Или он не сумел его отыскать. А может быть, единственный телефон в этом доме был спутниковым, и сейчас его сжимал в скрюченных пальцах хозяин, умерший от перитонита вот в том сугробе. В пятистах метрах отсюда. Чёрт!..
Бретт порывался отправиться искать телефон снова, но ему пришлось одёрнуть себя. Время бежало, и солнце ещё недавно, будто зацепившееся за гвоздь прямо над головой, теперь неотвратимо поползло вниз. Всё снова обрело тени.
Его следы, наполнившиеся синевой, точно воронки от бомбёжки грунтовыми водами, подсказывали Бретту направление, по которому он пришёл вчера к дому.
Он встал со ступенек, натянул шапку поглубже и зашагал вперёд.
***
Пронзительный визг тормозов несущегося на него поезда из монотонного и нарастающего превратился в прерывистый и значительно более звонкий. Пэй открыл глаза и в полутьме просторной отельной комнаты увидел расплывчатый огонёк входящего вызова на стационарном телефоне. Он пошарил рукой по прикроватному столику, нашёл очки жены, пачку сигарет и, наконец, свои очки, с усилием приподнялся на локтях и сел в кровати.
Второе октября. Двадцатое августа по лунному календарю. Лунный нравился ему больше…
Жена спала рядом. Её глаза закрывала широкая шёлковая маска кремового цвета, а из правого уха тянулась тонкая серебристая паутинка электронных шумогасителей. Даже три акта пекинской оперы и военный салют в честь дня образования республики были неспособны разбудить её в такой экипировке.
Пэй опустил ноги на едва прохладный плиточный пол и тот, будто ожив, начал быстро теплеть. Он по-утреннему неуклюже прошлёпал к телефону в своей красной пижаме, зажав сигареты в левой руке, и с неохотой взял трубку:
– Господин Лю, доброе утро! Вчера Вы заказывали разбудить Вас в шесть утра. Завтраки будут доступны в зале на втором этаже нашего отеля, начиная с семи часов, – девичий голос на той стороне провода был жизнерадостным и очень бодрым. А ещё не в меру быстрым и слишком старательно выговаривавшим каждый тон. У Пэя мгновенно разболелась голова.
– Эй.
– Могу я Вам как-то ещё помочь? Вызвать Вам такси?
– Нет, ничего не надо. Спасибо. Хорошо потрудились. А.
– Эй! До свидания, господин Лю! Эй!
– А. А, – сказал вполголоса он и повесил трубку, в которой всё ещё продолжали звучат уважительные «а» и «эй»3.
Он снова бросил взгляд в сторону спящей жены. Ничто в её облике не говорило Пэю о том, что она намерена проснуться хотя бы в ближайшие сутки. Дочка спала рядом с ними на отдельной кровати. Своей ночной экипировкой она полностью повторяла мать, с той лишь разницей, что маска у неё на глазах была чёрной, с мультяшным рисунком бешеных красных глаз, а ниточка ушных затычек ярко-жёлтой и тянулась не от уха к уху, а к цилиндрику цифрового плеера.
Лю включил верхний свет, хлопнув в ладоши два раза. Затем он открыл крышку лэптопа, стоящего на тумбочке, и тот сразу зажёг на экране приветственную надпись, раскаивающуюся в том, что на загрузку системы сегодня уйдёт на три секунды дольше в связи запланированной проверкой файловой системы. Лю задумчиво погладил упругий живот и уже гораздо более бодрым шагом двинулся в ванную.
Пэй переключил вытяжку на режим курения, зажёг сигарету от электроприкуривателя, вмонтированного в зеркало на уровне лица и затянулся. Бесценную первую утреннюю затяжку испортил гадкий, слегка сладковатый запах, идущий от руки. Лю взял сигарету в левую руку и с любопытством понюхал правую. Запах, несомненно, шёл из-под пластыря, которым ему вчера залепили порез на указательном пальце. Неужели он успел воспалиться?..
Вчерашний вечер в хого4 начался крайне неприятно. Лю пришёл в ресторан вместе со всей семьёй, сделал заказ и тут же засомневался. Зал был совсем пустым и тихим, и он сгоряча подумал даже, что по незнанию выбрал плохое место. Но не более часа спустя в хого было уже не протолкнуться. Люди приходили по одному и по парам, семьями и даже большими компаниями. Ресторан наполнился громкими разговорами, смехом и толстой подушкой сигаретного дыма. Стало шумно и весело. И в этот самый момент какой-то идиот-официант зацепил его острым краем металлического разноса с креветками. Больно почти не было, а вот крови натекло на удивление много. Вместо того чтобы сбегать за бинтом или хотя бы пачкой бумажных салфеток этот проклятый двести пятьдесят5 стоял перед ним и извинялся как заведённый, выпучив глаза от страха. Его, к счастью, наверняка уволят, если ещё не уволили в тот же день. Или заставят четыре года подряд работать за одну еду и жильё в складской каморке. При определённой везучести, конечно.
Минуту спустя и вовсе началось настоящее представление. Временами даже похлеще тех безобразий, что выделывают детишки из физкультурных школ Дэнфэна6. На крики Пэя из кухни выскочил толстый управляющий и две молодых официантки. Увидев кровь, фонтанирующую из пальца неширокой, но бодрой струёй, управляющий сорвал с одной из официанток фартук вместе с половиной её блузки, и крикнул пронзительно завизжавшим работницам увести с глаз долой этого остолбеневшего недоделка, всё ещё извиняющегося, но теперь смотрящего уже не на Пэя, а на голую девичью грудь. Как, собственно, и сам пострадавший. Так что случайность этого «случайного» обнажения была целиком и полностью на совести управляющего и граничила с изощрённой военной смекалкой преданий «Троецарствия»7.
Толстяк ловко замотал кровоточащий палец краем фартука и, нараспев извиняясь, отвёл господина-господина-господина Лю на кухню. Там он, продолжая свои красноречивые подбадривания, снял моток с пальца, намочил его под холодной водой и бережно промыл им порез. Броском разъярённого тигра управляющий дотянулся до пачки салфеток, насухо промокнул ей травмированную руку Пэя, выудил из ящика пулемётную ленту лейкопластырей, оторвал один зубами и, не дожидаясь, пока кровь снова заполнит рану, налепил его сверху.
И всё стало чудесно: Пэя, поддерживаемого под руки целой ордой официанток, вернули за стол к перепуганной жене и равнодушно уткнувшейся в телефон дочке. Стол был начисто вытерт, и на нём уже громоздились подносы с креветками, грибами и тонкими ломтиками мяса, которые они, Пэй готов был поклясться, точно не заказывали. А ещё на столе красовалась бутылка красного вина, с десяток охлаждённых пивных банок и монументальная бутылка сорговой водки.
– Маотай8 для зажравшихся. Настоящий пролетариат пил и будет пить Эрготоу9. Э-э-эй, – покровительски потирая плечо Лю Пэя, откомментировал взявшийся из ниоткуда управляющий.
Ужин был бесплатным и долгим, а официантки, подлетали к ним, словно ястребы, чтобы забрать, унести, протереть, подлить и добавить. Управляющий приходил и садился к ним за столик раз пять. Он поднимал тосты за здоровье и успех, веселил всех историями и песнями и без устали повторял Лю Пэю, как стойко тот перенёс такую рану – как настоящий дракон.
– Вот два года назад, – говорил он, заботливо поглаживая левую руку Пэя, – был тут один лаовай10. Сунул по пьяни палец в горячий бульон и поднял вой. Плакал и молил вызвать скорую. Совершенный слабак. Девчонка. Вот мы из другого теста, мы их всех крепче и сильнее. Эй. Эй. А.
В перерывах между приходами управляющего пара-тройка других гостей, в основном семейные пары подсаживались за стол к семье Пэя, чтобы выразить ему своё почтение, выпить с героем вечера и обменяться словечком-другим об «этих криворуких растяпах, из деревни понаехавших».
Вечер клонился к концу, на часах уже было за десять, и бутылка Эрготоу была выпита до дна. Управляющий усадил всю семью Пэя в такси. Он спросил у жены Пэя адрес их отеля – сам Лю уже не мог толком сообразить, где, небо его побери, он вообще находится – пошептался с водителем, сунул тому денег и на прощание нежно, двумя руками пожал Лю Пэю левую руку.
Потом были яркие, но расплывчатые огни праздничного Пекина, ослепительные огни в лобби отеля, приглушенный свет в номере и, наконец, темнота глубокого, скупого на сны забытья.
Только сейчас в голову Лю пришло, что разбудить его с утра зачем-то попросила жена. Очевидно, у него было какое-то неотложное дело, про которое он до сих пор не мог вспомнить. Поэтому-то девушка-будильник по ту сторону телефонной трубки так удивилась, когда он отказался вызывать такси.
Его внимание от воспоминаний снова переметнулось к чертовски странно пахнущему пальцу: он поковырялся длинными ногтями настоящего интеллигента на стыке пластыря и с поразительной мягкостью отлепил липкую полоску.
Лю отпрянул. Точнее говоря, он бы очень хотел отпрянуть, но палец был частью его руки, а рука крепилась к телу, и отпрянуть от всего этого было затруднительно.
В первую очередь его поразил запах: лёгкая сладость, которую он почувствовал в самом начале, превратилась в острый запах мясной гнили. А то, что предстало его глазам, было ещё тревожнее: место пореза и всё, что было под пластырем, было покрыто влажно поблёскивающим коричнево-черным пушком. Он точно помнил, что где-то уже видел такой пушок. Мгновение и в его голове всплыл образ его новенькой квартиры, отремонтированной по последней моде буквально прошлым летом. А уже в этом январе потолок и окна начали обрастать плесенью – таким же вот чёрным пушком.
Лю пробил холодный пот. Он не понимал, чего толком боится, но предчувствие было поганым.
Он непроизвольно потянулся к чёрному пушку пальцем левой руки, тронул его и почувствовал, что не ощущает упругости тела. Тогда он панически попытался оттереть всю чёрную бахрому указательным и большим пальцами. Она отваливалась кусками и осыпалась на пол. Ему совершенно не было больно. И это было плохо, очень плохо. Он тёр пока не почувствовал что-то твёрдое: поднёс палец к глазам и увидел влажно поблёскивающую желтизну голой костяной фаланги. Он смотрел будто зачарованный. Плесень аккуратно съела всё, что было заклеено пластырем, всю плоть на его пальце шириной в пару сантиметров. Лю замер в остолбенении, совсем как вчерашний растяпа-официант. Ему хотелось кричать, но к горлу подступил тяжёлый комок и крик замер у Вэя в гортани. Он посмотрел на себя в зеркало и увидел влажно поблёскивающую чёрную окантовку вокруг глаз и рта. Тошнота нахлынула с новой силой, Лю бросился к раковине, но не успел сделать даже пары шагов. Жгучая боль в левой части живота согнула его пополам, он упал на колени и начал выблёвывать из себя чёрно-коричневую жижу – вчерашнее пиршество из хого, заросшее, словно брошенный огород, знакомым чёрным пушком.
***
Он вернулся назад к коттеджу спустя примерно час с отвратительной кашей в голове. То, что он увидел в лесу, не укладывалось в понятия простой человеческой логики.
Он бодрым шагом прошёл по аллее, ведущей от дома к поляне. Теперь, при свете дня, он мог оценить её истинные размеры. Поляна представляла собой почти идеальный круг радиусом где-то метров сто. Бретт хорошо видел два выхода из поляны и свои следы, тянущиеся в левое ответвление. Следы были хорошо различимыми, но в то же время рваными и блуждающими, точно их оставил за собой пьяный йети. Бретт последовал за ними по второй аллее – узкому коридору, зажатому между стенами гигантских елей и сосен-великанов. Их стволы выбивались из-под земли необхватными трубами и уходили наверх, истончаясь до изящных беличьих кисточек. И где-то там, в вышине, словно добавляя придирчивые мазки к бело-голубой акварели небесного свода, деревья покачивали своими верхушками размеренно и бесшумно.
До этого момента события развивались по простому и вполне предсказуемому сценарию, преподнося ровно столько сюрпризов, сколько можно ожидать от прогулки по безлюдному лесу. Дальше было хуже. Всё так же идя по своим следам, Бретт отыскал то место, на котором вчерашним вечером у него состоялось первое знакомство с этим лесом. То ли Бретт был распутной девицей, то ли лес не был джентльменом. Так или иначе, их первое свидание закончилось без одежды и в горизонтальном положении.
Любовное ложе представляло собой участок примятого снега, к которому, а точнее говоря от которого вела лишь одна цепочка следов – его вчерашние босые ступни. И всё. Ничего больше. Белоснежно чистый, пушистый снег.
Если тот, кто бросил его здесь, умеет так заметать следы на снегу, то он должен быть, как минимум, Святым Николасом. Чёрт возьми, Спаситель и тот оставлял больше разводов во время своих прогулок по воде.
Всё это выглядело так, будто Бретт просто упал с неба. Плавно опустился и лёг спиной на снег. Но даже эта сумасшедшая, допускающая вероятность существования левитации и инопланетных захватчиков, версия была совершенно неподходящей в данном случае. Бретт стоял посередине той самой вмятины в снегу, что оставило его тело, а прямо над его головой возвышались ветвистые ели. И нигде: ни на них, ни под ними не было сломанных веток. Более того, на всех ветвях разлеглись жирные снежные гусеницы, такие же нетронутые, как и белый ковёр вокруг. Снега на деревьях было так много, что казалось, достаточно даже крикнуть погромче, и он сойдёт вниз настоящей лавиной.
Неправдоподобность ситуации действовала угнетающе. Теперь он в полной мере осознал, что в глубине души, придя сюда, он надеялся найти, если не ответы, то хотя бы намёки на них. Следы его тела, которое кто-то волочил. Отпечатки ботинок тех, кто его нёс. Может быть, удостоверение личности, выпавшее из чьего-то кармана. Или длинную чёрную антенну спутникового телефона, торчащую из сугроба.
Бретт обошёл кругом метров в пять свою ледяную лежанку. Снег среди деревьев был гораздо глубже, чем на аллеях. Местами он доходил до середины бедра. А кое-где был и того глубже. Это лишний раз давало понять, что версия с фантастически ловким заметанием следов была, мягко говоря, никчёмной.
Неожиданно Бретта будто замутило. Крупная дрожь прокатилась по всей земле и его телу, точно рябь по экрану телевизора от усевшейся на антенну вороны.
Землетрясение?.. Или далёкий взрыв?.. Бретт начал непонимающе озираться вокруг в ожидании новых толчков, но больше ничего не происходило. Потом он поднял голову и посмотрел наверх. Снег всё так же лежал на ветвях нетронутыми белыми облаками. Казалось просто невероятным, что такая сильная вибрация не смахнула с ветвей ни снежинки. Бретт набрал полные лёгкие морозного воздуха, а затем с силой вытолкнул его наружу коротким громким «Э-э-э-й!». Пушистые сугробы соскользнули с ветвей, будто поезда, падающие под откос с недостроенного моста, и повисли в солнечном свете мириадами крошечных огоньков.
Бретт задумчиво покачал головой. Он ничего не понимал. Эта краткая прогулка утомила его куда сильнее, чем он на то рассчитывал. Смотреть тут больше было абсолютно не на что, а значительно удлинившиеся тени подсказывали, что ему пора отправляться в обратный путь. На этот раз никакой бодрости он не ощущал. Он поплёлся назад. Он шёл, почти не смотря вперёд, болтаясь внутри одурелых мыслей о свежем хлебе, каменном кольце гор, сжимающемся вокруг дома, словно комната из его недавнего сна, непонятной вибрации и лежанки посреди нетронутого снега. Зайдя в коттедж, он скинул у входа забитую снегом обувь, длинную куртку, перчатки и шапку и чисто механически крикнул: «Эй! Есть кто-нибудь тут?!»
Ватная тишина пустого дома, неприветливая, как взгляд незнакомца – всё, что он получил в ответ. Бретт прошёл на кухню и потянулся было к бутылке коньяка, но, поразмыслив немного, решил, что ясная голова сейчас будет ему более ценным союзником, чем алкогольная невозмутимость. Он налил воды в металлический чайник и поставил его на газ. Открыл холодильник и отшатнулся.
Внутри не было отрубленной человеческой головы с глазами на выкате и языком, завязанным в кандальный узел. Но это служило слабым утешением.
Внутри была ветчина, яйца и молоко. Ещё больше, чем до того, как он приготовил себе завтрак. Кто-то буквально недавно положил сюда всё это. Продукты, использованные им во время готовки, продолжали спокойно лежать на столе.
Бретт ринулся к шкафчику, в котором хранился хлеб, распахнул его и похолодел. Внутри лежало два новых батона. Преодолев секундное оцепенение, Бретт закричал: «Эй! Кто здесь?! Где вы?! Я знаю, что вы тут, чёрт возьми! К чему этот балаган? Выходите! Я видел еду, мать вашу, этого вполне достаточно!..»
Никто не ответил. Тогда Бретт начал метаться по дому, словно полоумный опоссум, бегать из комнаты в комнату, открывать шкафы, отдёргивать шторы, заглядывать под кровати и за диваны. Пусто. Никого. Ни души. Тогда он, даже не надевая куртки, выскочил на улицу и обежал коттедж кругом. Никого. Ничего. Ни одного нового следа, кроме трёх цепочек ведущих от дома в аллею и обратно. Одна вчерашняя и две сегодняшних. Все его.
«Кто-то мог прийти прямо по моим следам!..» – подумал Бретт, понимая в глубине души, насколько параноидальной была подобная мысль, но не имея никаких сил заставить её заткнуться. Он побежал ко входу в аллею, плохо соображая, что делает. Он бежал без шапки и куртки в едва разразившихся сумерках и смотрел только вниз, только под ноги, лишь изредка панически вскидывая голову, чтобы убедиться, что ни какое встречное дерево не собирается в следующее мгновение разбить ему лицо. Он изучал каждый след, силясь разглядеть признаки второго отпечатка или найти ответвление в сторону. Где-то, где-то должно быть ответвление! Но ничего не было. Бретт добежал до самой своей снежной лежанки и только тогда очнулся от заглотившей его целиком паранойи. Он огляделся вокруг и понял, что солнце почти село. Он стоял на том самом месте, где нашёл себя вчера, почти в то же самое время, и голова у него страшно мёрзла. Все его дневные надежды не оказаться в лесу в темноте и холоде пошли прахом. Он выругался, громко, длинно и крайне вульгарно, а затем развернулся и что было сил побежал обратно к дому. Инстинкт самосохранения говорил ему почти вслух: сегодня ему ни за что нельзя снова оказаться в этом лесу в темноте.
Подбегая к дому, Бретт заметил, что в окнах гостиной горит свет. В отличие от вчерашнего вечера сейчас это выглядело лишь отчасти приветливо. И в куда большей степени тревожно. Бретт не мог припомнить, был ли зажжён свет с утра и выключал ли он его перед уходом. Скорее всего, «нет» и «нет». По законам булевой логики – а также любой другой, кроме логики затянувшегося ночного кошмара, это двойное отрицание должно было дать Бретту тёмные окна. Тем не менее, свет горел. Быть может, конечно, дом просто-напросто был оборудован системой автоматического включения освещения, словно заправский городской фонарь. Это до открытия электричества фонари на улицах были сплошь керосиновыми и масляными. Коптилки, а не осветительные приборы. Никаких датчиков света в те времена не было и подавно, а потому в штате каждого городского управления числились целые фонарные команды – бригады работников, занятых исключительно проблемами уличного освещения: следящих за исправностью фонарей, зажигающих их по вечерам и гасящих с приходом рассвета. Помимо исполнения своих прямых обязанностей фонарщики известны ещё и тем, что некогда имели большую популярность среди поэтов и писателей. Не в качестве половых партнёров, конечно, а как персонажи, преисполненные символизма. Образ человека, несущего свет, – что может быть возвышеннее? Простые люди, однако, никогда не были склонны излишне романтизировать представителей данной профессии. Скорее наоборот. Тускло горящий фонарь, а масляные фонари горят тускло a priori, был извечным поводом обвинить фонарщиков в воровстве… Чёрт!
Бретт поморщился, поймав себя на том, что лишь тщетно пытается похоронить растущий внутри страх под ворохом пустяковых мыслей. Общее образование, если разобраться, несёт один лишь вред. По крайней мере в случаях амнезии. Оно засоряет голову так безнадёжно, что вместо чего-то реально полезного, скажем, важных подробностей тех событий, что повлекли за собой пресловутую потерю памяти, первым делом на поверхность поднимается какой-нибудь хлам из курса истории.
Он продолжал бежать к окнам, светящимся ярче и ярче с каждой новой секундой уходящего на покой дня. Что-то не вязалось. Что-то не складывалось. На ум полезли призраки, зажигающие свет в доме длинными окровавленными шестами. Бретт споткнулся о свою же ногу и рухнул вперёд, зарывшись в снег лицом. Дерьмо! Дерьмодерьмодерьмо… Это был идеальный момент для нападения. Он зажмурился, предвкушая тяжёлый удар в затылок, но секунды бежали вперёд, он лежал в холодном снегу, а никто не собирался его бить. Никто не хотел его спасать, никто не хотел его бить. Всем было на него плевать. Краснея от своей глупой, эгоцентричной мнительности, Бретт поднялся на ноги, отряхнулся и пошёл вперёд. На этот раз без единой мысли в голове. Даже фонарщики, и те куда-то разбежались…
Он добрался до двери, вошёл внутрь и уже без всякой надежды, не слишком громко позвал «когонибудьктоздесьесть». Затем скинул ботинки, доплёлся до дивана и рухнул на плед. Ставшие теперь ежедневными пробежки на чересчур свежем воздухе хорошенько вымотали его, а тепло и спокойствие дома добавили последнюю каплю. Не успел Бретт сам того заметить, как он уже тихонько похрапывал, сидя на диване.
Он проснулся минут через двадцать и ещё минут пять пытался понять, где он, и кто он. Наконец, то немногое, что он знал о себе на данный момент, неохотно вернулось в его голову. Он чувствовал себя невообразимо уставшим, будто всю ночь разгружал вагоны с двухместными водяными матрасами. Его блуждающий полусонный взгляд наткнулся на ту самую распечатку, которую он приметил ещё утром.
«Лучше места и времени для развлекательного чтения просто не найти,» – подумал Бретт и открыл первую страницу.
***
Вторая чёрная смерть – так впоследствии будут называть эпидемию чёрной плесени лю:эм (lv:m – Lv Pei mold), официально начавшуюся более ста лет назад. По масштабам и смертности она переплюнула свою старшую китайскую сестру, чуму, за первые десять дней активной стадии, с той же непринуждённостью, с какой долгожданная пятая часть блокбастера про гигантских боевых роботов в первый же уик-энд показа затыкает за пояс годовые кассовые сборы независимой документалки о социальных и экологических проблемах, вызванных потребительством.
Лю Пэй и его семья считаются первыми заболевшими. Однако почти в одно время с ними было зарегистрировано ещё более тысячи случаев: в самом Пекине, Харбине, Шанхае и Гонконге, в Бангкоке, Куала-Лумпуре и Сингапуре. И более миллиона случаев к концу того дня.
Этот крайне патогенный штамм, предположительно, обычной бытовой плесени вида Аспергилл чёрный (Aspergillus niger) заражал своих жертв спорами. Причём для заражения совсем не обязательно было их вдыхать: в большинстве случаев было достаточно, чтобы споры, в самом незначительно количестве, попали на поверхность кожи. Или любого другого органического материала.
Первичный рост происходил внутри заражённого объекта. Спора закреплялась на поверхности и пускала корни. Только после того, как инкубационная стадия подходила к концу, признаки заражения распространялись по самому объекту. Наступала фаза плодоношения. Лёгкая чёрно-коричневая бахрома в первую очередь появлялась на свежих ранах и на всех слизистых: в глазах, во рту и на половых органах. К тому времени количество плесени во всех внутренних органах, в том числе кишечнике, желудке и мозге заболевшего становилось критическим. Основным симптомами для живых существ, ещё живых на этой стадии, являлись удушье, вследствие поражения лёгких и красных кровяных телец, способных переносить кислород; чудовищные головные боли, вследствие массированной гибели клеток мозга; а также страшная диарея и почти не прекращающаяся рвота, вследствие отравления метаболитами гриба. Заболевшие не издавали слишком уж много страшных воплей или стонов. В основном, только потому, что их рты были чересчур заняты. Животные и растения тоже погибали молча: они густо зарастали чёрным пухом и постепенно просто исчезали под ним. Плесень съедала их, а после высыхала, превращаясь в невесомую пыль, в миллиарды спор, которые разносились на километры и километры любым лёгким дуновением ветра.
С каждым днём скорость развития лю:эм росла по графику, очень похожему на городскую линию Куала-Лумпура, каким он был в начале двадцать первого века. С нуля на грязном полу одноэтажных лачуг до шести миллиардов на упругой кровати пентхауса башни Петронас. Одиннадцать миллиардов покрытых чёрной бахромой людей за двадцать дней.
Одним из последних был зарегистрирован случай нью-йоркского врача-эпидемиолога, профессора Вильяма Беркмана. Во время осмотра очередного пациента в передвижном госпитале, развёрнутом прямо посреди Центрального парка, доктор Беркман споткнулся и порвал о ветку рукав защитного комбинезона. Пострадал только комбинезон, никаких повреждений на теле обнаружено не было. Уже через две минуты профессор был в дезинфекционной камере совершенно голым. Его обрабатывали увеличенной до предела дозой ультрафиолета и озона. Единственными из обнаруженных способов, подавляющих рост лю:эм. Через четыре минуты Вильям Беркман был полностью покрыт плесенью и выворачивал на белый пластиковый пол содержимое своего желудка. Коричневое и пушистое. Спустя пять минут с момента его помещения в камеру наблюдатели зафиксировали смерть доктора Беркмана. Часом позже открылись двери большой ядерной печки, в кото…
«Занимательное чтивце,» – подумал Бретт и положил стопку бумаг на колени. Хотелось саркастически хмыкнуть над этой белибердой, но какое-то неприятное предчувствие не дало ему попросту отмахнуться. В голове шевелились почти бессвязные обрывки мыслей, куски измочаленных воспоминаний. Будто он уже где-то слышал всё это: историю китайца Лю и это до нелепости фантастическое повествование об эпидемии мировых масштабов. Он верил в интуицию, но своим глазам он верил куда больше, а мир вокруг совершенно не выглядел результатом «открытой ядерной печки». Скорее уж результатом ещё более утопической ядерной зимы. Да и то, тогда вокруг должны были бы лежать сугробы пепла, а не пушистого снега. Наверное…
Внезапно у Бретта заболела голова. Так сильно, будто кто-то приложился к затылку ломиком. Он снова почувствовал необъяснимую глубинную вибрацию, которая, как отголоски затухающего землетрясение, прошла сквозь всё его тело. Он крепко зажмурился, пережидая спазм, и на автомате перевернул страницу. Через несколько секунд боль поутихла, и Бретт открыл глаза. То, что он увидел перед собой, заставило головную боль вернуться в троекратном размере. Новая страница была пустой. Почти пустой. Посреди неё было напечатано лишь несколько слов:
«Янг, пожалуйста, будь вежливее с гостем».
И чуть ниже:
«Гость, пожалуйста, будь осторожнее с хозяином».
Бретт просидел, пялясь на эти две короткие строчки, минут десять. Он силился понять их смысл, тайный, двойной, тройной, но ничего определённого не приходило на ум. Он пытался сформулировать для себя, что же может значить для него само наличие этого текста. Что о нём знали? Что он здесь не случайно? Настроение читать бесследно пропало.
После всех заморочек, нестыковок и странностей этого дня Бретт так толком и не пришёл к решению, что ему делать, и делать ли что-то вообще. Похоже, что всё шло по плану. Только план был не его. И понять, как бы ему не подыгрывать этим таинственным планировщикам, было обескураживающе непросто. Бретт поужинал хлебом с сыром и ветчиной, выпил кружку чая с молоком. Потом отыскал в ванной самую новую на вид зубную щётку, хорошенько промыл её под горячей водой и почистил зубы.
Удивительное существо – человек. Вчера он лишился памяти и едва не умер от обморожения посреди леса, а сегодня уже думает, как бы защититься от зубного налёта и при этом проглотить минимум чужой слюны. Желание наполнить своё время рутинными задачами, стремление к привычной норме, к ритуалам, соответствующим обычной, относительно безопасной жизни – мощный защитный рефлекс, способный абстрагировать сознание даже от самой болезненной и опасной ситуации.
Чистя зубы, он рассматривал своё отражение в зеркале. Оно вовсе не казалось ему посторонним. Это был знакомый и даже родной образ, который в данный момент неплохо соответствовал его представлениям о самом себе. Несмотря даже на то, что вспомнить чего-либо конкретного из своей прошлой жизни он сейчас не мог. Бретт прополоскал рот, смыл пенную бороду и ещё раз внимательно изучил своё отражение. Каштановые волосы, серо-голубые глаза, щетина то ли двух, то ли пятидневной давности, в зависимости от его способностей к воспроизводству растительности на лице. Можно было даже сделать пару предположений относительно его возраста, вот только погрешность такого рода догадок по-прежнему оставалась далеко за гранью достоверности. Небольшие морщины, несколько седых волос… Скажем, от тридцати до сорока.
Бретт порылся в шкафчиках, нашёл большое махровое полотенце, повесил его на крючок и зашёл в душевую кабину. Он простоял минут двадцать под тугими струями горячей воды, радуясь ощущению чистоты и обволакивающего тепла, пока навязчивые мысли не полезли в голову с новой силой. Откуда здесь, посреди леса, горячая вода? С таким-то напором?.. Где, черт побери, ближайший город, если сюда смогли протянуть ветку водопровода? Он не слышал гула насоса, значит, это не могла быть скважина. Это был самый настоящий водопровод.
Бретт закрыл кран, вытерся насухо полотенцем и вышел в гостиную. Там он лёг на диван, натянул на себя плед и уже через две минуты спал. Секунд тридцать он потратил на то, чтобы поудобнее устроиться и ещё полторы минуты на мысли о том, стоит ли запереть входную дверь, стоит ли взять из кухни нож и надо ли спать с ним под подушкой. Однако осознание бессмысленности этих действий победило. Всё шло по плану. И план был не его. Если бы кому-то хотелось, чтобы он был мёртв, он бы уже был. А пока у него имелось куда больше шансов пропороть себе ножом щёку во время беспокойного сна и умереть от потери крови. Так что, катись-ка оно всё к чёрту…
Следующим утром, он проснулся с первыми лучами солнца. Светлое время было драгоценностью и его стоило употребить на исследование здешних мест. Бретт приготовил себя плотный завтрак, как потерянный в детстве брат-близнец похожий на вчерашние завтрак и ужин, соединённые вместе и умноженные на полтора. Или на два. Ему сегодня понадобится много сил.
Затем он неторопливо оделся, добавил к своему образу дополнительный слой тёплого термобелья, и отправился в путь. Погода стояла великолепная. Холодно, но терпимо. Очень солнечно и совершенно безветренно. Точно такая же погода, как вчера. Выйдя из дома, Бретт огляделся вокруг, но всё новое и интересное в панике попряталось по кустам. Его следы были на месте, чужих следов не добавилось.
Бретт добрался по аллее до большой поляны, но на этот раз повернул направо и пошёл в ту часть, где ещё не бывал раньше. Он старательно запоминал, где ходит, чтобы при необходимости впоследствии отличить свои следы от чужих. С этой же целью, он внимательно изучил рисунок протектора своей обуви на снегу и замерил ладонью длину и ширину отпечатка, лишь через мгновение осознав, что гораздо удобнее будет просто наступить своей ногой рядом с сомнительным следом и визуально оценить разницу.
Спустя минут тридцать бодрой ходьбы, благо снег не был уж очень глубоким, Бретт наткнулся на каменную стену гор. Отнюдь не занебесных – всего-то метров в пятнадцать-двадцать высотой, но всё же достаточно высоких и крутых, чтобы стать непреодолимой преградой. Если не найти в них проход, то без спецоборудования и спецумений отсюда не выбраться – есть способы самоубийства и поприятнее.
Самым разумным решением было идти вдоль этой скалистой гряды в поисках расщелины или некрутого участка, пригодного для штурма. Повинуясь внутреннему чутью, Бретт развернулся и пошёл направо.
Чутьё не подвело. Примерно через час пути он натолкнулся на широченный проход в стене, шириной метров в двадцать. Сердце учащённо забилось. Сознание захлестнуло предчувствие того, что решение рядом. Бретт подбежал к проходу, заглянул в него и не раздумывая пошёл вперёд. По обеим сторонам всё так же тянулись скалы, а минут через сорок быстрой, нервной ходьбы Бретт смог отчётливо различить за отдалёнными деревьями впереди себя что-то, неприятно похожее на всё ту же каменную стену. В подступающем отчаянии Бретт перешёл с шага на бег. Он добежал почти вплотную к скале. Ошибки не было: это был не проход, а лишь небольшой аппендикс, сорокаминутный тупик, не более того. Бретт разразился потоком брани, настолько непечатной, насколько это вообще возможно. Поразительно, он даже фамилию свою вспомнить не мог, но вот ругательства во всех видах и формах просились на язык сами собой. Твою же грёбанную мать, неужели до того, как заснуть в сугробе, он всё-таки был плохим человеком?
Бретт вернулся назад, к самому началу этого ответвления, и снова побрёл вдоль стены. В течение следующих четырёх часов ему попалось ещё пять аппендиксов: три минут по двадцать, один почти часовой и один, съевший добрых полтора часа отведённого ему природой солнечного света. После третьего такого отростка, Бретт своими руками задушил, кремировал и развеял по ветру всякую надежду отыскать в одном из них проход, но пройти мимо был просто неспособен. Он хорошо понимал, что не сможет спокойно спать, зная, что пропустил хоть сто метров этой проклятой скалы.
Живая тишина леса поглощала все его мысли, оставляя голову пустой и свежей. Несколько раз вдалеке, среди стволов и низких ветвей Бретту чудилось движение. Но ощущение это пропадало так же быстро, как появлялось, пока, наконец, раз на седьмой Бретт не смог разглядеть источник. Это было какое-то крупное животное: лось или олень. Оно стояло за деревьями метрах в трёхстах. Бретт остановился, укрылся за ближайшей сосной и стал завороженно наблюдать. Животное срывало кору с дерева и грызло её, мотая большой рогатой головой. Даже его обыденные и отчасти комичные движения были наполнены неподдельной грацией. Спустя пару минут животное замерло, будто почуяв что-то, чего Бретт не мог ни слышать, ни видеть – возможно, его самого – и опрометью бросилось прочь. Бретт улыбнулся. Отчего-то наличие живых существ в этом лесу само по себе действовало успокаивающе. Конечно, не всяких живых существ. Наличие волков, скажем, или медведя-шатуна было бы очень трудно переоценить… Бретт ещё раз посмотрел в ту сторону, куда умчался озадаченный зверь, потом с сомнением глянул на солнце и продолжил свой путь.
Всё это время каменная гряда тянулась и тянулась по левую руку, почти вертикальная, почти не меняющая своей высоты. Безжизненно голая, красновато-серая, местами укрытая снегом, местами заросшая деревьями, которые будто бы тоже хотели переползти через неё и сбежать. Всякий раз, видя такие деревья, Бретт оценивающе оглядывал их, но ни в одном месте они не доходили даже до середины горы, а потому вряд ли бы помогли ему забраться на самый верх.
На шестой час ходьбы Бретт наткнулся на свои следы.
Туннеля не было, ущелья не было, и низкого участка тоже не обнаружилось.
Бретт не разрыдался как ребёнок только потому, что за последний час уже потерял всякую веру в успех и с большим нетерпением высматривал не проход среди скал, а свои собственные следы. Они означали бы, что на сегодня можно закончить. Он вымотался насмерть и мог думать только о коньяке, горячем кофе и чём-нибудь съедобном. Такой конец его импровизированной экспедиции уже давно стал казаться ему закономерным. Его жизнь не висела на волоске, у него было и пристанище, и еда, а вот сил у него на данный момент совсем не осталось. Завтра можно будет подумать о чём-то новом. Например, поискать поляны, достаточно большие для приземления вертолёта, или спелеологическое оборудование в доме.
Он был неправ в своей первоначальной догадке: каменная стена не окружала коттедж кольцом. Это было бы, пожалуй, слишком незамысловато. Нет, горы раскорячились вокруг настоящей амёбой, вытянувшей сразу шесть своих ложноножек разной длины во всех возможных направлениях.
Благодаря раннему подъёму у Бретта в запасе было ещё достаточно времени. Солнце едва-едва свалилось со своего пьедестала и только начало путь к линии горизонта, прочерченной стеной гор и макушками особенно высоких деревьев. Бретт вернулся к жилью засветло. Перекусил и рухнул на диван. Вчерашняя книжка валялась на полу. Она была, конечно, занимательной, но дочитывать её нисколько не хотелось. Бретт только дотянулся до неё и пролистал несколько страниц, чтобы проверить, на месте ли те две строчки посреди пустой страницы. Они были на месте.
Напротив дивана висела большая телепанель, раза в четыре больше, чем на кухне.
«Раз тут есть водопровод, то и телевещание, наверняка, тоже есть,» – решил Бретт.
Он осмотрелся вокруг в поисках пульта, но не смог найти ничего даже отдалённо похожего. Тогда он подошёл к панели и изучил её на предмет наличия кнопок. Кнопки отсутствовали. Бретт озадачено нахмурился. Затем ведомый каким-то непреодолимым инстинктом, сравнимым разве что с желанием отдёрнуть руку от горячего, Бретт поднёс ладонь к экрану и щёлкнул пальцем по центру панели. Панель ожила белым светом, сменившимся через секунду движущимися картинками. Бретт не мог сказать, откуда он знает, что надо делать. Но в этом сейчас не было ничего чересчур удивительного. Ведь на настоящий момент, он не помнил даже имён своих родителей. Бретт вернулся к дивану и уставился на панель. Экран заполнила беспокойная свинцовая гладь океана под нависшими облаками.
Из невидимых динамиков донёсся приторно бодрый женский голос:
«После катастрофы авиация устарела. Эпидемия лю:эм не жалела никого: люди гибли в кроватях, в своих автомобилях, по дороге на работу и на самой работе. Жертвами лю:эм стали и ответственные работники многих термоядерных станций. Тепловые выбросы вышедших из-под человеческого контроля терм:с вызвали массированные изменения в атмосфере за счёт многократно ускорившегося таяния ледников. Нашу планету окутал толстый слой облаков, сделавших все авиаперелёты недоступными даже в самой дальней перспективе. В то же время радиоактивное заражение обширных территорий привело к невозможности использования любых существующих ранее видов наземного транспорта для перемещения на большие дистанции.»
Невидимая камера нырнула в толщу воды, пробралась сквозь тёмно-серое, наполненное редкими пузырьками воздуха, пространство и уткнулась в бесконечную бетонную трубу. Надвинулась вплотную к её поверхности и с лёгкостью прошла внутрь. Внутри труба была гладкой и сверкающей, будто покрытой тонким слоем ртути, и разделённой двумя чёрными матовыми линиями пополам, на верхнюю и нижнюю часть.
Голос снова ожил в динамиках, расположенных где-то в комнате:
«Вэм:т – система вакуумного электромагнитного туннельного транспорта, соединяющая все спальные районы и все стратегически важные промышленные зоны нашей планеты, была построена совместными силами всех граждан Орес
в поразительно короткие сроки.»
Голос умолк на секунду, а комната наполнилась помпезной музыкой и густым электрическим рокотом. По экрану от края до края пронеслась вереница блестящих металлических капсул, связанных друг с другом гибкими участками такого же серебристого цвета. Капсулы по форме идеально повторяли контуры трубы, по сути, являя собой кусок другой трубы, внешний радиус которой был, наверное, лишь на несколько микронов меньше, чем внутренний радиус самого туннеля. Пока капсулы двигались по центру экрана, камера успела нырнуть внутрь одной из них и показать десятки людей, лежащих на двух этажах узких, но мягких на вид кроватей, вмонтированных по обе стороны от коридора. Высотой капсула была раза в полтора-два больше человеческого роста, а снаружи и того больше.
Голос тем временем продолжал:
«Строительство вэм:т стало самым значимым и масштабным проектом в истории нашего молодого государства. Вэм:т позволило людям снова начать путешествовать, передвигаясь на огромные расстояния за короткое время.
От Британской Колумбии Центр до Париж Север всего за семь часов. От Петербург Север до Вайкато Центр всего за восемь часов. От Хельсинки Юг до Промзоны-32 всего за три часа. От Промзоны-43 до Гранд-Форкс Запад всего за пять часов. От спальных районов до промышленных зон и обратно, на работу и домой, под землёй и водой, туннели вэм:т доставят вас в целости и сохранности. Всегда и везде строго по расписанию!
Во время всех путешествий пассажирам вэм:т настоятельно рекомендуется с комфортом расположиться на своих местах и в своих про:о и с пользой и интересом провести эти недолгие часы.»
В голове у Бретта разгорался огонёк. Маленький язычок пламени, приютившийся среди соломы на дне коробки с боеприпасами. Что-то изменилось. Он начал вспоминать. Он помнил, как ездил в этих огромных капсулах, как лежал пристёгнутым на этих кроватях, помнил их упругость и давящую силу широких ремней безопасности на плечах…
Огонёк добрался до картонной оболочки ближайшего патрона и начал жадно вгрызаться вглубь.
Бретт, словно боксёр в состоянии грогги, был погружен в яркие обрывки воспоминаний, силящихся слиться в одно, логически связанное повествование. Он спускается вниз по бесконечно длинному эскалатору, входит внутрь вагона. Вагон полон, нет ни одного пустого места. Работники в тёмно-коричневой форме подходят к пассажирам, и те один за другим теряют сознание, плотно прижатые ремнями к своим лежачим местам. Один коричневый силуэт оказывается прямо над Бреттом. Он говорит: вы нарушаете федеральные правила перевозки, будьте добры пристегнуться, закрыть глаза и произнести свой…
Красно-жёлтое пламя, едва-едва касаясь своим острым язычком, лизнуло первые крупинки пороха внутри снаряда. Белый свет. Толща звуков. Тишина.
Капсула пролетела мимо и устремилась вперёд, а камера понеслась по блестящему туннелю за ней вдогонку. А по левому краю экрана пополз список каких-то названий. Станций, судя по всему. Вайкато Центр, Виктория Север, Промзона-01, Промзона-02, Промзона-11, Промзона-12, Промзона-13, Промзона-14, Промзона-15, Промзона-16, Промзона-25, Промзона-24, Промзона-23, Промзона-22, Промзона-21, Урал Юг, Москва Новгород Центр, Петербург Север, Промзона-31, Промзона-32, Промзона-33, Промзона-34, Промзона-35, Хельсинки Юг, Осло Центр, Минск Центр, Варшава Центр, Дортмунд Центр, Париж Север, Нортгемптон Центр, Талламор Центр, Рейкьявик Юг, Промзона-41, Промзона-42, Промзона-43, Промзона-44, Промзона-45, Промзона-46, Гранд-Форкс Запад, Монтана Центр, Спокан Юг, Саскатун Север, Эдмонтон Север, Британская Колумбия Центр.
Когда последняя строчка неторопливо скрылась за верхней границей телепанели, Бретт случайно, или следуя внезапно обострившимся чувствам, вынырнул из своего забытья. В первые секунды он никак не мог понять, что же так отвлекло и насторожило его. Что дало бодрость всем мыслям и не унимающееся покалывание пальцам рук. И тут он заметил – а скорее, даже ощутил – на самом краю периферийного зрения присутствие рядом кого-то ещё.
***
Перенаселение неплохо подготовило человечество к катастрофе. Выжженные земли не могли дать ни достаточно свежего воздуха, ни еды. Атмосфера и океаны были отравлены. Но уже были изобретены и десятилетиями ранее применялись пищевые синтезаторы, генераторы кислорода и мощнейшие системы очистки воздуха и воды. Оставался лишь вопрос ресурсов. Ископаемых и человеческих. Ископаемых человеческих было вдоволь.
История того, как выжившие нации пришли к относительному равенству и согласию, не была ни быстрой, ни сказочной. Всё, что сейчас есть у нас, пришло через труд и споры. Тяжёлый труд последних выживших людей и споры лю:эм.
Лю:эм стала концом оригинальной человеческой цивилизации, берущей свои истоки от начала времён. Она остановила прогресс и стала прямой и косвенной причиной чудовищного ущерба, нанесённого всем экосистемам нашей планеты. Если сравнить процесс развития человечества с вечеринкой, то все масштабные мировые явления: войны, экономические кризисы, природные и техногенные катастрофы – будут подобны царапинам на поверхности виниловой пластинки, с которой играет музыка: одни глубже и длиннее, другие шире и короче, а третьи вообще и не царапины вовсе, а так, следы от жирных пальцев. Все они, безусловно, влияют на качество звука, но иголка бежит даже по глубоким рытвинам, и музыка продолжает звучать, иногда хрипя, иногда отчаянно фальшивя. Лю:эм же была подобна пьяной идиотке, которая в угаре танца налетела на проигрыватель. Удар был настолько ощутимым, что на несколько мгновений иголка подлетела в воздух, и зал окутала тревожная тишина. Затем иголка вновь коснулась поверхности пластинки, но уже в совершенно другом месте. И заиграла совсем другая мелодия.
Вечеринка продолжается, но это уже не та вечеринка, что была раньше. Да и большинство людей успело разойтись.
Но хуже всего то, что в этой катастрофе планетарных масштабов мы не научились ничему. Мы совсем ничего не узнали. Начнись подобное завтра, и мы снова ляжем умирать.
У нас не осталось почти никакой существенной информации о событиях тех дней, несмотря на всё многообразие облачных хранилищ данных и несметное количество видеокамер, встроенных, как казалось, даже в унитаз. Конечно, благодаря такому обилию цифровой видеотехники в руках у испуганных ротозеев, у нас есть сотни часов панического бега с разным количеством участников, тысячи прощальных сообщений, оставленных близким, и миллионы кадров предсмертных конвульсий умирающих от лю:эм.
Ещё есть официальная хроника, но она скудна, как Большая евразийская пустыня. В ней лишь пара сотен очень известных фотографий и монотонный дикторский голос, который туманно, но грозно повествует о тех давних событиях. Скучнейшее слайд-шоу. И каждый из ныне живущих видел его уже, наверное, миллион раз.
Во времена до лю:эм планета не просто задыхалась от перенаселения, она поминутно давилась новыми детьми. Плотность населения была рекордной, и каждый новый год, каждый новый день бил этот рекорд. Избыток людей чувствовался повсюду. Переполнены были не только мегаполисы, но и относительно свободная ранее сельская местность.
Однако, несмотря на это, предсказываемые проблемы нехватки чистого воздуха, питьевой воды и продовольствия, так же широко известные в то время, как Всемирные Удушье, Жажда и Голод, были ещё задолго полностью разрешены за счёт масштабных систем очистки и промышленного синтеза продуктов питания. Синтез и очистка были чудовищно энергоёмкими процессами, и для обеспечения их непрерывной работы во всем мире было построено более ста термоядерных электростанций.
Единственной действительно ощутимой проблемой оставалась нехватка физического пространства: городам приходилось ползти вверх и врастать в землю, а учёные вовсю работали над планами по терраморфированию, которое должно было начаться с малопригодных для жизни регионов нашей планеты вроде Гренландии, северной Сибири и Аляски и закончиться где-нибудь в районе Луны, Венеры и Марса.
Официальная версия говорит, что эпидемия нахлынула на мир столь сильным потоком, что большинство людей умирало, даже не узнав о появившейся опасности. Люди гибли мучительно и быстро. Болезнь в активной стадии съедала человека буквально за час, и обслуживающий персонал некоторых терм:с умер прямо на полу у пультов управления, так и не успев перевести станции в безопасный режим. В те дни станции считались беспрецедентно надёжными, проверенными десятилетиями идеальной работы, источниками энергии для всего мира. Однако, судя по тому, во что превратилась планета, из-под контроля они всё-таки вышли.
Куда менее официальная версия говорит, что члены наспех сформированного Всемирного совета безопасности и здравоохранения испугались так сильно, что даже не попытались что-либо исследовать. Они отдали приказ нанести ракетный удар по ключевым континентальным терм:с в заражённых областях или областях близких к ним сразу после того, как стала известна предварительная оценка скорости распространения эпидемии. Достоверно известно о взрывах терм:с в Азии и Океании, Африке, на востоке России, в Южной Америке и на юге Северной. Точное количество реально детонировавших терм:с до сих пор неопределённо. На территории промзон по настоящий день находят неповреждённые станции, отключенные и законсервированные по всем предписанным правилам.
Точечный ракетный удар, это, пожалуй, единственное реалистичное объяснение такому ловкому выходу из-под контроля этих надёжных сверх всякой меры систем. И не какой-нибудь штатный выход из-под контроля, а такой, что привёл к взрыву. В самой маленькой из таких станций находилось до шестидесяти тонн активного вещества, а в станциях-гигантах было тонн под триста.
Ещё более неприятная версия звучит так: они не испугались, они заметали следы. Никому не нужно было изучать причины эпидемии, потому что её штамм был в пробирке у этих самых исследователей ещё до первых истеричных криков по всем новостным каналам и маленьких мумий, покрытых бархатистой на вид коричнево-чёрной вуалью.
Миллиарды людей погибли в той эпидемии, а мы просто сожгли всё дотла. Нет, не мы, конечно. Они. Люди тех дней. И не простые очевидцы событий, не жертвы и чудом уцелевшие, а исполнители и верхушка, принимающая решения. Кто-то из них тогда, сто шесть лет назад, отдал приказ нажать на кнопку. На комбинацию кнопок, указывающих местоположение терм:с в качестве координат цели.
Но скорее всего это была смесь запланированной чистки следов и панического бегства от голема, сотворённого собственными руками. Эпидемия чёрной плесени началась во время октябрьской «Золотой недели» в Пекине сто шесть лет назад, а оттуда потекла по всему Китаю, всей Азии и Океании, перекинулась на Африку, слизнула восточную часть России, перебралась в Южную Америку и уничтожила там всё, до чего дотянулась. Остановлена она была уже глубоко на территории Северной Америки и на границе Уральских гор в Евразии, оставив нетронутыми только Новую Зеландию, Антарктиду, Гренландию и Исландию.
Эпидемия поразила не только людей. Плесень с удовольствием селилась и размножалась в животных и растениях, любой органике и даже на поверхности большинства неорганических материалов. Вот только к людям она была беспредельно разборчива. Её избирательность в первую очередь касалась монголоидной расы, которая за время эпидемии была истреблена почти полностью. Из девяти миллиардов осталось только сто миллионов, причём шесть миллиардов погибло от самой болезни, а не от попыток её «прижигания».
Рукотворность этого заболевания так же косвенно подтверждается сохранившимся журналом статистики заболевших Каирского центра эпидемиологии. Сами статистические данные пациентов были утеряны, но уцелело общее заключение по результатам обработанной информации. В своём кратком анализе статистики фельдшер К. Мун (имя не сохранилось), указывает на возможность того, что заболевание активировалось неким неявным генетическим маркером, характерным для подавляющего числа азиатов.
Однако история показала, что на практике определённое число представителей монголоидной расы было лишено этого маркера напрочь или имело его в видоизменённом состоянии. В то время как цепочки ДНК у внушительной части представителей других рас, и европеоидов, и негроидов, содержали искомый маркер в заданном виде.
Болезнь уничтожила почти всё население Азии, на что, скорее всего, и был расчёт её создателей, если придерживаться версии со злым умыслом, и большую часть населения других континентов, на что, судя по всему, план не распространялся. При этом в живых осталось существенное количество представителей монголоидной расы и в Евразии, и в Северной Америке. Что, как мы можем понять сейчас, тоже вряд ли могло быть частью оригинальной задумки.
Говоря проще, несмотря на всю избирательность болезни, чисто внешне она мало, что поменяла в национальном составе населения Земли. Да, количество людей сократилось в тридцать с лишним раз. Да, пропорции тоже сменились. На смену количественному главенству азиатов, индийцев и арабов пришло преобладание европеоидов и представителей африканской расы. Но, если прогуляться по любому из современных мегаполисов, то можно с лёгкостью встретить и китайцев, и русских, итальянцев, поляков, американцев, непальцев, канадцев, японцев. Да, кого угодно. В любом случае, определить наверняка будет крайне непросто. Всё это лишь старые названия. Большинство рас и наций смешалось ещё до катастрофы, в период пика глобализации, и лишь очень немногие фанатики до сих пор строго придерживаются своих исконных национальностей.
Взрывы терм:с вызывающе точно совпадают с датами проникновения заболевания в европейскую часть России и вглубь Северной Америки. Что тоже можно прочитать между строк следующим образом: как только создатели увидели, что их творение может принести гибель и им самим, они решили, что болезнь следует сжечь.
Вместе с заражёнными в термоядерной печке сгорело огромное число здоровых или официально здоровых людей – так в средневековье больному с воспалённым ногтем отсекали всю кисть, чтобы сохранить руку.
Конечно, в то время в азиатско-тихоокеанском регионе проживало достаточное число и европейцев, и африканцев, и русских, и американцев, но всё же их численность была, по сути, каплей в море, а потому заметить их смерть от болезни в дикой суматохе пандемии было ой как непросто. Даже для тех, кто знал, куда смотреть.
И они просмотрели. Или до последнего не могли найти достаточно ловкий способ, чтобы пустить в ход ядерное оружие, которое, кстати говоря, опять-таки официально и не использовалось вовсе. Каждая ракета с ядерным зарядом в то время имела уникальный геолокационный номер, и ни одна из них не покинула пусковой шахты. Кто-то вовремя вспомнил о терм:с. В сочетании с точечными ракетными ударами они превращались в прекрасную альтернативу слишком уже опекаемому Мировым советом ядерному оружию.
Весь мир к тому времени уже паниковал от безызвестности, а те, кто всё знал, паниковали ещё сильнее. Вероятно, инфекция разрабатывалась в серьёзной спешке, и лабораторные испытания на обширных людских выборках в виду нехватки времени решили заменить испытаниями полевыми – в масштабе целой планеты. Однако нельзя исключать и возможность банальной утечки из лаборатории. Учитывая патогенность вещества, заразиться ей могли даже очень аккуратные люди.
Другой особенностью лю:эм, помимо избирательности и пресловутой «заразности», был инкубационный период. А, говоря точнее, его необъяснимая динамическая изменчивость, сопровождаемая невозможной по всем законам вероятности точностью синхронизации среди заболевших. У одних заражённых пассивная стадия развития инфекции заняла десять дней, у кого-то неделю, у а некоторых всего несколько часов. Однако спустя всего полчаса после регистрации первого умершего, сообщения о новых жертвах и заболевших посыпались по всем каналам будто звонкие монеты из поломанного игрового автомата.
К тому моменту, когда эпидемия уже слетела с рельсов и понеслась под весёлую статистическую горку не заболевших, регистрировались случаи периода инкубации инфекции всего в несколько минут. Во время инкубационного периода больной чувствовал лишь небольшое, быстро проходящее повышение температуры, без труда укладывающееся в рамки гриппа, простуды или даже лёгкого вечернего недомогания. Болезнь сохраняла заражённых в состоянии великолепной мобильности вплоть до самого последнего часа активной стадии. Она любила путешествовать, и ей были нужны попутчики. Ими в первую очередь стали самые быстро перемещающиеся существа на планете. Люди. Во времена глобализации и сверхзвуковых авиаперелётов даже птицы не могут конкурировать в скорости перемещения с бескрылыми, обтянутыми кожей существами, сидящими в неудобных креслах всех классов обслуживания.
Однако всемирному распространению не суждено было случиться со скоростью беспосадочного перелёта Пекин – Нью-Йорк. За три месяца до регистрации первого случая заражения плесенью лю:эм, вовсю буйствовала другая эпидемия, куда более привычная. В июле того же года в Гонконге произошла пятая за десятилетие вспышка птичьего гриппа. H11N3 быстро распространился по всей густонаселённой Азии. За первую неделю вирус унёс более двухсот тысяч человеческих жизней, из них в совокупности тридцать тысяч в Канаде, США и России, и привёл к введению беспрецедентных мер сдерживания. Движения всех видов пассажирского транспорта из Азиатского региона было временно приостановлено, карантин на все контейнерные суда увеличен с сорока до ста двадцати дней. Самолёты, находящиеся в воздухе, либо разворачивали обратно, либо сажали на самые безлюдные взлётные полосы. Там, в окружении военного оцепления, их дозаправляли и выпроваживали назад под конвоем истребителей. Рейс AF293 Токио – Париж по неизвестным причинам отказался выполнять требования наземного диспетчера произвести посадку на территории Румынии для дозаправки и корректировки маршрута. Спустя двадцать минут криков диспетчера и радиомолчания из кабины пилотов, самолёт вместе со всеми пассажирами был сбит силами ПВО НАТО над горами национального заповедника Ретезат. Ещё два пассажирских авиалайнера было уничтожено в тот же день: один на дальнем востоке России, один над Тихим океаном на подлёте к Лос-Анджелесу.
В октябре того года азиатские страны всё ещё были отрезаны от остального мира и находились под непрерывным мониторингом. Два месяца глобального карантина повлияли на мировую экономику так же, как ампутация рук влияет на работоспособность портного. Правительства КНР, Кореи, Японии и Вьетнама заявляли о готовности к совместному силовому выходу из санитарной блокады. Однако к тому времени уже была разработана вакцина, соответствующая антигенам H11N3, эпидемия пошла на значительный спад, и Всемирный совет поспешил объявить о снятии всех ограничений на перемещение людей и грузов в середине октября. Как известно, официально карантин так никогда и не был снят.
Две недели до возобновления авиаперелётов, чем не причина спешить для тех, кому хотелось выпустить лю:эм на волю в ещё изолированной Азии?
Начавшись в карантинной зоне, лю:эм вскоре достигла новых берегов, несмотря даже на то, что мир ещё никогда не был так подготовлен к эпидемии. Птицы и перемещения воздушных масс оставались свободными от всех человеческих запретов.
Хроника говорит нам, что первой жертвой новой эпидемии был китаец, учитель физики по имени Лю Пэй. Он приехал с семьёй, женой и дочерью, из своего родного города Харбина в столицу КНР в период праздничной недели, приуроченной ко Дню образования республики.
Первыми людьми, взятыми под карантин и умершими под наблюдением врачей, стали жена и дочка Лю Пэя: Мэнг Сяо Цзы и Лю Шао Вэй, – он неожиданно замолчал и закрыл глаза.
Потом устало провёл рукой по лицу и встал.
– Всё, выключай, – сказал он и махнул рукой кому-то в темноте пустого зала. – Будем считать, что пока хватит.
– Выключил, – донеслось с того конца, и красный огонёк тотчас погас.
– Успеете сегодня обработать?
– Конечно, какие вопросы. Там обрабатывать-то нечего, – собеседник довольно хмыкнул. – Добавить только правильную кодировку единых новостных сообщений и готово.
– Отлично. Тогда, как закончите, сразу загружайте по всем адресам, какие есть в реестре, – он подумал и добавил: – И сразу же сообщите мне, когда загрузите. На этот раз я не хочу пропустить реакцию публики.
***
Бретт бесконечно медленно и аккуратно повернул голову в направлении образа, движущегося на самой границе его бокового зрения по тонкой кромке слепого пятна. Он увидел его лишь на секунду и лишь небольшую часть спины: за окном прошёл человек одетый в военную куртку и рыжую меховую шапку. Именно по этой шапке Бретт и опознал его, как одного из людей на фотографии. Охотник. Владелец дома. Вероятно, тот самый Янг… Вернулся, мать его.
Судя по направлению движения, человек шёл к входной двери. Пройти ему оставалось ещё шагов двадцать-тридцать. Не до конца отдавая себе отчёт в разумности своих действий, Бретт вскочил с дивана и бросился к входной двери.
«Наконец-то живой человек, – вопил радостный голос у него в голове. – Хозяин дома. Он-то точно знает, как выбраться отсюда. Я выберусь отсюда. Явыберусьотсюда!..»
«Осторожно…» – неслышно шепнул другой.
Бретт распахнул дверь буквально за секунду до того, как человек в охотничьей одежде дотянулся рукой до дверной ручки. Дальше счёт пошёл на мгновения. Человек замер. Он поднял глаза на Бретта, и его бородатое лицо перекосилось от эмоций: чего-то среднего между сильным удивлением и чудовищным страхом. Если этот человек и был на том общем фото охотников-любителей, что стоит на каминной полке в гостиной, то узнать сейчас его искажённое эмоциями лицо было крайне проблематично. Да и спросить его самого, момент тоже был неудачный.
Затем начали работать рефлексы. Охотник сорвал со спины ружьё и, почти не целясь, выпалил в Бретта сразу из обоих стволов.
Бретт имел небольшую фору: он уже видел этого человека в окне, он знал, что скоро встретится с ним лицом к лицу, а выражение этого самого лица недвусмысленно подсказало Бретту, что действовать надо не раздумывая. Короткая фраза на листе бумаги «Гость, пожалуйста, будь осторожнее с хозяином» тоже не давала повода обольщаться.
В то же время бородатый пал жертвой собственных эмоций. Сначала он буквально замер, испытывая их, а потом ещё и потратил слишком много времени на выплёскивание последних на своё лицо в виде отвешенной челюсти, перекошенного рта и поразительно широко для человеческой особи раскрытых глаз.
Тем не менее его навыки в области стрельбы из огнестрельного оружия были великолепно отработаны, а рефлексы точны, как у боксёра-профессионала под лошадиной дозой кокаина. Бретт уже дёрнулся в сторону, и залп из левого ствола прошёл мимо. Но отстающий на сотые доли секунды выстрел из правого попал в цель. Краем глаза Бретт мог видеть овеянные густым дымом огненные вспышки, которые выглядели так, будто это палит из палубных пушек испанский фрегат семнадцатого века. В его голове пронеслась лишь одна мысль: «Хрена с два, а не охотничья выдержка». Затем пришла боль.
Как только смолкли грохот выстрела и шум упавшего мешком тела, охотник развернулся и бросился прочь от дома. Он даже не попытался зайти внутрь, чтобы посмотреть, что стало с человеком, в которого он только что попал зарядом дроби. Лицо его было всё так же сильно перекошено, но теперь все следы удивления ушли прочь, и страх безраздельно воцарился на всём пространстве от морщинистого лба до подбородка, покрытого густой бородой.
***
Майк шумно и неуклюже ввалился из зимней непогоды в привычное тепло своего дома. За ту минуту пока он протиснулся в дверной проём, развернулся на негнущихся ногах вокруг своей оси, шажочек за шажочком, и с хлопком закрыл входную дверь, ветер нагнал с улицы целую лужу, полную обрывков едва пожелтевших ивовых листьев и размокших кусков рекламных листовок.
Майк стоял одной ногой в луже, громко отдуваясь и смотря на мокрый клочок бумаги, зажатый в его руке. Записка была не просто сырой, а пропитанной водой насквозь, такой мягкой, что когда он пытался отклеить её от входной двери, бумага порвалась. Часть её, наиболее близкая к полоске липкой ленты, которой она была закреплена на двери, так и осталась висеть под струями дождя, а у Майка в руках остался лишь обрывок оповещения. Оповещение предупреждало его о необходимости «…ать с патио доставленную Вам посылку, которая нарушает эстетику Вашего коттеджа и мешает наслаждаться красотой центральной аллеи всем жителям нашего посёлка. Администрация жилого комплекса „Золотые Ивы“». Майк отжал двумя пальцами пластинки жалюзи, закрывавшей стекло входной двери, посмотрел на патио и в полголоса чертыхнулся. В дальнем конце стояла картонная коробка метром в высоту и ширину и парой метров в длину. Коробка была жалкой и унылой – она простояла под дождём уже часа четыре. Её сверхпрочный картон размяк и осел на контурах чего-то, что скрывалось внутри. А дождь продолжал методично колотить по ней со всей своей дождевой дури. Возле левого угла коробки собралась просто колоссальная лужа, высотой сантиметров в пять, которая уже не билась о край коробки, а с лёгкостью втекала в неё через щель в стыке картонных стенок и вытекала обратно, повинуясь переменчивому ветру, и, наверное, приливным фазам луны. Как и подобает водоёмам таких размеров.
Майк вздохнул, у него совершенно не было сил, чтобы предпринять что-либо для спасения посылки, в которой тонул его новый элеткроскутер. Он доплёлся до софы, походу голосом включая систему отопления на 76 градусов, повалился на подушки и сознательно, плотно закрыл глаза. Его губы едва заметно шевелились:
Твои прядки разбросает ветер,
Раскидает по всему лицу…
Озорные маленькие дети,
Мы с тобой ушли встречать весну.
Танцевать, сбивая ноги,
По улицам майским, тёплым, пыльным.
Целовались, словно недотроги,
Прижимались горячо и сильно.
Засыпали и кружились,
Утопая, мы, друг в дружке
Ранним утром спать ложились,
Растеряв свои веснушки.
Майк почувствовал движение. Стремительный перенос в пространстве, от которого нехорошо сжимается желудок. Его тело онемело. Тревожная горячая волна прошла сквозь сердце и поднялась прямо к горлу. Он испытывал это чувство уже сотню раз, но на секунду снова поверил, что сейчас его вырвет. Но вместо того, чтобы выплеснуться наружу горячая волна разошлась по всему телу, наполняя теплом и жизнью онемевшие конечности.
Первые минут пять Майк по привычке провёл с закрытыми глазами. Солнечный свет пробивался сквозь веки ярким светло-голубым свечением. Казалось, стоит лишь открыть глаза и перед тобой окажется море.
Майк открыл глаза, и солнце, падающее сквозь стеклянную крышу пустого стадиона, привычно ослепило его. Стадион был пуст. Здесь никого не могло и не должно было быть. Ни сегодня, ни в любой другой день.
Он с грустью вспомнил о снах. О добрых, дарящих покой и о пустых, словно чёрный мешок на голову, снах. И о снах, которые нисколько не поддавались его контролю, которые хватали его за ноги и тянули гирей на дно, сквозь холод и непроглядную воду, не воду даже, а густой жидкий лёд. От таких снов он просыпался покрытый крупными каплями пота и пытался через боль шевелить то левой, то правой ногой. Боль говорила ему, что эти ноги всё ещё его, что он ещё чувствует их и может управлять ими. Ещё один день, сегодня, а может быть ещё и завтра, кто знает…
Но были и сны, такие яркие и такие живые. Те, в которых, он снова был молод, а может и не был собой вовсе. Он бежал куда-то вперёд и чувствовал лёгкость в каждой мышце, в каждом вдохе, в каждой своей ноге. Он мог бежать часами, без устали, без передышки, почти не касаясь земли.
После одного такого сна он проснулся с широкой и совершенно не проходящей улыбкой на лице. Тогда ему казалось, что произошло нечто важное: что-то сдвинулось с мёртвой, ржавой точки, что-то изменилось в нём. Он резко скинул ноги с кровати и встал в полный рост, победно улыбаясь, но уже в следующее мгновение жгучая боль электрическим столбом пронзила его от пяток до макушки, и он повалился вперёд, даже не успев выставить перед собой руки. Разбил лицо в кашу, сломал нос и выбил себе передние зубы. Ещё час он лежал в кровавой луже, дышал с бульканьем через полные густой тёплой жижи нос и рот и улыбался, улыбался отчаянно и живо, вспоминая ту лёгкость, которая коснулась его ног во сне. И лишь когда кровь начала густеть, когда он почувствовал холод, идущий от пола, сон окончательно покинул его, и он заплакал. От боли, а может быть от обмана. От собственной беспомощности. И от того, что сон закончился. Он не мог встать. Он лишь перевернулся на спину и вызвал хлопком ладоней голосовой набор. Следующие двадцать минут Майк потратил, пытаясь сквозь выбитые зубы, чудовищную боль и поминутно заполняющийся кровью рот, совладать с системой распознавания голоса и заставить её вызвать службу спасения.
***
Бретт старался отползти как можно дальше от двери. Он изо всех сил прислушивался, чтобы понять, не идёт ли человек внутрь дома и, самое главное, не перезарядил ли он ружьё. Картечь из правого ствола угодила ему в левый бок. Тёплый свитер был изодран и быстро напитывался кровью. Бретт добрался до большого окна в гостиной, медленно приподнялся и выглянул наружу.
Стрелявший бежал через поляну перед домом нелепо и нервно, постоянно спотыкаясь и поскальзываясь на снегу, а ружьё моталось у него по спине из стороны в сторону, будто стрелка сошедшего с ума метронома.
Волной нахлынуло облегчение. Первой мыслью было поскорее закрыть дверь на замок и осмотреть рану.
«Чёрт, во-от чёрт!.. Мать твою, за кого он меня принял?.. За грабителя? За маньяка? Или он сам по себе опасный психопат?» – шептал Бретт сам себе, с каждым словом становясь всё больше похожим на пресловутого психопата. – «Ах, ты, чтоб тебе, говнюк ты шизанутый!.. Это ведь ты, Янг, верно?.. „Будь вежливее с гостем“, твою мать!..»
Неожиданно облегчение ушло, будто его и не было вовсе. Мысль, что единственный человек знающий, как выбраться отсюда, сейчас убегает прочь, хоть и по-идиотски припадочно, но всё же довольно быстро, окатила Бретта с головы до ног.
Он уже второй раз за последние пять минут ринулся к выходу. Сунул ноги в ботинки, схватил с пола свой охотничий пуховик и метнулся прочь из дома. Он бежал так, словно от этого зависела его жизнь. Отчасти так оно и было. Янг уже пересёк всю поляну и сейчас вбегал под тенистый навес деревьев. На ходу надевая пуховик, Бретт домчался до входа в аллею, но постарался зайти не напрямик, а с бока, пробираясь среди деревьев по глубокому снегу. Пока Бретт вдумчиво полз по сугробам, он увидел, что Янг даже не думает поджидать его, а несётся вперёд всё в том же полоумном темпе. Бретт выматерился, встал в полный рост и постарался побыстрее выбраться из снежной трясины на протоптанную дорожку, чтобы хотя бы немного нагнать бородатого.
Можно сказать, что преследовать Янга было одно удовольствие. Нет, конечно, у Бретта страшно болел левый бок – болел так, будто готовился лопнуть и украсить ближайшее дерево гирляндой из толстой кишки, от быстрого бега лёгкие свистели, будто дырявые меха, а холодный воздух прижигал голые уши. Но самое важное было то, что Янг совершенно не оглядывался.
Как только расстояние между ними вновь сократилось достаточно для того, чтобы держать убегающего на границе видимости, Бретт начал двигаться украдкой, прятаться за деревьями и постоянно следить за тем, не оборачивается ли человек назад. Всё-таки это был человек с ружьём, который не особо сомневался, когда его следует пускать в ход, а когда нет.
Но Янг не оглядывался. Он не оглянулся ни разу. Он бежал словно помешанный, будто он только что увидел не Бретта, а самого сатану: красного, рогатого, с козлиными копытами и заострённым как у ската кончиком хвоста.
На второй поляне человек повернул налево. Он направлялся прямиком к тому месту, где почти двое суток назад Бретт проснулся голым и беспамятным.
Противный холодок прошёлся когтями по позвоночнику.
«Неужели мне сейчас предстоит увидеть что-то действительно странное?» – подумал Бретт.
Глубокие сумерки повисли в морозном воздухе, будто полотно вангоговской «Звёздной ночи» с самым первым слоем краски на нём. Несмотря на то, что Янг не озирался по сторонам, несмотря на свой бесполезный опыт у первой аллеи, Бретт всё равно решил войти и в эту аллею сбоку: снова через снег и деревья. И снова зря. Никто не поджидал его. А тёмный силуэт впереди, воспользовавшись тем, что Бретт сбавил скорость ради своих хитроумных манёвров, сумел неплохо увеличить разрыв.
Бретту ничего не оставалось, как снова выругаться и бросится вперёд.
Из-за поглощающей пространство темноты держать Янга в поле зрения становилось всё сложнее, и Бретту волей-неволей пришлось поднажать и ещё сильнее сократить расстояние между ними. Теперь они были так близко, что Янг вполне мог услышать его пыхтение. Бретт старался изо всех сил усмирять своё дыхание и отчаянно надеялся, что Янг сейчас пыхтит не меньше его, а потому ничего не заметит. Вот они вышли из второй аллеи к уже хорошо знакомому Бретту месту. Сердце у Бретта болезненно замерло в ожидание чего-то очень плохого.
«Левитация?..» – пронеслось где-то по кромке сознания, занятого в данный момент тем, чтобы не подвернуть ногу в зыбком снегу.
Но Янг даже не глянул на безымянную вмятину. И вряд ли вообще мог разглядеть её впотьмах. Он пронёсся между двух высоких сосен и устремился налево. Он продолжал бежать в этом направлении ещё минут семь, пока наконец впереди не показалась тёмная громада гор.
«Ну что, сволочь, может, хотя бы теперь покажешь мне свою левитацию?..» – со злостью подумал Бретт, представляя, как Янг отрывается от земли и одним прыжком перескакивает каменную стену.
В одном месте у подножия горы приютилось сразу несколько ещё молодых, но уже довольно-таки пышных елей. Бретт смутно помнил их и этот участок горной гряды. Примерно так же хорошо, как он помнил все остальные деревья и куски камня. Он точно знал, что проходил здесь во время своего семичасового осмотра достопримечательностей, и был уверен, что нихрена интересного тут нет. Не согласный с ним Янг устремился в направлении ёлок. Последнее, что заметил Бретт, было то, как человек с ружьём протискивается среди деревьев. Больше бежать не было смысла. Вероятнее всего, Янг просто искал место, где можно спокойно отсидеться. За ветвистыми лапами елей, с огромной каменюгой за спиной – безопаснее места сейчас было в целом лесу не сыскать.
«Стратег долбанный,» – подумал Бретт. Он постарался подкрасться к деревьям слева, по большой дуге. Янг, наверняка, сидел с ружьём наготове и следил за любыми движениями из своей еловой засады. К счастью, укрывшие лес сумерки уже сгустились до состояния ночи, а потому разглядеть что-либо вокруг было очень и очень проблематично.
Бретт передвигался ползком от дерева к дереву, пока последние не закончились. Тогда он полусидя прижался к стволу дерева и стал вглядываться в темноту, чтобы уловить, хотя бы крупицы возможного движения.
Вместе с сумерками сгустился и холод. Только сейчас, когда эта бешеная гонка закончилась, Бретт почувствовал, что по-настоящему продрог. Бок разболелся с новой силой. Не отрывая взгляда от деревьев у скалы, Бретт сунул ледяную руку под свитер и попытался на ощупь определить тяжесть полученной травмы.
Удивительно, но судя по всему, ничего, кроме трёх длинных борозд там не было. Будто бы Янг ласково почесал ему бок трёхзубыми граблями. Можно сказать, слегка поцарапало. Зато крови натекло, как с настоящей свиньи: вся правая сторона кофты пропиталась насквозь. Правая штанина джинсов тоже вымокла почти до колена.
Бретт убрал руку и наконец-то, впервые за всю эту пробежку застегнул пуховик. А затем, подумав немного, нащупал за спиной капюшон, надел его на голову и подтянул застёжки. Руки он засунул в рукава. Стало значительно теплее. Он делал всё плавно и медленно, продолжая постоянно всматриваться в сгусток теней, в который теперь, при ночном освещении, превратились ели у скалы. Новых следов от граблей на правом боку или любом другом месте ему сейчас хотелось меньше всего.
Прошло, наверное, не меньше двух часов. Никакого движения не было. Бретт замерзал. Бретт засыпал. Да, пуховик был длинным и тёплым, вот только ступни ног уже перешли на новый уровень деревянной бесчувственности. Без движения обувь просто отказывалась защищать их от холода. Потеря крови тоже играла значимую роль. Бретт чувствовал чудовищную слабость во всём теле, а отсыревший от крови правый бок холодило даже через пуховик. Знай его оппонент, насколько сейчас слаб Бретт, он мог бы просто выйти из своего укрытия, подойти к Бретту, совершенно не укрываясь и даже не торопясь, и застрелить его. А при желании даже забить ботинком, как таракана.
Нужно было сделать выбор. Ждать больше Бретт уже не мог: ещё полчаса-час на холоде, и он уснёт и вряд ли уже когда-нибудь проснётся. Но оставить это место и просто уйти, означало оставить позади себя человека с оружием в руках. И при том далеко не самого дружелюбного. Оставался ещё один рисковый и новаторский вариант, который пришёл Бретту в голову только спустя пару сотен минут на холодном снегу – поговорить.
Янг явно чего-то испугался. Но сейчас запал первых секунд прошёл, и этот человек, наверняка, куда больше готов к диалогу. Правда, толком не помня ничего о себе, Бретт не мог с уверенностью сказать, был ли страх Янга истерикой или же имел под собой вполне реальные основания. Возможно, пару дней назад Бретт убил всю семью Янга. Затем попробовал повеситься на дереве в лесу, предварительно оголившись, как и подобает умалишённому. Верёвка не выдержала, он упал и потерял память. Очнулся, набрёл на ближайшее человеческое жильё, а ещё день спустя радостно распахнул дверь перед бородатой рожей Янга в его же доме…
Чёрт побери, а в этом могла быть значительная доля здравого смысла! Нет, конечно, никакой верёвки на деревьях не было, Бретт осмотрел их основательно. Так что вариант с неудавшимся самоубийством отпадал. Но Бретт вполне мог быть психопатом. Или мог быть под действием наркоты или очень серьёзной порции алкоголя. Скажем, он разделся догола и залез на дерево вдалеке от того места, где впоследствии пришёл в себя, а потом начал прыгать с ветки на ветку, как ошалевший от запаха первого снега бабуин. Деревья в этом лесу стоят достаточно плотно, так что для человека под препаратами или знатного психа это вполне реально. А потом он всё-таки сорвался и упал. Тоже достаточно достоверный сценарий для чувака с таблетками в животе. Этот же сценарий прекрасно соотносится с фактом отсутствия всяческих следов на снегу вокруг бездарной берлоги. А падение да ещё и в комбинации с наркотиками, алкоголем или психиатрическим диагнозом очень гладко объясняет полную потерю памяти. Бинго!..
Одного оно только, мать его, не объясняет – отсутствия царапин на теле. Прыгать голым с дерева на дерево и не поцарапаться – это абсурд. А прыгать с дерева на дерево в защитном костюме, затем снять его, спрятать среди ветвей и только потом упасть – это дикий, больной на всю голову абсурд.
Тем более что, как и в варианте с левитацией и космическим кораблём пришельцев, будет трудновато найти причину полного отсутствия поломанных веток.
Вся эта чушь складно и нежно змеилась в его потускневшем сознании, будто позёмка, заметающая свежую могилу. Бретт резко вздрогнул. Он понял, что едва не заснул. Он постарался сосредоточиться и вспомнить, что же стало отправной точкой для всей этой мыслительной галиматьи.
А! Точно. Он хотел поговорить с этим Янгом. Что ж, похоже, действительно пришло время перекинуться словцом. Бретт медленно и аккуратно поднялся на ноги. Он потратил добрых десять минут, возвращая своим затёкшим и замёрзшим конечностям хоть какое-то подобие жизни. Кто знает, быть может, они ему вот-вот вовсю пригодятся.
Затем, учитывая известную любовь бородатого к стрельбе, Бретт прижался спиной к стволу так, чтобы ни единого кусочка его самого не выглядывало из-за дерева. И только после этого набрал побольше воздуха в лёгкие и прокричал.
«Янгкх!.. – начал было он, но то ли от холода, то ли от переживаний голос предательски засипел. Бретт откашлялся и начал снова: – Янг, ты там?! Послушай, меня зовут Бретт!»
«Не-е…", – хотел было продолжить он и сказать «не стреляй», но откуда-то на ум ему пришла заезженная мысль о том, что человеческий мозг очень плохо воспринимает все призывы, начинающееся с отрицательных частиц. Он попросту игнорирует все «не» и «без» и уделяет максимум внимания основному смыслу сказанного. Голубиное суеверие в чистом виде. Но Бретт готов был спрятать голову под крыло, лишь бы даже отдалённо не напоминать человеку с ружьём, что это самое ружьё можно снова пустить в ход.
«Убери оружие, и давай поговорим,» – наконец нашёлся он, как можно заменить опасную речевую конструкцию, и завершил свою импровизированную речь мира на одном выдохе. В ночном безмолвии морозного леса каждое его слово звучало ясно и громко, но затем будто тонуло в толще деревьев, не оставляя после себя ни отзвука, ни эха.
Бретт замолчал и весь обратился в слух. Он не слишком-то уповал на внятный и громкий ответ, но даже треск ветвей или характерный щелчок взводимых бойков подсказал бы ему многое. Но ничего не было. Только лесная тишина, такая же плотная, как подушка, которой тебя душат во сне. Такая же густая и беззвучная, как и в последние два часа.
Бретт прокричал ещё раз:
«Янг!.. Я знаю!.. Ты! Там!.. Давай!.. Поговорим!..» – и снова умолк, вслушиваясь в тишину леса. И снова ничего, кроме этой ватной тишины в воздухе. Охотник никогда не выжидает просто так. Очевидно, где-то в доме было спрятано оружие. Бретт его не нашёл, только вот бородатый этого не знал и с большой уверенностью предполагал, что после того, как он выстрелил в кого-то, этот кто-то вряд ли погонится за ним с пустыми руками.
«Твою же мать… – подумал Бретт. – Последние пару дней я только и делаю, что ору как резанный, и никто мне не отвечает. Что в этом доме, что в этом лесу. С той лишь разницей, что здесь я точно знаю, что мне есть с кем поговорить.».
Сон как рукой сняло. И страх прошёл тоже. Бретт был злым до чёртиков.
Ну что ж, похоже, что время разговоров прошло, так и не начавшись. Теперь настало время для провокаций. Бретт нагнулся, развязал шнурки на левом ботинке и стянул его с ноги. Покачал в руке – ничего себе, увесистый. Затем он поставил левую ногу на снег, молниеносно выглянул из-за ствола и спрятался снова. Метров семь. От силы девять. Бретт просунул руку внутрь ботинка и схватил его у основания язычка, выглянул из-за дерева и что было мочи швырнул ботинок в деревья у скалы.
Пока ботинок летел, Бретт успел снова спрятаться за ствол. Он ждал выстрела или вскрика, но через доли секунды услышал лишь шум потревоженных ботинком ветвей и глухой металлический гул, будто кто-то с всего размаха пнул здоровенную кастрюлю. Бретт продолжал ждать, но никакой реакции со стороны еловых зарослей так и не поступало. А вот нога без ботинка оказывается до сих пор могла мёрзнуть немного сильнее прежнего. И было что-то ещё… Что-то, что никак не давало его мыслям покоя. Что-то неправильное. Неправдоподобное. Неуместное… Металлический гул?.. Деревья, скала, снег и металлический гул? Что за?..
Может быть, Янг был роботом, и Бретт только что вырубил его, случайно попав тяжёлым армейским ботинком прямо в его полупустую стальную башку? Это бы многое объяснило… А ещё очень многое объяснилось бы, если б его там просто не было. Кто сказал, что Янг бежал сюда, чтобы укрыться? Куда логичнее, что он бежал сюда, чтобы убраться подальше. Простая и очень разумная, эта мысль резанула Бретта, словно ржавым ножом. Он даже забыл про смутивший его ранее звук.
Там, за этими грёбанными елями, был проход в скалах! Расщелина! И он только что дал Янгу три часа форы своим по-коровьему тупым выжиданием… Твою же мать! Бретт выскочил из-за дерева и, уже нисколько не сомневаясь, что его сию же секунду не пробьёт выстрелом в грудь, быстро пошёл вперёд.
Выстрела не было. Он доковылял до елей, припадая на ногу в носке и не переставая брызгать слюной и клеймить себя всеми знакомыми ругательствами, которые в непомерных количествах и будто по мановению похабной волшебной палочки всплывали в его голове. Бретту подумалось, что в его состоянии, характеризуемом частичной потерей памяти, это можно даже считать полезным упражнением. Он продрался сквозь колючие ветки, едва не сделав себе пирсинг в нижней губе, и замер как вкопанный. У самой скалы валялся его ботинок. Никакой расщелины не было.
***
Доподлинно известно, что в конце двадцатого века все документы были только на бумаге. Документооборот был страшной вознёй. Приходилось таскать пачки этих бумажек из кабинета в кабинет, подписывать, перепечатывать, хранить на огромных складах. Не говоря уже о том, что сначала понадобилось вырубить большую часть лесов на планете и построить тысячи грязнейших целлюлозно-бумажный комбинатов для производства этих отбеленных листов. Настоящая морока.
Затем появились компьютеры. Они стремительно развивались, становились компактнее, мощнее, дешевле и очень быстро нашли применение во многих областях жизни. Было разработано программное обеспечение для создания и обработки самых разнообразных данных: от бинарных чисел до трёхмерного видео. Появились относительно компактные хранители информации, цифровые фотокамеры и видеорекодеры и даже полноценные компьютерные сети. Всё было готово к тому, чтобы перевести бумажный документооборот в цифровой вид. Всё, кроме людей.
Ходят байки, что долгожданная модернизация документооборота в то славное время приняла форму повсеместного отказа от малоэффективного и трудоёмкого перетаскивание бумажных стопок из офиса в офис и его последующую замену на высокопроизводительное таскание по всё тем же кабинетам файлов, записанных на карту памяти. Цифровые данные, движущиеся отнюдь не по проводам со скоростью электронов, а в кармане двуногого животного, регулярно останавливающегося, чтобы потрепаться с привлекательными сотрудниками противоположного пола и выпить третьесортного кофейка из автомата. Это была победа новых технологий. Торжество прогресса. Смешно сказать, но в наше время это тоже правда. В иных масштабах и в других декорациях, но сущая правда.
Восемнадцать тяжёлых броневиков светло-серого цвета шли колонной по разбитой, занесённой серым песком дороге. Бесконечно длинной и почти прямой асфальтовой дороге посреди пустынного ничего, крошащейся под массивными колёсами.
Броневики держали скорость восемьдесят миль в час и расстояние между задним и передним бампером в пять метров. Скорость была просчитана и предписана Министерством здоровья и охраны труда. Только придерживаясь её на девяноста процентах маршрута, водители, техники и солдаты в защитных костюмах второй степени могли вернуться домой, облучёнными такой дозой, которую современная медицина ещё могла компенсировать. Три маршрута туда и обратно, и весь состав колонн списывали на гражданскую работу, а заражённые машины оставляли на вечной парковке на самом краю спальной зоны. Настоящий океан денег, который каждые два месяца смывали в унитаз и смачно плевали вслед.
Восемнадцать тяжело бронированных аппаратов и только шесть из них действительно имели хоть какой-то смысл. Остальные были подсадными утками. Но даже те шесть были излишними. То, что они везли в своих полупустых кевларовых животах, могло запросто уместиться в пачку из-под сигарет и с лёгкостью было бы перевезено одним-единственным человеком в защитном костюме четвертой степени на мощном кроссовом мотоцикле.
Будь всё устроено именно так, и всем бы было куда проще. Мне бы, по крайней мере, точно. Я мог бы нормально дослужить до ранней пенсии, а не идти пахать в тридцать лет на самых паршивых работах в промзоне.
В самом начале пути было лишь три их броневика. Но в течение последующих дней они встретились с остальными пятнадцатью, идущими от всех крупных мегаполисов и промышленных зон такими же тройками. Они делали запланированные остановки на отдых и дозаправку на территории военных баз, раскиданных там и тут по всей протяжённости их маршрута, и готовились к завершительному броску.
Тяжёлые трёхосные машины, окутанные густыми облаками отработанного топлива, будто корабли с гребным колесом на реке Миссисипи, шли вперёд с ровным гудением, в котором сплетались воедино размеренная работа двигателей, гул армированных покрышек и сопение людей в защитных костюмах.
Их целью был бетонный саркофаг в самой складке от задницы Промзоны-46, вдали от всех линий вэм:т, активных ликвидационных площадок и разработанных карьеров. Шесть броневиков везли карты памяти для копирования информации на защищённые носители и последующего хранения. Процесс создания резервной копии трёх эксабайт данных, растянутый на семь дней. Самый идиотский и дорогостоящий процесс копирования на всем свете, если не брать в расчёт эту затею природы с ДНК. Будь здесь уместна инфографика, шкалу прогресса можно было бы стилизовать под асфальтовую дорогу, а сам прогресс изобразить в виде уныло ползущих светло-серых броневиков, вид сверху. Наравне с офисными работниками конца двадцатого века, эти фургоны пыхтели чёрной гарью, усердно тарахтя неделю подряд, лишь для того, чтобы перенести из точек A, B, C, D, E, H в точку X информацию, на передачу которой у пучка света ушла бы минута. Или и того меньше. Но в отличие от бессмысленных и бесславных усердий всевозможных мальчиков и девочек на побегушках из прошлого, этот труд имел под собой железобетонные основания. Имя им – излучение и безопасность.
Перевозимая информация была, как легко догадаться по масштабам милитаристического цирка, окружающего процесс её перемещения, не в меру чувствительной и ценной. Малейшее искажение могло привести к неприятным последствиям для девятисот миллионов людей.
Радиация и что-то ещё в этой серой пустыне были настолько сильными, что даже импульс света, летящий по оптоволокну более двух секунд, получал отклонение, достаточное для того, чтобы в значительной степени изменить передаваемую информацию. Учёные говорят, что это «что-то ещё» было гравитационным откликом на сильное радиационное поле. Своеобразный ответный пинок планеты, на поверхности которой чересчур разрезвились охамевшие двуногие паразиты. Явление исследовали, исследуют и грозятся исследовать до тех пор, пока не переведут его в набор многоэтажных формул математической модели или сами не передохнут от него. В наше время учёных, откровенно говоря, не так уж и много. Рабочих, вот, куда больше.
На самом деле, даже непостижимый гра:о ничего не мог поделать с экранированием. Многослойным, крайне затратным, современным экранированием. Ведь даже данные на картах памяти, таскаемые по неделе кряду вдоль и поперёк этой никчёмной пустыни, не получали ни малейшего искажения.
Проложить тысячу миль экранированного оптоволокна в заражённой зоне было бы задачей сложной и непомерно дорогой, но всё же решаемой. И даже вполне экономически оправданной, если взять в расчёт эти увеселительные поездки на восемнадцати двадцатитонных аппаратах каждые два месяца. Но построить это одно, а охранять – уже нечто совсем другое. Охранять этот канал связи, все эти десять тысяч миль экранированного кабеля… Такая задача была действительно неадекватно сложной.
А охранять было от кого. По крайней мере, вероятный противник существовал официально. Всякого рода отщепенцы «Спящие» и «Неспящие» были неотъемлемой частью нашего последнего миллиарда. То ли безобидные сектанты, то ли религиозные террористы, то ли одна рассорившаяся и распавшаяся группа, то ли независимые банды фанатиков, никто из населения толком ничего не знал о них. Правительство Объединённой Республики всегда крайне скупо отзывалось о них в своих единых новостных сообщениях.
Да, есть. Да, потенциально опасны. Нет, пока ничего особенно не сделали. Но, очень может быть, как раз в эту секунду планируют. Вот и всё, что знали простые люди. Вот и всё, что простым людям говорили. Мы, солдаты, в свою очередь прекрасно осознавали, что эти террористы, называющие себя «p51» – единственная причина нашего существования и высоких зарплат. Единственная реальная, потому что поверить во вторую официальную причину создания и колоссально затратного развития армии, звучащую буквально как «опасность инопланетного вторжения в результате внеземного конфликта из-за добычи полезных ископаемых на отдалённых астероидах и планетах» мог бы только клинический придурок, который…
– Рядовой!.. Рядовой, мать твою, Гленнмар, ты что сместился?!
– Что? Никак нет!
– Тогда, какого хера, ты молчишь? Я тебя уже второй раз спросил о расчётном времени прибытия!..
– Капитан, рацию защитного костюма заклинило! Гра:о, наверное…
– Гра:о тебе в жопу! Мы в грёбанном кевларовом фургоне, здесь нет гра:о! Ещё хоть раз не ответишь мне сразу и поедешь снаружи, прям на броне! Вместе со своим сраным гра:о в обнимку!
– Капитан, сэр, Вас понял.
– Ну?..
– Не понял Вас, капитан, сэр?..
– Расчётное время прибытия, твою же мать!..
– Три часа десять минут, капитан!
– Хорошо, рядовой. Продолжай наблюдение, рядовой.
Рядовой Ной Гленнмар виновато нахмурился и уставился вдаль. Последние два часа он действительно провёл, предаваясь полусознательным размышлениям обо всём подряд, и сейчас очень надеялся, что этого не было заметно за шлемофоном защитного костюма. Очень вероятно, что эти рейсы в действительности были одними из самых опасных боевых заданий современной солдатской службы. А вот самыми занудными они были уж наверняка. По двенадцать часов в день сидеть на заднице в трясущейся металлической коробке напротив неусыпного капитана. Из всех приключений: три раза в день поесть отвратительную питательную смесь через специальное входное отверстие защитного костюма и четыре раза удалить из тела физиологические жидкости через – о удача! – другое специальное отверстие. Всё как предписано Министерством.
Везёт водителям. У них хотя бы всегда есть занятие. От скуки Ной принялся до боли в глазах вглядываться в горизонт. Это вроде как на полном серьёзе значилось частью его служебных обязанностей на этом рейсе тоски и безделья. Сквозь толстый пластик узких, будто щели, иллюминаторов он увидел, что три едва различимые серые точки, что маячили вдалеке всё это время, были ничем иным, как тремя бронированными фургонами. Фургоны шли курсом перпендикулярным к направлению их движению. Они были значительно впереди и, судя по всему, готовились влиться в хвост колонны по стандартной схеме.
Спрашивать что-либо у старших по званию во время выполнения боевого задания было не просто дурным тоном, это попахивало хорошей выволочкой. Но плюс три броневика – это было нечто из ряда вон, и Гленнмар, откровенно говоря, не мог сдержаться. Так же, как не мог сдержаться тогда, когда месяц назад сказал капралу Эткинсу, что его жирная жопа не сможет и раза подтянуться на перекладине и не пёрнуть. Да-да, оттуда и неделя гауптвахты и направление на рейсы. Только вот здесь и сейчас он уже на рейсах и ничегошеньки, что может быть ещё хуже этого, уже точно не случится. А жопа у капрала Эткинса – действительно слишком жирная, и три бронированных фургона действительно по правому борту.
– Капитан, сэр, разрешите обратиться?
– А? Что тебе надо, мать твою? Я что, бля, тебя разбудил, солнышко ты моё, и теперь тебе захотелось общения?..
Гленнмар выжидающе молчал, зная, что эта прелюдия должна быть покорно выслушана. Она была частью давней славной традиции обращения к старшим по званию в неположенное уставом время.
– Рядовой, разрешаю, мля!.. Ну?!
Капитан Юрий Ли Хардсон служил в Объединённых войсках уже больше двадцати лет. И вот теперь эти несчастные рейсы. За что?.. За двадцать лет образцовой службы, не иначе. Ещё два рейса, и прямая ему дорожка в промзону. Не простым рабочим, конечно, но в глухую, кривую промзону. Здравствуйте, ежедневные многочасовые поездки на вэм:т, еженедельные инъекции от радиации и ежемесячная антигравитационная реабилитация, невозможная тупость рабочих и просто невероятно интересные дни. Ах, что б тебе…
– Капитан, а почему в этом рейсе двадцать один грузовик?
– Что ты, мля, сержант, только что сказал? А ну-ка повтори?!
– Ещё три броневика, капитан… – робко пробормотал Ной сквозь внезапно наполнившуюся сильным статическим шумом внутреннюю радиосеть.
Капитан Хардсон замер и нахмурился. Отчего-то смысл сказанного доходил до него чудовищно долго, будто свет карманного фонарика до полуслепой глубоководной рыбины через толщи океанической воды. Он медленно поднял глаза, и его взгляд устремился вдаль: сквозь тетрапластиковое забрало защитного костюма, сквозь усиленный плексиглас бокового иллюминатора. Ещё три броневика… Не дожидаясь продолжения диалога, Юрий вскочил на ноги, крутанулся что было сил в сковывающем движения защитном костюме второго, мать его, класса и припал шлемофоном к боковому иллюминатору на другой стороне.
Пустыни не было. Неба не было. Весь обзор с этой стороны закрыла огромная, светло-серая морда броневика, несущегося наперерез.
А он всегда думал, что умрёт от рака горла…
Мгновение. Удар. Вращение.
Совершая нелепое баллистическое перемещение в пространстве под воздействием неожиданно ставшей во главе стола инерции, рядовой Гленнмар увидел, как три броневика впереди, те самые, что были тремя серыми точками на горизонте, вместо того, чтобы влиться в хвост колонны, проломили ей голову.
Ещё удар. Темнота.
Идущие тройками по разные стороны от колонны, восемнадцать тяжёлых трёхосных броневиков, двигаясь на скорости куда больше предписанной Министерством, вошли в визжащий металлический клинч с броневиками колонны.
***
Бретт ожидал увидеть расщелину или тёмный туннель, уходящий вглубь скалы. Он даже отчасти ожидал увидеть пару стволов дробовика, направленных ему в лицо и, вполне может быть, последнюю в своей жизни пороховую вспышку. Но увидел он нечто совершенно иное.
Ночь, ещё недавно спеленавшая лес смирительной рубашкой чёрного цвета, сейчас словно устыдилась своего поступка. Небо расчистилось и луна, надкушенная снизу ровно до середины, взошла над деревьями отменным светильником. Освещение было достаточным даже для того, чтобы читать многотомные произведения классической литературы и восхищаться красотой слога. Особенно, если перед этим дать глазам время привыкнуть. А поскольку последние три часа Бретт только и делал, что адаптировал свои к темноте, то теперь ему не составляло труда разглядеть это крупное вкрапление, удивительно редкое для любой скальной породы. Металл. Много металла. Большой прямоугольный самородок.
Перед Бреттом была стальная дверь, вмонтированная прямиком в скалу. Серо-красная под цвет камня, в крупных авиационных заклёпках по контуру. С массивной металлической рукоятью, но без замочной скважины.
Бретт впал в такую прострацию, что сам того не понимая, не спуская ни на секунду глаз с двери, будто она могла испариться в любое мгновение, дотянулся до своего ботинка, лежащего у самого входа, сел прямиком на снег, машинально отряхнул ледышки, намёрзшие на носок, и надел ботинок обратно на окончательно окоченевшую ногу.
К счастью, боль в левом боку и холод быстро вывели его из этого полубессознательного состояния. Бретт встал. Перед его носом была дверь, и теперь нужно было принять важное и, главное, достаточно быстрое решение, что же с ней делать.
Заходить внутрь было, мягко говоря, рискованно. Шанс, что за этой самой дверью его ждёт человек с заряженным ружьём, был до безобразия высоким. Даже постучаться в эту дверь или подёргать её за ручку было бы по-идиотски опрометчивым поступком. С тем же успехом, Бретт мог выложить ельником прямо у входа надпись «Я нашёл твою дверь, козёл!». Долой всяческий эффект неожиданности. А ведь, если вдуматься, единственным преимуществом Бретта в данной ситуации как раз и был тот факт, что он отыскал дверь, и никто об этом ещё не знал.
Холод и тянущая боль в левом боку, которые ещё недавно так удачно помогли Бретту вернуться к реальности и начать действовать, сейчас оказались реальной проблемой. Вдобавок к этому пробежки по лесной местности разной степени пересечённости в совокупности с лечебным кровопусканием опустошили Бретта до самого донышка. Ему нестерпимо хотелось есть, в тепло и хорошенько осмотреть, продезинфицировать и перебинтовать рану.
Но бросить за спиной эту дверь с вооружённым психопатом значило, что в самом обозримом будущем ему придётся ходить по лесу оглядываясь и ожидать пригоршню картечи в лицо из-за любого дерева. Не самый обнадёживающий расклад, что сказать. Вымотанный просто до осатанения Бретт откинулся спиной на пушистые еловые ветки, чтобы немного передохнуть. И вдруг решение пришло само собой.
Только потом, сидя в тепле коттеджа и заглатывая один за другим сандвичи с горячим кофе, Бретт подумал, что это в целом было отвратительно неэффективное и опасное решение. И, честно говоря, не решение вовсе, а так, защитная реакция мозга. Отговорка, выдуманная уставшим подсознанием, чтобы убедить слишком настороженное сознание наплевать на всё, поскорее убраться с холода и хорошенько пожрать.
Однако в тот самый момент, стоя на карачках в снегу у промёрзлой металлической двери и пристраивая к её основанию нелепую еловую веточку в нелепом, но строго определённом положении, Бретт был уверен, что проделывает хитрейший трюк из всех виданных. Он молниеносно сбегает в коттедж, отогреется, по-быстрому разберётся с раной, перекусит, оденется раз в двадцать теплее, возьмёт с собой запас провизии и что-то, что может сгодиться как оружие – нож, кочергу или, скажем, дробовик – и тут же вернётся к двери. Ему хватит и сорока минут, а по возвращению эта хитрая веточка подскажет ему, выходил ли кто-нибудь наружу или нет. И, если никто не выходил, он притаится рядом с дверью и будет ждать. Рано или поздно, Бретт был уверен, Янг снова появится в дверном проёме. Он, определённо, приходил по каким-то делам и дела эти, почти наверняка, решить не успел.
«Все эти нелепые телодвижения были очевиднейшим результатом недостатка сахара в крови. Вот единственное объяснение такого коварного плана, – думал про себя Бретт, быстро, но максимально осторожно пробираясь сквозь сугробы. – Коварно тупого плана…»
Ведь тогда у двери, возясь с хвойной веточкой, будто маленький помощник Санта-Клауса, он бесподобно легко пропустил мимо своей застуженной головы, вариант, в котором кто-нибудь всё же выйдет наружу, пока его, Бретта, рядом не будет. Веточка, спору нет, отличный показатель наличия врагов в лесу, только она вовсе не сигнальный костёр, заметный издалека, и совсем не верёвка, что тянется от самой стальной двери до ноги Бретта, сидящего в изумительно тёплом туалете комфортабельного коттеджа. А значит узнать о том, что некто с ружьём вышел из двери, Бретт сможет лишь тогда, когда снова дойдёт аж до самой двери. Вот только за то время, пока он доберётся на место, у него есть целый миллион шансов узнать об этом немного раньше по внезапному выстрелу в спину.
Теперь ему приходилось идти по сугробам вместо протоптанной дороги и со страшным любопытством заглядывать за каждое дерево. Всё это чудовищно замедляло продвижение и тем самым отлично повышало шансы обнаружить еловую веточку сдвинутой с её бесценного, строго определённого положения.
Подходя всё ближе и ближе к тому месту, где какие-то шутники пропилили дырку в монолитной скале и вставили в неё стальную дверь, Бретт почувствовал, как внутри него растёт напряжение. Последние двести метров он и вовсе проделал в точности так, как в тот раз, когда преследовал Янга – переползая по-пластунски от дерева к дереву.
Добравшись до той самой сосны, что уже успела послужить ему пристанищем раньше, Бретт замер и внимательно всмотрелся в заросли у скалы. Луна за последние два часа пробежала по значительной части небосвода, но всё ещё давала неплохое освещение. Облаков по-прежнему не было.
В этот раз Бретт решил не кричать. Всё так же лёжа на брюхе, он дополз до самых зарослей и снова замер, прислушиваясь. А затем встал и резким рывком подрался сквозь ельник. И снова ни одного выстрела в лицо. Бретт выдохнул. Откровенно говоря, куда больше собственной смерти от острой мозговой недостаточности, Бретт боялся того, что никакой двери в скале не окажется. Нормальное, в принципе, опасение для человека, то и дело ощущающего непонятные вибрации, не способного объяснить даже самому себе, откуда на долбанной кухне берётся свежий хлеб и вообще пару дней назад очнувшегося голышом посреди леса.
Несмотря на все сомнения, дверь была на месте, а веточка в том самом положении, в котором он её закрепи. На этот счёт Бретт мог бы поклясться даже здоровьем своих родителей, если бы он, конечно, сумел вспомнить, живы ли ещё старики.
Ни дробовика, ни пистолета Бретт так в доме и не нашёл, а потому в качестве утешительных призов он прихватил с собой острый кухонный нож и тяжеленную пепельницу со стола в гостиной, предварительно выкинув из неё целый террикон серой пыли.
Честно говоря, нож Бретт взял с собой так, на всякий случай. Перебирая в своём воображении всевозможные сцены драк с бородатым Янгом, он так и не смог убедительно представить себя тыкающим человека куском заточенного металла. Даже беря в расчёт те дырки, которые Янг без особых угрызений совести проделал в нём из своего ружья.
Бретт занял позицию справа от двери так, чтобы когда последняя откроется, он оказался бы за ней. Оставалось только надеяться, что тот, кто выйдет наружу, не станет открывать дверь пинком. Бретт поухватистее взялся за боковину пепельницы, поудобнее прислонился к скале спиной и приготовился долго ждать.
Ждать действительно пришлось немало. Однако ждать сытым и тепло одетым было, можно сказать, даже комфортно. В этом состоянии был лишь один значительный недостаток – Бретта отчаянно клонило в сон.
Луна постепенно померкла, а тёмно-синяя ночная мгла растворилась в серо-голубом свете раннего утра. Солнце уже взошло, но в этих местах не было видно реального горизонта. Только горизонт, образованный линией гор. Поэтому солнечный свет был всё ещё рассеянным и сумрачным, куда более тусклым, чем свет полной луны этой ночью.
Бретт старался шевелить ногами, больно щёлкать по лицу перчаткой и ещё больнее бить себя по бедру углом пепельницы. Он, конечно, прекрасно знал о традиционном способе взбодриться в зимнем лесу, но воспоминания о той ночи, когда он сдирал со спины ледяную корку, постоянно заставляли его воздержаться от столь радикального приёма. Наконец он кивнул носом, словно соглашаясь с предложением передохнуть, и захлопнул глаза, но волна горячего страха буквально в ту же секунду выдернула его обратно. Он конвульсивно дёрнулся и с отчаянием понял, что засыпает и не в силах с этим бороться. Только тогда он всё-таки собрал горсть снега, зажмурился и хорошенько растёр им лицо. Снег обжёг его холодом, крупинки проскребли по коже, будто металлическая щётка, а моментально оттаявшие ледяные капли противно скользнули по подбородку прямиком за шиворот. Это отлично пробудило его ото сна. Но лишь на первые пять минут. А вот пришедшее следом согревание разморило его окончательно.
Крупные снежинки бесконечно медленно кружились в неподвижном воздухе. И лишь в самом конце своего долгого падения они ложились в пустые трещины асфальта. Он чувствовал каждую из них: миллионы острых иголочек от снежинок, касающихся километров его старой промёрзшей шкуры ребром, и миллионы мягких прикосновений от снежинок, ложащихся плашмя. Это была настоящая симфония импульсов: острых и мягких, острых и мягких, совершенно разных, абсолютно непохожих друг на друга…
Бретт ощутил колебание воздуха, будто на станции метро, мимо которой без остановки проносится локомотив с десятком вагонов. Он широко распахнул глаза и с удивлением осознал две вещи. Первая – он всё-таки умудрился уснуть. Вторая – прямо перед ним спиной к нему стоял человек с ружьём на спине. Стальная дверь уже снова была закрыта, а ствол ружья, уткнувшийся в небо начал описывать дугу. Справа налево. Человек с ружьём разворачивался к нему. Буквально выпав из сна и всё ещё ужасно плохо соображая, Бретт лишь дёрнулся вперёд и выкинул руку с пепельницей в направлении чужого затылка.
Но в тот же самый момент человек круто повернулся в его сторону, одновременно стягивая с плеча ружьё. Удар Бретта прошёлся мимо рыжей меховой шапки, и на полной скорости обрушился на ствол ружья, превращая нокаутирующее движение в своего рода земной поклон. Пепельница раскололась надвое, а дробовик вылетел из рук уже знакомого бородача. Но последний, похоже, нисколько не удивился такому развитию событий. Он схватил согнувшегося пополам Бретта за пуховик и ударил его с размаху об скалу. Столкновение было таким жёстким, что у Бретта потемнело в глазах, и откуда-то, будто снаружи самого себя, он услышал протестующий хруст костей. Не будь на нём толстого пуховика, Бретт обязательно сломал бы плечо. Но, честно говоря, и без этого боль была за гранью терпимого.
Не теряя ни секунды, Янг постарался довершить начатое. Пользуясь тем, что Бретт ещё и не успел разогнуться, Янг снова ухватил его за пуховик и с силой выбросил колено в направлении головы своего партнёра по танцу. По-прежнему ослеплённый болью в плече, Бретт лишь инстинктивно дёрнулся вверх, но этого было достаточно, чтобы колено прошло мимо – прямиком в скалу. Янг взвыл и разжал руки. В этот момент всё ещё согнутый в своём низком поклоне Бретт понял, что до сих пор продолжает сжимать в руке обломок пепельницы. Он распрямился сам и одновременно с этим выпрямил руку, отяжелённую куском камня, целясь ей в область головы человека, стоящего сейчас в пол-оборота к нему. Это движение заняло сущие мгновения, но растянулось почти на вечность.
Голова далеко не самый мягкий предмет. Каждый, кто получал удар головой в любую другую часть тела, знает это наверняка. Но обломок массивной пепельницы коснулся головы Янга, как обутая в кованый армейский сапог нога касается воздушного шарика. Бретт не почувствовал вообще никакого веса, ни капли сопротивления.
Бородач, ещё секунду назад балансировавший на одной ноге после своей неудачной атаки, подкосился, будто срубленное дерево, и рухнул, бороздя поверхность скалы сначала плечом а, следом, и головой. Он медленно сполз на заснеженную землю, раздирая себе лоб об шершавый камень.
Он явно был без сознания. Или мёртв. Дыша так тяжело, будто он только что без подготовки пробежал супермарафон, Бретт отбросил остатки пепельницы в сторону, достал из кармана припасённый кухонный нож и шагнул в направлении тела. Он пнул тело ногой несколько раз, быть может, лишь немного сильнее и чуть увлечённее, чем того требовалось. Но, как говорится, на всём белом свете не сыскать такой штуки, как «излишняя осторожность». Ответного движения не последовало. Тогда Бретт, всё так же держа наготове нож правой рукой, наклонился за ружьём и убрал его в сторону. Затем он перевернул человека вверх лицом и уложил его на снег, подальше от скалы. Да, это определённо был Янг. Или, скажем так, человек, которого последнее время Бретт у себя в голове называл Янгом. Иначе говоря, это был тот самый психопат-мерзавец, который стрелял в Бретта часов двенадцать назад. Бретт засунул нож обратно в карман. По-кукольному безвольно болтающиеся руки этого бородатого мужика неплохо убедили Бретта в том, что в самое ближайшее время опасаться нападения смысла нет. Он был без сознания. Или мёртв. Вопрос на миллион, что сказать.
Бретт ещё раз наклонился над телом и снял с головы меховую шапку, под которой обнаружилась не только лысая голова, но и очень неприятная рана. Бретт моментально понял, что во время удара кровь не брызнула во все стороны, будто сок из раздавленного помидора, только благодаря этой самой шапке. Её тыльная сторона была насквозь пропитана кровью. Мёртвый бородач… Ах, ты ж, чтоб тебе!..
Придерживая голову Янга левой рукой, Бретт заметил, что кровь продолжает сочиться из раны на затылке. Делала она это медленно и словно небольшими толчками. Похоже, что сердце всё ещё работало. Бретт присмотрелся к телу, надеясь увидеть хотя бы слабое колебание грудной клетки. Но как быстро выяснилось, это было глупейшим занятием в случае, когда человек одет в тёплый зимний пуховик. Янг в этот самый момент мог бы даже тайно исполнять танец живота, а Бретт бы ничегошеньки не заметил.
Отказавшись от идеи разглядеть дыхание, Бретт сдёрнул рукавицу со своей руки, перчатку с руки Янга и попытался нащупать пульс. Пульс нашёлся почти моментально. Бородач был жив. И, несмотря на довольно-таки страшную рану на затылке, мог очнуться в любой момент и доставить Бретту немало проблем. Причём, судя по имеющемуся у них опыту общения, не таких проблем, как позвать полицию или подать иск в суд, а скорее таких, как снова попытаться пнуть коленом в голову. Этого Бретту чертовски хотелось избежать. Однако только сейчас он понял, что абсолютно не рассчитывал брать кого-либо в плен. Не в том смысле, что он рассчитывал убивать всех налево и направо и не оставлять свидетелей, нет. Он действительно брал с собой пепельницу с единственной целью оглушить любого, выходящего из этой двери. Просто в тот момент ему совершенно не приходило в голову, что после, собственно, удачного оглушения у него на руках окажется неподвижная, но всё ещё достаточно опасная тушка. И как прямой результат отсутствия понимания этого простого факта, сейчас у Бретта не было с собой ни мотка верёвки, ни метра липкой ленты, ни чёткого плана дальнейших действий.
Вместе с пульсом на руке бородатого обнаружились аккуратные механические часы: ремешок из грубой коричневой кожи, золотой циферблат без всяких излишеств в виде камней или цифр и две стрелки, показывающие вполне себе утренние семь часов сорок минут.
Судя по снегу вокруг головы, постепенно меняющему свой белый цвет на блёклый бордовый, кровь всё так же понемногу, но без всякой остановки продолжала вытекать из раны. Бретт прошептал пару не самых утончённых слов, наклонился к телу, одним движением расстегнул пуховик и с радостью обнаружил, что на шее Янга имеется плотный шарф. Он стянул шарф, потом, помогая себе коленом, приподнял бородатую голову и наложил на неё тугую повязку. Надо было срочно думать, что делать дальше… Бретт отошёл в сторону от тела, взял в руки ружьё, переломил его пополам и проверил, что оба патрона на месте. Затем он сел на снег лицом к Янгу, взвёл оба бойка, положил ружьё рядом с собой, достал из-за пазухи сандвич с ветчиной, завёрнутый в бумагу, и принялся торопливо есть. Да, человек был ранен и почти умирал. Да, из этой двери в любой момент мог выскочить кто-нибудь ещё. Но Бретту безбожно захотелось есть. Стресс, рана, физическая нагрузка, холод… Любая из этих причин и их сочетаний. Бретт был так голоден, что съел бы сейчас запечённого целиком быка, а ему приходилось довольствоваться жалким бутербродом.
Длина пуховика в очередной раз приятно порадовала Бретта – он мог сидеть на снегу и совершенно не опасаться отморозить себе зад. Бретт задумался на секунду, потом затолкал остатки бутерброда себе в рот, вскочил на ноги, достал из кармана нож и, всё ещё жуя, принялся за работу. Спустя двадцать минут Бретт уже шагал по лесу тяжёлой поступью гружёной лошади и тянул за собой импровизированные сани.
Бретт начал с того, что поменялся пуховиками с бородачом. Это было примерно так же легко, как надеть водолазный костюм на дохлую корову, но он справился. Потом он отрезал от низа своего пуховика несколько полос ткани, чтобы связать Янгу руки и ноги. Кроме того, Бретт согнул вышеозначенные ноги в коленях, чтобы Янг полностью помещался на пуховике, и подвязал их, обхватив куском ткани самый верх бедра и самый низ голени. Следом за этим, Бретт накинул бородатому на голову капюшон, превращая её тем самым в неотъемлемую хвостовую часть саней, а самый низ пуховика разрезал вдоль так, чтобы из этого получилось подобие упряжи. В которую он сам буквально через минуту и впрягся. Перед самым уходом, он снова приладил еловую веточку к нижней части двери.
Янг был знатным кабаном и весил, судя по всему, килограммов под сто. Так что, даже несмотря на дивные скользящие свойства материала, из которого был сделан пуховик, тянуть за собой такую ношу было делом нелёгким. Уже через десять минут ходьбы у Бретта страшно разболелся левый бок. Ружьё, надетое Бреттом через правое плечо, весило, пожалуй, не более трёх килограмм, но в данный момент являлось последней каплей. Той самой каплей, что заставляет тонущий корабль перестать раздумывать и действительно начать тонуть. Бретту на мгновение даже захотелось уложить ружьё поверх бесчувственного тела. Но едва представив себе Янга с ружьём – даже с двести раз разряженным ружьём – у себя за спиной, он моментально отбросил эту идею, как чересчур смелую.
Бретт еле шёл. И каждые сто-двести метров останавливался, чтобы перевести дух. Дорога, занимающая налегке минут сорок, вылилась в полтора часа натужного пыхтения. Время и силы отнимало ещё и то, что Бретт поминутно оглядывался назад и пытался понять, без сознания ли ещё Янг или только притворяется.
Поразительно, насколько ранение, пусть даже чужое, кровь и вся эта возня с проклятым бородачом отвлекли на себя всё внимание Бретта. Только на половине пути к коттеджу ему пришла в голову мысль о том, что он напрочь забыл о двери в скале. Он даже не попробовал приоткрыть её, после того, как оглушил бородатого, не говоря уже о том, чтобы зайти внутрь.
Хотя следует признать, виной тому был не только эффект ошалелости от ярого размахивания пепельницей, не только простое человеческое желание не бросать даже такого вот козла замерзать насмерть посреди леса, но и весомая доля холодного расчёта.
Несмотря на то, что Бретту удалось нейтрализовать одного мужика с ружьём, никто не мог поручиться, что внутри его не ждало ещё штук пять. Взять, к примеру, хотя бы снимок на каминной полке. На нём их было пятеро. Минус один позади него… Всё равно получается слишком много. Вдруг все эти ребята там его и поджидают? Что, если все они так или иначе причастны к его беспамятному пробуждению среди очень холодного сумеречного леса?
Но в этой бредовой, и уже не совсем безобидной игре помимо самого Бретта было ещё, как минимум, две действующие силы: та, к которой принадлежал Янг, и та, которая нашла уместным предупредить и Бретта, и Янга об их скорой встрече.
Причастна ли одна из этих сторон к тому, что он очнулся с голой задницей в снегу, или есть ещё и некая четвёртая сторона, которая пока никак себя не проявила, Бретт не знал. Приходилось играть с тем, что есть на руках.
Конечно, никто, опять-таки, не отменял психопатов. А Янг, по общему впечатлению, был именно им. Так что вполне возможно, что все эти действующие силы – лишь разные личности в одной напрочь больной голове этого бородача.
Мысли Бретта вновь начинали обретать колючий привкус паранойи. Ему нужны были ответы, а у него за спиной был вполне себе вероятный ответчик. Куртка Янга, в которую Бретт влез исключительно, чтобы не замёрзнуть, неожиданно навела его на идею о том, что маскарадный костюм «я тот самый мужик с ружьём» может неплохо увеличить его шансы на спокойное перемещение там, за дверью. Обычная человеческая логика и здравый смысл подсказывали Бретту, что за дверью находится простой туннель, который ведёт на другую сторону скалы, а вовсе не огромный ангар, в котором пришельцы паркуют и ремонтируют свои космические корабли. Однако голову на отсечение он бы не дал. Честно говоря, дело было такое, что Бретт и мизинец бы постарался отдёрнуть в последний момент… А потому, прежде чем ломиться внутрь, нужно было выполнить два жизненно необходимых пункта. Хорошенько расспросить обо всём Янга и подготовить свой карнавальный наряд.
Настал момент переосмысления. Теперь Бретт видел в вероятных встречах с новыми людьми не спасение, а только угрозу.
Добравшись до хижины, Бретт отбросил постромки, повалился на снег и потратил добрых десять минут только на то, чтобы отдышаться. Затем он подошёл к телу, достал из кармана нож и легонько ткнул Янга в бедро. Отчаянные ситуации требуют отчаянных мер. Реакции не последовало, и Бретт решил, что определённая уверенность в том, что бородач действительно до сих пор без сознания, всё же ещё есть. Он затащил Янга в дом, усадил его на стул в кухне, отрезал ещё несколько полос ткани от пуховика и накрепко привязал бородатого психа: торс к спинке стула, ноги к передним ножкам, а руки к задним. Когда Бретт привязывал левую руку Янга, на глаза ему снова попались золотые наручные часы. Только на этот раз время на них было не таким уж уместным. Семь сорок четыре. Четыре минуты с того момента, как Бретт нащупал у бородатого пульс. Или любое, кратное двенадцати, число часов и четыре минуты…
«Наверняка, сломались в драке,» – первым делом подумал Бретт и тут же, словно притягиваемый невидимым магнитом, поднял глаза на часы, висящие рядом с мини-баром. Детально изучив эту охотничью радость ещё утром первого дня, Бретт потерял к часам всякий интерес и до этого самого момента даже не вспоминал об их существовании. Сейчас ему захотелось зажать глаза руками, лишь бы не смотреть в сторону стойки, до прозрачности чистых стаканов, разноцветных бутылок и немного выше… Какое-то внутреннее предчувствие уже подсказывало ему, что он там увидит. Но это было сильнее него. Он глянул на стрелки. Семь сорок четыре. Семь. Сорок. Четыре. Бретт с трудом сглотнул и тихонько, без всякого задора выругался. Совпадения такого рода превосходили степенью притянутости за оба уха даже вероятность эволюции человека из инфузории туфельки. Бретт чувствовал, что происходит что-то нездоровое. Но ни одной достойной догадки о том, что же именно, у него не было.
Человек-без-ружья всё так же не подавал ни единого признака сознательной жизни, и Бретту даже закралась в голову мысль, не в коме ли он. Бретт попытался припомнить внешние проявления, по которым можно было бы отличить простую потерю сознания от дремучего коматозного сна, и только спустя минуту он понял, почему же ему ничего не приходит на ум. Дело, очевидно, было в том, что он, мать его, даже события недельной давности сейчас не мог вспомнить. Что уж говорить о медицинских показателях различных бессознательных состояний. Кроме того, шансы, что и до потери памяти, Бретт этого не знал вовсе, тоже были выше высокого.
«Ну и хрен с ним, с этим засранцем. Пусть будет в коме или там, где ему хочется быть, – наконец подвёл он вслух итог своим размышлениям. Откровенно говоря, у него до сих неприятно покалывало в груди при одной мысли о сговорившихся часах. – Кофе! Надо сварить кофе…»
Бретт старательно погремел кастрюлями и чашками, подогревая молоко и доводя до кипения воду с двумя ложками кофе. Больше, чем сам кофе, ему сейчас требовалось чем-то занят руки и голову. Бретт отломил себе большой кусок хлеба, положил сверху ломтик сыра и уселся за стол – есть, пить и поглядывать на Янга.
Поначалу зрелище не было захватывающим, но где-то на середине кружки Бретт едва не поперхнулся, заметив, что глаза бородача под закрытыми веками пришли в бурное движение. Если состояние после удара пепельницей по голове можно хоть как-то сравнить со сном, то, судя по всему, в настоящий момент Янг перешёл в фазу активной послепепельничной отключки. Похоже, настал удачный момент, чтобы помочь заплутавшему охотнику проснуться. Бретт налил из-под крана стакан холодной воды и плеснул его в бородатому в лицо. В ответ тот вскрикнул, захрипел и широко распахнул глаза. Некоторое время он открывал и закрывал глаза с невменяемым видом заводной игрушки. Затем он дёрнулся, пытаясь пошевелить рукой или ногой, но, вероятно, очень быстро понял, что привязан к стулу. Одурение, какое бывает у людей в первые минуты после сна, ушло с лица Янга, и несколько секунд оно прибывало спокойным и умиротворённым. Но буквально вслед за этим бородач уставился на Бретта широко раскрытыми, очень больными глазами. Его лицо вновь перекосила уже знакомая Бретту маска ужаса, смешанного то ли с удивлением, то ли с ненавистью. А скорее всего и с первым, и со вторым в неопределённых пропорциях.
– Кто ты?!! – заревел хрипящим голосом бородатый, и Бретт понял, что он, конечно, на славу потрудился, чтобы связать своего пленника, но, к сожалению, не подумал о том, чем бы в случае необходимости заткнуть ему рот.
– Кто?! Кто ты?! – продолжал захлёбываясь орать Янг. – Тебя нет!.. Тебя здесь нет!.. Тебя здесь не может быть! Никого!.. – он закашлялся. – Это я!.. Это всё я! Тебя нет!..
Янг тряс головой так сильно, что вскоре его импровизированная повязка из шарфа слетела на пол, обнажив гладко выбритый череп, запачканный потемневшей кровью.
Бретт сделал попытку заговорить Янга. Он старался произносить слова уверенным голосом человека, у которого все на местах и всё под контролем, отчаянно мечтая при этом о кляпе, наручниках и электрошоке:
– Янг, успокойся! Я не собираюсь делать ничего плохого. Ты просто очень сильно напугал меня, когда выстрелил в меня из дробовика. Извини, что мне пришлось напасть на тебя и связать. Всё это дурацкое недоразумение. Давай мы сейчас с тобой поговорим. Я расскажу тебе всё, что произошло со мной. А ты расскажешь мне всё, что знаешь обо мне и об этом месте. Договорились?
Бородатый продолжал дико орать и дёргаться всё то время, пока Бретт говорил, и ещё минут пять после. На мгновение Бретту даже показалось, что привязи не выдержат, и ему предстоит новая схватка с этим психом. Он схватил сковороду с полки и отступил немного в сторону. Но пуховик оказался крепче, чем такелажный канат. Ткань без всяких проблем вынесла этот приступ ярости, следом за которым силы покинули Янга. Он заткнулся и обмяк на стуле, полузакрыв глаза и что-то бормоча себе под нос.
Судя по этой сцене, бравый охотник Янг и вправду был знатным психопатом. А значит Бретту пришла пора расстаться с планами получить от него какие-либо ответы. Пустая трата сил и времени. Бретт вернулся за стол и допил свой порядком остывший кофе.
– Янг! – позвал он в надежде хотя бы определиться с именем этого психа. – Эй, Я-янг!..
Бородач не откликался, он всё так же сидел, закрыв глаза и почти беззвучно шевеля губами. Со стороны это выглядело очень похоже на горячечный бред. Бретту стало даже немного совестно. Вполне вероятно, что столь девиантное поведение этого человека являлось прямым следствием недавней встречи его лысого затылка с пепельницей. Однако в противовес такой версии Бретт тут же живо припомнил выстрел в упор из дробовика, которым его при первой встрече угостил Янг, и чувство вины как-то сразу улеглось. Нет, ребята, этот красавец был не в себе ещё до удара по голове!
Речь стала чуть громче, и Бретту показалось, будто бородатый молится. Это невнятное бормотание очень вероятно было единственной информацией, которую Бретт мог получить от проклятого лунатика. Делать было нечего. Бретт осторожно подошёл к Янгу, наклонился к нему поближе и прислушался.
Бородатый говорил хрипло и прерывисто, через силу выталкивая из себя каждое слово:
– Между огней… – тяжёлый вздох. – Между огней… Посреди океана… Между морей, гор посреди… Прошу, меня отпусти.
Бретт застыл. Что-то произошло, а он не мог понять, что же именно. Мир будто накренился. Уже знакомая дрожь пробежала по телу. Эта чудаковатая поговорка отразилась в нём, как отражаются слова от стен каменной пещеры, искажаясь до неузнаваемости, превращаясь в пустые звуки, в другие слова…
Слова. Они накатывали на него и выкатывались прочь тяжёлыми волнами. Они лились сами, словно ведя сумасшедший диалог с припадочным бульканьем Янга: «Я холодное горное озеро… я глубокое синее озеро. Моя поверхность чиста… моя поверхность спокойна. И самый сильный ветер лишь пробежаться может лёгкой рябью по моей синеве. На мою гладь светит солнце, играет золотыми искрами. Иногда идёт дождь. Иногда падает снег. Но ни солнце, ни дождь и ни снег не достигают моих глубин. Солнце вязнет во мне, дождь и снег лишь питают меня. В моих глубинах плавают мои рыбы, мои сокровища лежат на моём дне вместе с моим мусором: ржавыми велосипедами и глубинными бомбами. И день за днём я кормлю своих рыб, я обволакиваю илом свой мусор, растворяю его в пыль и прах, я омываю свои сундуки с холодным золотом и ледяными рубинами. Всё идёт своим чередом… – у Бретта закружилась голова, и он упал на колени. – И с приходом весны…»
И тут Бретт увидел близко, слишком близко от себя широко распахнутые глаза бородатого, которые смотрели на него в упор. Янг раскрыл рот и снова заорал:
– Тебя нет!.. Тебя нет!.. Только я!.. Тебя нет!..
Бретт отшатнулся в сторону и повалился на бок, словно частично парализованный. Бородатый продолжал орать и извиваться на стуле. Он дёргался и почти подпрыгивал, а Бретт буквально в полуметре от него продолжал ошарашенно смотреть вперёд, не понимая, что же сейчас произошло. Все его движения, все рефлексы были замедленны в разы, будто он только что был контужен свето-шумовой гранатой. И тут Янг дёрнулся на стуле особенно сильно, привязь на левой руке лопнула, и его лицо осветилось безумной ухмылкой. Сердце Бретта неприятно дёрнулось и будто замерло в ожидании. Бородач уже потянулся левой рукой к привязанной правой, но в то же мгновение стул, выведенный из равновесия его беснованием и застывший было на двух боковых ножках, накренился ещё сильнее и со всего размаху рухнул на бок. Окровавленная лысая голова, ведомая инерцией, долетела до деревянного пола и ударилась об него с глухим треском ломающихся костей. Янг болезненно хрюкнул и закатил глаза.
Бретт потратил ещё минут пять на то, чтобы прийти в себя. Он медленно поднялся с пола и подошёл к Янгу. На этот раз он наклонился над телом вовсе не для того, чтобы проверить пульс. Вместо этого, он быстро проверил все карманы. Дверь, которая теперь была его единственной очевидной целью, не имела замочной скважины, а значит, ключ ему тоже вряд ли бы понадобился. Но кто знает наперёд, сколько всего полезного или просто интересного может быть в карманах незнакомцев с психическими отклонениями. Увы, в карманах этого конкретного экземпляра было не густо: ни патронов, ни ключа от машины, ни даже ключа от этого самого дома. И снова пустая трата времени, наводящая на неприятные раздумья.
Бретт встал в полный рост. Ему до осточертения надоел этот психопат. Пришла пора побыстрее сваливать отсюда. Он надел на себя куртку бородатого, нашёл в шкафу меховую шапку, сделанную словно из другого куска той же самой шкуры, что и шапка Янга, сунул в рюкзак первую попавшуюся под руку еду, накинул на плечо ружьё и вышел наружу.
День был в разгаре. Солнце светило свысока, и птичьи трели неслись к дому словно с каждого дерева. Бретт захлопнул дверь и быстрым шагом двинулся через поляну ко входу в аллею.
Он шёл, невольно любуясь солнечными лучами, запутавшимися в белых ветвях. Лесные звуки успокаивали, наполняли Бретта собой, и тяжёлым мыслям становилось всё труднее и труднее отыскать свободный уголок в его голове. Бретт прощался с этим местом. За неполные три дня оно стало родным и знакомым, занимая своими снежными образами всю пустоту его потерянной памяти. Оно было для Бретта, как образ матери-гусыни для едва вылупившихся гусят. Пусть даже на месте пушистой птицы была лишь угловатая пластиковая поилка… Кое-где он до сих пор мог различить отпечатки своих босых ног, растопивших снег в тот самый первый вечер. Рваные следы ботинок, говорящие о паническом беге. Глубокие дыры в рыхлом снегу далеко за пределами тропинки. Узкую колею, которую оставило за собой тело бородатого Янга. Он любил и ненавидел это место. Он хотел уйти отсюда как можно скорее, но заранее знал, что захочет вернуться.
Бретт сам не заметил того, как оказался у еловой поросли. Он осторожно протиснулся за неё и первым делом снова бросил взгляд на веточку, укромно примостившуюся у подножия двери. Веточка была на месте. Бретт подошёл к двери, взялся за ручку и потянул её на себя. Затем попробовал толкнуть вперёд. Дверь осталась неподвижна. Дверь была заперта. Бретт стоял у двери, ухватившись за ручку и не понимая, что делать дальше. Дверь была его последней надеждой. Единственным планом побега. Но дверь была заперта, и замочной скважины у неё не было. А значит, она была заперта кем-то с другой стороны.
Бретт закрыл глаза, и слова отчего-то вновь пришли сами. Кодовая фраза! Ну конечно!.. Конечно, это была кодовая фраза! Позабыв про все предосторожности, Бретт бешено заколотил кулаком по двери. На ум пришёл образ бородача, молящегося своим душевнобольным богам, и Бретт, будто повторяя за ним, произнёс его слова вслух: «Между огней! Посреди океана! Между морей, гор посреди! Прошу, меня отпусти!»
Бретт ощутил, что давление двери исчезло, но почему-то видел вокруг себя лишь непроглядную тьму. А потом он почувствовал, что падает. Или взлетает. От скорости закружилась голова. Бретт зажмурился, и невыносимое, сплетающие кишки в морской узел движение, которое не могло остановиться иначе как резким рывком или ударом, ушло. Просто растворилось. Всё замерло.
Бретт с трудом разлепил глаза и увидел, что лежит на нижней полке вагона, пристёгнутый по всем правилам длительных поездок.
***
Восемнадцатый этаж – это не просто положение над уровнем моря, это точка зрения. Бретт с пластиковым скрипом открыл окно на балконе – древний двойной стеклопакет из тех, что перестали производить аккурат в день его рождения. В лицо ему хлынул плотный, прохладный и, как ни удивительно, для этого покрытого слоем пыли города, свежий воздух с тонкими нотками подступающей зимы и оглушительными послевкусием уличного шума. Конец октября. Ранее утро.
Нет, правда, всё, что ниже пятого этажа необходимо официально признать непригодным для жизни в этой части города. Жить вровень с городским трафиком – это настоящее бедствие, терпеть которое станет только умалишённый. Пыль, гудки машин, крики продавцов утреннего рынка, пыль, пыль, пыль и, наверняка, насекомые – такой микстейп крутят тут в режиме нон-стоп без всяких шансов на спасение. Даже пресловутый восемнадцатый этаж являет собой лишь слабое утешение. Утешает он лишь несколько злорадной мыслью о том, «а что же тогда творится на первом», и очень неплохой панорамой типовых не-слишком-многоэтажек, построенных в каких-то затерявшихся в истории типовых двадцатых годах. Очень слабое утешение, короче говоря.
Взгляд Бретта привлекла некрупная муха, слепо бьющаяся в стекло с удивительной заводной настойчивостью и мягким жужжащим звуком, прерывающимся только в краткие моменты её соприкосновения с невидимой преградой. Бж… Бжжж… Бжж… Какого чёрта?.. Восемнадцатый этаж!.. Сколько энергии должна была потратить эта штуковина, чтобы поднять свои полграмма мушиной массы на семьдесят метров над землёй? Да ей бы пришлось брать с собой в дорогу канистру для дозаправки. Это просто невероятно… И опять-таки, «что же тогда творится на первом»?
Бретт потратил ещё минуту, прикидывая в уме массу крылатой нарушительницы, высоту здания и вероятность того, что муха просто пришла пешком по стене или вообще была рождена и выросла на территории квартиры. Потом он попробовал аккуратно выгнать её в приоткрытое окно. Спустя три минуты безуспешные взмахи руками, призванные выпроводить муху живой, плавно переросли в убийственные, в теории, а в реальности столь же безуспешные хлопки по стеклу, кафелю, пластику и всему остальному. Но мимо мухи. Ещё пятью минутами позже обиженное насекомое ловко скользнуло в глубину дома через тонкий зазор между балконной шторой и приоткрытой дверью. Бретт лишь разочарованно прикинул возможные усилия на то, чтобы поймать эту мерзавку в пяти комнатах, и выглянул в окно. Внизу пёстрая река покупателей и просто прохожих неспешно текла среди пёстрых берегов-торговцев. В меру пёстрых, надо сказать. Шикарная, броская яркость красок, тканей и фруктов восточных базаров не имела никакого отношения к этой тусклой разноцветной безвкусице. Мясная лавка, овощи исключительно зеленого цвета, два ряда джинсов на вешалках, ещё пара мясных лавок, одна из которых мусульманская, а другая почти точная копия первой, но не мусульманская. Россыпи чеснока, хурмы и помидоров, чаще всего просто на земле, иногда на кусках ткани или полиэтилена, ещё реже на наспех сколоченных деревянных столах. Чайная лавка, невзрачные фрукты, другие невзрачные фрукты, какая-то пакость в больших белых мешках – то ли крупы, то ли стройматериалы, не разглядеть. Пластиковая утварь: много больших тазов, вёдер и ещё больше всякой мелочи… В этот момент взгляд Бретта зацепился за яркое пятно синего брезента, на который торговцы выливали, вышвыривали живую рыбу из пластиковых бочек. Только что покинувшие бочки рыбины поначалу бешено бились, подпрыгивали, метались и скользили по всему брезенту, цвет которого вероятно был выбран, чтобы навеять покупателям, а может, и самим рыбам мысли о море. Спустя буквально полминуты рыбы замирали на своём последнем месте и лишь тяжело прогибались дугой, подгоняемые ногами продавцов в ровные ряды. От этого зрелища Бретту стало одновременно и гадко, и тоскливо. Но он, как околдованный василиском странник, всё смотрел и смотрел на синий брезент лавки «Живая рыба».
«Медленно умирающая рыба» было бы куда уместнее, подумалось ему. Каково это, вот так медленно корчиться, задыхаться и ждать смерти на едва влажном синем брезенте?.. Извиваться под вездесущими жёлтыми пиками солнечных лучей и пинками резиновых сапог?.. Что чувствуют эти рыбины, когда идёт дождь? Чувствуют ли они капли дождя на своих шкурах? Легче ли им от этого? Что для них эти капли: тихая надежда, послабление мучений или лишь мелкие пузырьки кислорода, рвущиеся вверх мимо тонущего аквалангиста? Будят ли они, эти капли, воспоминания о доме? Бретт закрыл глаза и мысленно помолил Бога о ливне. Таком ливне, чтобы у каждой, ещё живой рыбы появился шанс извернуться, хватить жабрами холодной дождевой воды и поплыть, рассекая поток, в полуметровой высоте от дорожной разметки. Спускаться по водопадам и порогам, в которые превратятся лестницы, заплывать в окна брошенных машин и настежь распахнутые двери покинутых в панике домов. Что же тогда будет твориться на первом этаже?..
Бретт открыл глаза. Ливня не было, по небу лениво бродили лёгкие облачка, день обещал быть ещё по-осеннему тёплым, хотя по ночам уже случались настоящие заморозки. Из глубины квартиры11 едва слышно потекла напевная африканская мелодия, потом звук сменился12 на что-то воздушное, дёргано-скрипичное13 и явно набрал оборотов. Что-то брякнуло, звонкий девичий голосок произнёс очень неприличное слово, заревела и захрустела кофемолка.
«Похоже, она проснулась, – подумал Бретт. – И, очень похоже, что она вовсю следует его вчерашнему совету „чувствовать себя как дома“. Бог мой, и как же ею всё-таки зовут?. Ээээ.. Эми!..»
«Кого я обманываю, мастер придавать свежести отношениям, – он улыбнулся, вспоминая то время. – Это было уже почти шесть лет назад и в совершенно другом месте».
В тот памятный пьяный вечер он действительно сказал Эми, что она может быть как дома, правда, это являлось лишь саркастическим комментарием к тому, что её вырвало прямо на входе. Обычно такие происшествия и такие шутки напрочь портят встречи, начинающиеся с долгих взглядов в ночных барах. Но в тот раз всё было иначе. Как-то проще. Между Бреттом и Эми уже после первого стакана не самого дорогого и уж точно не самого вкусного красного вина в маленьком инди-баре с живой… медленно умирающей гитарной музыкой возникло ощущение вековой, просто какой-то вселенской близости, которое лишь усилилось после рвотного приключения Эми. Тот вечер этим не кончился. Он, скорее, раскрылся новыми гранями, хотя им обоим и пришлось изрядно поработать салфетками, шваброй и духами, наудачу отыскавшимися в сумочке Эми, вместо освежителя воздуха, а сама идея поцелуев была напрочь дискредитирована. Тем не менее все, даже самые небольшие остатки неловкости, которая словно невидимый цемент заполняет пространство между двумя мало знакомыми людьми, притянутыми к друг другу лишь слепой животной страстью, бесследно исчезли. Так, словно по волшебству, исчезают въевшиеся пятна с кафельного пола. Сорок минут изнурительного труда, и их уже нет14.
Бретт хорошо помнил то время, когда он только встретил Эми. Мир был новым, мир был едва живым. Все были тогда куда беднее и куда несчастнее, и потому любое проявление счастья воспринималось как настоящее чудо. На следующее утро выяснилось, что Эми учится в том же университете, что и Бретт, на курс младше и на совершенно дурацкой, с его точки зрения, специальности.
В те дни15 Бретт передвигался по городу на старой отцовской машине. Он колесил по гололёду скудно освещённых городских улиц с на треть запотевшими и на две трети замёрзшими окнами, без подушек безопасности, без зимней резины, вообще без ничего, зато под оглушительную рок-музыку и на скорости под добрую сотню километров в час. Не всегда, конечно, но слишком часто. Сейчас всё это казалось Бретту удивительно везучим ежедневным спуском в жестяной коробке из-под конфет по крутой ледяной горке, усеянной каменными глыбами и другими жестяными коробками разных цветов и размеров. Сейчас это виделось Бретту чистой воды сумасшествием. Но тогда… Тогда эта была скромная плата за то, чтобы увидеться с Эми. Прикоснуться к ней, вдохнуть аромат её тела. Поцеловать. Поцеловать ещё. И, если повезёт, продолжать целовать дальше, неуклюже стаскивая одежду с неё и с себя, и стараться выкинуть из головы навязчивую, словно старый рекламный ролик, мысль, что с каждым движением, с каждым прикосновением его губ к её телу и её губ к его, с каждой рваным вдохом и выдохом, с каждым их стоном, жестянка с четырьмя колёсами, стоящая на улице, замерзает всё сильнее и сильнее. И всё меньше и меньше шансов до нескорой оттепели или ещё более неблизкой весны снова завести её двигатель16.
Они провстречались так почти два месяца. А потом ему дали стипендию в Государственном университете Урал Юга. Что и говорить, не самая престижная спальная зона и далеко не самый лучший университет. Но приглашение со стипендией было неплохим шагом вперёд в плане самостоятельности, и он, конечно, поехал. Последнюю неделю перед отъездом они провели, почти не выбираясь из постели. Хотели залюбить друг друга впрок. Или насмерть.
Бретт провёл в отчуждённом, бесчувственном одиночестве почти весь свой первый год в том университете. Он будто жил в искажённой реальности, в которой его мысли и музыка, неумолкающая в его наушниках во время одиноких прогулок, были реальнее окружающих его людей.
Не бросай меня здесь, идти сквозь время одному,
Без карты и дорожных знаков.
Не оставляй меня, мой путеводный свет,
Потому что я не знаю, где начать…
King of medicine17, мелодия, наверное, времён молодости его прадеда, была извечным спутником этих долгих серых дней. Главное здание университета было поглощено старым, заросшим и запутавшимся в самом себе парком. Оно тонуло в деревьях, спало беспробудным каменным сном среди лохматых клёнов и нечёсаных плакучих ив, которые то и дело роняли на прохожих капли, причудившегося им дождя. В первую его одинокую осень Бретту казалось, будто где-то там, среди бесконечных аллей этого старого университетского парка, есть одна, далёкая и всеми забытая, одна единственная аллея, пойдя по которой, можно почти случайно попасть на такую же покинутую и тенистую пешеходную тропу тихого соснового бора и выйти из него прямо к дому Эми. Старенькому коттеджу в два этажа красного кирпича под черепичной крышей, в котором она жила в те дни в пригороде их родной спальной зоны вместе с родителями.
Его оцепенение закончилось одним вечером. Стоял конец мая, а жара уже плавила крыши домов. Бретт вернулся с тренировки в университетское общежитие, где его ждал запечатанный «стакан» магнитопочты с обратным адресом Эми под штрих-кодом. Он зашёл в комнату, отвернул крышку «стакана» и вытряхнул на ладонь крошечный серый прямоугольник с блестящей полоской контактов. Достал свой плеер, выщелкнул из него карту памяти18, дрожащими пальцами вставил только что полученную и вложил наушники в уши.
В первое мгновение голос Эми едва не вышиб из него сознание – громкость была настроена им так, чтобы музыка могла с лёгкостью заглушить не только звуки окружающего мира, но и любые мысли, а Эми на записи кричала изо всех сил: «Я еду к тебе! Я еду! К тебе!!. Ой нет, только не прыгай от радости! Не прямо сейчас. Я даже еду не то чтобы совсем к тебе, я еду учиться в твой университет. Сегодня пришло приглашение! Я буду в начале августа, представляешь? Я люблю тебя!..»
В тот день Бретт напился. Впервые за всё время, которое он провёл без Эми. Просто вышел на улицу, дошёл до ближайшего супермаркета, купил три бутылки вина и напился. Мимо проходили люди, знакомые, незнакомые, незаметные силуэты чужой жизни. Вечер сменился ночью, но ночь была тёплой. Он сидел на траве, пил, слушал музыку и мечтал о том, чтобы следом за маем сразу наступил август.
Но случилось так, что он не дождался ни августа, ни Эми. В середине июля Бретт сдал какие-то экзамены заранее, а какие-то просто бросил и уехал к ней сам. Три недели спустя уже вместе и с целым выводком чемоданов, они вернулись на долгом ночном вэм:т назад. Спешить было некуда. По расписанию первый автобус до города отправлялся только в шесть утра. Но едва Бретт и Эми примостились на четырёх смежных креслах в полупустом зале прибытия и приготовились промучиться пять с половиной часов, как с чёрного беззвёздного неба полился дождь. Ливень нахлынул канонадой звуков. Он бил в тысячи маленьких глухих барабанов прозрачного купола терминала номер шесть, искрился в прожекторном свете огней огромной терминальной парковки. Сбегал прозрачными струями с блестящих красно-серых спин двухэтажных автобусов. Бретт закрыл глаза, и ему почудилось, будто он совершил прыжок во времени и пространстве, будто он совсем не в терминале прибытия вэм:т, а дома. Летний домик на отшибе поместья. Август19. Другой август. Бретту двенадцать лет. Его мама затеяла выкрасить в доме все батареи и подоконники и, боясь за аллергию Бретта, выгнала его коротать часы на свежем воздухе. Хмурый день. Всё собирается дождь, и, наконец, небо прорывает. Бретт спасается на втором этаже летнего домика: там есть пара старых кроватей под необшитой крышей. Он ложится на кровать и почти сразу засыпает под густой, мерный перестук дождя по шиферу и хрипловатый голос старого ufm-приёмника, настроенного на модную рок-волну. Бретт открыл глаза20. Над ним было чужое небо, бьющее в стеклянный купол потоками воды. Он закрыл глаза, и время вновь превратилось в бурный поток, который тащит вперёд и куда-то вбок и вверх. Вверх, вверх, вверх, неумолимо и быстро. Бретт лишь успел краем глаза отметить, что Эми спит на соседних двух креслах, и рефлекторно приобнять за выдвижную ручку один из их чемоданов левой рукой, а правой ухватить Эми за ногу. А потом он вновь, словно герой экранизации старой детской сказки про волшебников, трансгрессировал, таща за собой Эми и чемоданы. Пространство свернулось газетой в узкую чёрную воронку, а время устремилось по ней невыносимо быстро и совершенно безостановочно. Словно цунами, ворвавшееся в железно-дорожный туннель. Полчаса назад, поднимаясь в здание терминала после семи часов поездки, Бретт полагал, что впереди их ждёт ещё один отвратительно долгий отрезок времени, но шум падающих капель изменил всё. Дождевой гипертуннель во времени сократил ожидания до пяти не более чем минутных пробуждений, небольших островков в скользящем потоке, сотканном из снов и воспоминаний. Последний островок оказался чуть больше, и Бретту удалось провести пальцем по экрану своего плеера и даже через силу понять, что светящиеся цифры, надрываясь, орут ему в лицо – без трёх минут шесть. Было пора сойти с экспресса времени и пересесть на автобус до города. Он, как можно более нежно, растолкал спящую Эми, и они в компании стаи чемоданов отправились колесить по необъятному зданию терминалу в поисках ближайшего выхода к автобусам.
Это был последний раз, когда он так хорошо спал. И почти последний раз, когда он спал вообще. Через две недели вышел государственный пакт о всеобщей обязательной активации областей направленного смещения сознания. Время снов для них закончилось.
***
Отращивание бороды21 имеет столько же общего с хождением небритым, сколько банальное безверие с научно-обоснованным атеизмом. Отращивание бороды – дело не терпящее дилетантства и суеты. Дело, требующее как природных данных, так и навыков, наработанных собственной волей и трудом. Более того, это занятие, как и прочие культы, окружено множеством глупых стереотипов, суеверий, легенд и мифов. Самым отчаянным проявлением которых, является, безусловно, попытка неуклонно лысеющих или уже лысых мужчин компенсировать отсутствие волос на верхней части своей головы их буйным наличием в нижней части. Попытка бесславная и глупая, ибо настоящая борода – это не просто продолжение причёски, это её неотъемлемая часть. А лысина, конечно же – это её, причёски, полное отсутствие.
Бретт открыл глаза. Он уже несколько секунд бессмысленно рассматривал лицо, смотрящее на него с противоположной стороны. Это лицо было лысым, бородатым и до странности знакомым. Это было лицо Янга… Это был Янг!
Бретт резко дёрнулся и даже успел порадовался, что он хорошо пристёгнут. Не будь на нём ремней, и он бы непременно расшиб себе голову о верхнюю полку. Но несмотря на то, что ему чудом удалось избежать удара головой, последнюю внезапно пронзило колющей болью, словно в затылок вошла тонкая, но очень длинная игла. Бретт постарался расслабиться и слегка обмяк на кровати.
Вагон покачивало, будто он летел по очень длинной и плавной синусоиде. Лицо напротив то исчезало, когда вагон заполнялся светом, то появлялось вновь, когда они проносились по неосвещённым участкам туннеля. И только тогда Бретт наконец понял, что это лицо – он сам. Это его собственное лицо, отражающееся от противоположного окна вагона.
Огни технического освещения туннеля мелькали за стеклом с головокружительной скоростью, и с каждой новой вспышкой к Бретту возвращались воспоминания. Казалось, будто первые из них несли с собой лишь по одному отдельному кусочку памяти. Но с каждом новым ярким пятном воспоминания начали приходить десятками и сотнями, абсурдными мозаиками, связанными тонкими усиками ассоциаций. Поначалу Бретт пытался разобрать смысл каждого образа. Но, концентрируясь на отдельном воспоминании, он будто проникал внутрь него. Образ обретал цвета, глубину и подвижность, а в это самое время другие обрывки памяти продолжали приходить новыми вспышками – всё ярче, всё чаще. Этот безостановочный фейерверк сделал боль в голове поистине невыносимой. Бретт прикрыл глаза и немного ослабил фокус, наблюдая за тем как отдельные вспышки постепенно сливаются в поток, затапливающий его изнутри.
Он вспомнил, как его зовут, и кто он такой. Он вспомнил заснеженный лес и дом посреди этого леса. Он вспомнил Янга. Он вспомнил всё, что было перед тем, как он очнулся в лесу. Но эти воспоминания не дали ему грандиозного понимания происшедшего. Он продолжал вспоминать: всё больше и больше, всё глубже в прошлое. Было много грусти и много радости. Была целая жизнь. И будто ещё одна… А затем к нему вернулось что-то бесформенное и печальное. Что-то, что перечеркнуло все радостные воспоминания и оставило на них налёт забвения. Ржавчины. Оно было, будто старый гвоздь, вбитый кем-то в дерево лишь для того, чтобы один-единственный раз повесить на него шляпу. Можно зарастить эту рану, можно забыть о гвозде на долгое время, но он никуда не денется. Он всё равно будет там. И когда годы спустя случайный прохожий зацепиться за гвоздь своим пальто, боль придёт с новой силой.
Бретт почувствовал, что сейчас его наполняли не только собственные воспоминания, но и все воспоминания Янга. Они переливались внутри него. Сначала они были разрознены и перемешаны, будто пузырьки углекислого газа в упавшей со стола бутылке шампанского. Но постепенно воспоминания пришли в порядок. Уравновесились, как жидкость в сообщающихся сосудах.
Он мог почти безошибочно отделить свою память от памяти Янга. И он отчётливо понимал, что та всепоглощающая тоска, что окутала его секунду назад, была только его и ничья больше. Это были воспоминания об Эми.
Бретт знал, что не сошёл с ума. Хотя, говорят, что это с точностью знают все сумасшедшие. Он даже в целом понимал, что произошло, но так до конца и не мог поверить, как же это вообще возможно. Он, его сознание, был в теле другого человека. Каким-то образом он попал из своего про:о в чужое, а затем нехитрой комбинацией из пепельницы и кусков пуховика сумел замкнуть хозяина внутри и выйти на поверхность, используя подслушанный ритуал…
«Кодовая фраза, чёрт!» – Бретт невольно хмыкнул над своей глупостью, вспомнив умозаключения, которые ещё недавно казались ему верхом сообразительности.
Пожалуй, теперь ему было чуть проще понять агрессивную реакцию Янга. Встретить кого-то внутри своего про:о – опыт нетривиальный, если не сказать, психоделический.
Бретт наклонил голову вперёд и осмотрел себя. Он был одет в лёгкую замшевую куртку, лимонного цвета рубашку, светло-серую брючную пару… и бороду Янга, которая закрывала ему весь обзор. Бретт залез под рубашку рукой и потрогал правый бок. Бок был целым и нисколько не болел. Но это был бок Янга, а не его. Тогда он легонько ощупал затылок. Никакого намёка на боль. Побаливала только левая скула, но очевидных причин для этого Бретт в своей памяти отыскать не сумел. Со стула Янг упал на правый бок. Скалу Янг гладил правой щекой… Быть может, у него на днях в местном баре состоялось рандеву с кулаком. Учитывая темперамент Янга, это едва ли было удивительно. Закономерно, скорее…
«Всё это может быть безопаснее, чем кажется, – с интересом подумал Бретт. Он снова посмотрел на себя в отражении бокового стекла и прошептал: – Ну здравствуй, Янг. Что же мы с тобой будем делать?..»
И тут Бретт заметил22, что прямо у него над головой горит маленький красный огонёк, помеченный схематическим изображением человеческого глаза. «Твою же мать!.. Я же в вэм:т… – прошептал он. – Датчик сработал, наверное, ещё тогда, когда я только приоткрыл глаза. Минут пять или даже десять назад… Сейчас сюда придут проводники и заставят меня снова войти в про:о».
Бретт лихорадочно соображал. Он знал ритуал выхода, но и понятия не имел о ритуале входа. Более того ему нисколько не хотелось вновь возвращаться в заснеженный лес. Кто знает, может быть, на этот раз мистер Янг стоит у той самой двери и ждёт его с обломком пепельницы. Или с ножом. Или с нацеленным дробовиком. Это могло быть хоть тысячу раз безопасно, у него не болел ни бок, ни затылок, но смерть в чужом про:о не вызывала никаких приятных ассоциаций. Неясно, так ли это плохо, как в реальности, но всё равно совсем не то, чего стоит попробовать. А что ещё хуже, так это быть пленённым в про:о… Бретт уже сделал это с Янгом и не горел желанием в ближайшее время поменяться с ним местами.
С другой стороны этот лес с агрессивным бородачом внутри был сейчас единственным доступным Бретту про:о. Без смещения сознания он превращался в кусок мяса с истекающим сроком годности. У него в запасе есть часов двадцать, тридцать от силы, а затем он перестанет трепыхаться и начнёт всерьёз умирать от истощения центральной нервной системы.
Если проводники найдут его прямо сейчас, всё усложнится ещё больше. Незнание собственного ритуала входа, наверняка, вызовет кучу вопросов, подозрений и вытекающих из них проблем. Его под бдительным присмотром направят в ближайший синх:ц для обследования… И выяснят, надо думать, много интересного.
Можно было, конечно, открыть временное отделение театра кабуки: закрыть глаза и притвориться, что он в отрешении. Но что, если он никчёмный актёр? Что, если ему не поверят? Многое зависело ещё и от того, сколько именно нужно притворяться. Всё, что меньше часа было вполне реальной задачей, но вот несколько часов с закрытыми глазами, без движения, без про:о… Проще было встать и уйти. Уйти вот в этом?.. Чёрт! А где же он сам? Где его тело? Ведь он сейчас, надо думать, выглядит ну точь-в-точь загремевшим в кому про:о. Если кто-нибудь заметит это, его тело отправят в госпиталь и подключат к аппаратам жизнеобеспечения. Но если никто не будет платить, то насколько долго? На день? На два? Бретт знал наверняка, платить за него было некому. Хорошо хоть, что за Эми можно не беспокоиться ещё пару недель…
Интересно, много ли денег у Янга?.. Надо найти своё тело, а ещё важнее, способ поскорее вернуться в свою голову.
Бретт отстегнул ремни, и над ним в ту же секунду вспыхнул второй красный огонёк. На этот раз с пиктограммой толстой горизонтальной линии, накрест перечёркнутой двумя линиями потоньше. Ну это уж точно за пределами всяких норм. Теперь они придут без всяких сомнений. Бретт свесился со своей полки и глянул в проход вагона. Разглядеть что-либо через толстые стекла гермодверей было непросто. Состав продолжал лететь по туннелю, извиваясь словно увлечённый слаломом удав, и лишь в редкие момент времени позволял посмотреть сквозь несколько вагонов разом. Налево, насколько можно было видеть, было совершенно пусто, но справа, вдалеке, Бретт уловил взглядом движение каких-то коричневых пятен. Проводники… Он изо всех сил стиснул зубы. Проводники! Ему нужно было срочно выйти из этого поезда!
Над выходом из вагона светилось большое белое табло с указанием ближайшей станции и времени прибытия:
Москва Новгород Центр, одиннадцать минут.
Это было, пожалуй, огромной удачей, учитывая тот факт, что общая продолжительность маршрута вэм:т во временном эквиваленте значительно превосходит количество остановок на нём.
«МНЦ… Где же… Где же это? Звучит до боли знакомо, но, чёрт побери, я же всегда в про:о на этих станциях!» – мысли мелькали перед глазами и неудержимо выскальзывали в правое ухо.
Бретт спрыгнул с кровати и, пригнувшись, побежал. Он пробежал пару метров, чертыхнулся и вернулся назад к своему месту. Ему требовалось узнать об этом новом себе хоть что-то. Хотя бы станцию назначения Янга и его полное имя. Бретт залез в маршрутную панель, вмонтированную в низкий потолок: Монтана Центр. Янг Л. Комото. И тут ему в голову пришла ещё одна идея. Он поднял крышку отдела ручной клади и забрал оттуда чёрную кожаную сумку, которая, без сомнения, принадлежала Янгу.
Затем Бретт снова дотронулся до панели и развернул список станций. Москва Новгород Центр?.. Так рядом? Прошли только восточные промзоны, Урал Юг и… всё. Даже под воду ещё не скользнули. Как такое вообще возможно? Ведь он провёл в дурацком лесу не меньше двух суток, а тут и четырёх часов не прошло. Это было из ряда вон. Про:о не сон, там не случается причуд со временем. Никогда не случалось… Может быть, его по какой-то дикой случайности не сняли с поезда на терминальной станции, и это уже его четвёртая поездка из края в край? Трижды не сняли с вэм:т, ну да… Чёрт, зато теперь всё стало ясно с возвращением Янга. Не будь он в вэм:т, он бы ни за что не вернулся назад. Он наверняка бы сразу побежал в синх:ц, чтобы просканировать всё своё пространство отрешения, а может, и перезаписать его подчистую. Но он был тут. Он открыл глаза, датчик сработал. К нему тут же пришли и настоятельно попросили «ради его же комфорта и безопасности» поскорее вернуться обратно.
И тут Бретта кольнуло. Мысль была дискомфортной. Она не была плохой, она просто никак не вписывалась во всё то, что он знал и чем он жил каждый день, изо дня в день последние десять лет. Так же как не вписывалась в его привычные представления разница во времени, которую он провёл тут и там. Он вспомнил, что спал в про:о. Он спал, и ему снились сны. Да, он не знал, что это было пространство отрешения, но это в сущности ничего не меняет… Или меняет?.. Голос системы оповещения прервал ход его мыслей.
Десять минут до прибытия.
Бретт попытался переназначить станцию прибытия Янга, заменив её на одну из уже пройденных, но все они были заблокированы. Тогда он выбрал ближайшую. Это должно было охладить интерес проводников к нему и его пустому месту. А может быть, и нет. Насколько он мог вспомнить, обычно мало кто менял станции во время движения вэм:т.
Бретт снова двинулся в сторону двери. Очутившись в непосредственной близости, он провёл рукой по зелёному квадрату в центре. Створки с тихим шипением расступились, впуская его в соседний вагон, и без промедления закрылись следом за ним, стоило лишь ему оказаться внутри. Абсолютно нелишний элемент системы безопасности для вида транспорта, который одну треть своего пути проделывает под водой на глубине свыше километра.
Каждый вагон представлял собой отдельную капсулу, имеющую гермодвери в передней и задней части. Вагоны сцеплялись посредством гибких шлюзовых камер, которые в свою очередь были оборудованы станционными выходами. Поскольку внутри вагонов девяносто восемь процентов всего времени пассажиры проводили в про:о, то никакой рекламы там и в помине не было – слишком низкий КПД. Зато огромный информационный дисплей располагался на потолке каждого шлюза, одного из редких мест этого поезда, хотя бы время от времени наполненного большим количеством людей в сознании.
Реклама новой модели внедорожника сменилась рекламой новой модели духовки, которая под самый конец прервалась на новости.
Бретт стоял у выхода и напряжённо посматривал в сторону движущихся к нему проводников. Они шли, внимательно осматривая ряды пассажиров.
Девять минут до прибытия.
Приглушенный голос донёсся до него из динамиков:
«Нападения на людей, находящихся в про:о продолжаются. Напомним, почти месяц назад группой террористов, называющих себя «p51», что, предположительно, является искажённым написанием греческой буквы Psi23, но так же широко известных как «Неспящие», был похищен переносной синхронизатор, не так давно введённый в использование для удобства всех граждан Объединённой Республики, а особенно тех из них, для кого в силу ограниченной мобильности посещение центров синхронизации было затруднено. В течение этого периода было зарегистрировано свыше пятидесяти нападений. Нападения чаще всего происходили непосредственно в домах жертв, а также в отелях, кинотеатрах, залах ожидания и на всех видах общественного транспорта. Состояние пострадавших тяжёлое, но стабильное.
Медики пока не дали внятного ответа о возможных методах реабилитации, но сообщили, что ими делается всё возможное. В то же время официальный представитель Министерства здравоохранения уже заявил, что данное состояние не представляет прямой угрозы для жизни и здоровья пострадавших и пообещал полное государственное покрытие всех их больничных счетов вплоть до тех самых пор, пока проблема не будет решена.
Имеются неподтверждённые сведения о том, что про:о жертв были похищены в ходе нападений. Предположительно, похищения могли быть совершены с целью последующего вымогательства. Однако по нашим данным никто из родственников жертв до сих пор так и не получил требований о выкупе.
Другая версия, выдвинутая множеством экспертов, предполагает угрозу не отдельным людям, а государственной системе в целом, справедливо сравнивая столь массовые нападения со взрывами в публичных местах. Однако ни террористическая группировка «p51», ни какая-либо другая до сих пор так и не взяли на себя ответственность за данные преступления.
Следствие продолжается. Охрана всех видов общественного транспорта усилена и приведена в состояние повышенной боевой готовности. Мы в свою очередь присоединяемся к полиции, которая призывает всех без исключения граждан быть бдительными, не входить по возможности в про:о в незащищённых общественных местах, обеспечить максимальную безопасность своих домов от проникновения перед входом в про:о, а также сообщать о любых подозри…»
Проводники уже вовсю маршировали по вагону, соседнему с тем, где осталось покинутое им место. Слишком близко… Бретт провёл рукой по панели входной двери и вышел в следующую капсулу. Он стремительно двигался по коридору из безмятежных сместившихся, стараясь как можно скорее попасть в ближайшую шлюзовую камеру. И тут, заставив его от испуга дёрнутся всем телом, снова ожил голос в динамиках:
«Пять минут до прибытия на станцию Москва Новгород Центр. Всех пассажиров, следующих до станции, просим подготовиться к высадке заранее. Время стоянки – десять минут».
С разных сторон вагона до Бретта почти синхронно донёсся целый гомон приглушенных «бипов». Популярная, однако, станция. Пробегая мимо, он увидел краем глаза, как люди приходят в себя: трясут головами, потирают слипшиеся глаза. Некоторые уже отстёгивали ремни, а другие даже вытаскивали вещи из встроенных по бокам багажных отделений.
Когда дверь с шипением закрылась за ним, он снова бросил взгляд в сторону проводников. Что-то происходило. Они уже были в том самом вагоне, где совсем недавно ехал он сам, господин Янг Комото. Вероятно, они уже нашли пустое место, но что, чёрт побери, могло так привлечь их внимание? Первый проводник, энергично отдавал приказы двум другим, указывая рукой то вперёд, то назад. А позади этой троицы стоял полицейский и разговаривал с кем-то по рации.
Четыре минуты до прибытия.
Теперь Бретту казалось, что чёртовы двери открываются и закрываются слишком медленно. Он скользнул в следующий вагон и ринулся вперёд. Пригибаться теперь не было смысла. Некоторые пассажиры уже встали, другие шли к выходу. Бретт добежал почти до самой двери, когда боковое зрение выхватило нечто такое, что заставило его немедленно остановиться. Штаны! Дурацкие штаны… Это был он. Он сам. Он лежал на нижней полке – Бретт Корнер, Саскатун Север. Никаких странностей. Никаких видимых отклонений. Казалось, что он просто находится в своём про:о, как и положено по всем правилам. Бретт нащупал запястье и проверил пульс. Пульс был редким, но прощупывался хорошо. Он был жив. Его тело продолжало жить. Оно дышало. Наполняло кровь кислородом, выгоняло прочь углекислоту и, возможно, до сих пор сражалось с подозрительной лазаньей, съеденной им на обед. Первым его позывом было забрать тело с собой – Бретт делал так всю свою жизнь и порядком привык к этому. Только вряд ли ему удастся выйти из поезда незамеченным в обнимку с обмякшим другом. А даже если удастся, то без систем жизнеобеспечения его тело через несколько дней с большой вероятностью превратится в труп.
Две минуты до прибытия.
Он поменял станцию назначения Бретта Корнера на самую дальнюю – конечную станцию этой ветки – Британская Колумбия Центр. Так он должен был выиграть часов пять. Несмотря на всё, что он услышал в новостной ленте о бесплатном жизнеобеспечении жертв нападений, несмотря на соблазн сойти за одну из них, ему отчего-то сейчас казалось более важным не попадать ни в какие официальные списки. Чувство вины… Вот правильный ответ. Бретт не только чувствовал себя виноватым, он точно знал, в чём виноват. А ещё он ужасно боялся, что об этом станет известно кому-то другому.
Бретт повторил манипуляцию с отделом для ручной клади и извлёк оттуда свой рюкзак. И тут один из самых очнувшихся и особо бдительных пассажиров, заметил что-то неладное. Полная женщина в оранжевом пуховике замахала на него руками и крикнула: «Эй, ты! Ты что там делаешь?! А ну верни эту сумку на место!..»
Благодаря гермодверям и шлюзовым камерам, даже зов ищущего самку кита не смог бы привлечь к себе внимания проводников, которые в это время ещё только входили в соседний вагон. Но вот танец разгневанного сигнальщика легко справился с этой задачей. Проводников было трое, и теперь они, судя по всему, хорошо его видели – идущий впереди остальных делал ему повелительные жесты рукой, что-то вроде «стой там и не двигайся, сука!».
Одна минута до прибытия.
Апельсиновая женщина продолжала кричать и пытаться взлететь. Бретт в последний раз бросил взгляд на своё тело и, накинув рюкзак на одно плечо, что было сил рванул к выходу. Было что-то дикое в том, чтобы смотреть на себя со стороны. Но ещё более диким было вот так покидать своё тело. Со всех ног и под неунимающиеся вопли.
«Добро пожаловать на станцию Москва Новгород Центр. Напоминаем, время стоянки – пять минут,» – проговорил жизнерадостный девичий голос.
Когда дверь в шлюзовую камеру перед ним почти полностью открылась, Бретт услышал негромкое шипение в другом конце вагона и крик проводника: «Стоять на месте!». Он оглянулся назад и увидел, что весь вагон заполнен готовящимися к высадке людьми, которые, повинуясь властному возгласу, замерли в нелепых позах и развернули головы в направлении бегущих проводников. А ещё он увидел самих проводников, которые, похоже, уже поняли, что совершили самую дурацкую ошибку, какую могли. Они с трудом пробирались среди пассажиров, деревянных, вялых, плохо соображающих после восьми часов в про:о, и теперь принялись кричать «с дороги!» и «вернитесь на свои места!». Но время было потеряно. Бретт бросился сквозь открытую дверь в шлюз и оттуда прямиком на ярко-освещённую станцию.
***
Спустя два года они окончили университет. Нашли работу, сняли квартиру и остались жить в той самой спальной зоне. Родители были далеко и, как Бретт и Эми быстро убедились во время поездок домой на каникулы, не особо радовались их приездам. Ну или, по крайней мере, не слишком-то горевали в их отсутствие. Год назад родители Бретта и вовсе решили, что климат Саскатуна не лучшая декорация для золотых лет их спокойной старости. Они законсервировали семейное поместье и отправились жить в Европу, время от времени присылая красочные открытки, не обременённые даже подписями, по которым было легко понять, что они нигде не задерживаются слишком уж надолго. Это был новый этап в их «возвращении жизни себе», как любили называть свой беспредельный нарциссизм родители Бретта. Началось всё с момента выхода на пенсию. Тогда отец и мать объявили, что отныне живут только для себя, и начнут они этот праздник жизни с того, что теперь каждый год будут отправляться в «повторное» свадебное путешествие. Это звучало как отличное напоминание того, что Эми и Бретт были отныне и навсегда единственной настоящей семьёй друг для друга.
Они жили, потихоньку обустраивая свои новенькие, совершенно пустые про:о и свою не самую новую, но любимую квартирку. Их жизнь вдвоём была полна событий и счастья. Мелких, совершенно не значимых событий, заметных лишь Бретту и Эми, и тихого счастья только для них двоих. Конечно, у них выдавались и плохие дни, гнетущие и тоскливые, но они, словно мелкий мусор на дне быстрой реки, бесследно заносились золотым песком тех дней, когда Бретт и Эми радовались всему подряд, а особенно тому, что они наконец-то были вместе.
«Вчера был отличный день, – подумал Бретт. – Не то, чтобы он был с начала и до конца великолепным, зато он действительно отличался. Такой день хоть раз в жизни бывает почти у всех. День, когда нужно убить карпа и спасти алоэ».
Осень уже вовсю прокралась даже в эти, относительно тёплые места, и, прогуливаясь поздними вечерами по небольшому парку, который по счастливому стечению обстоятельств был буквально в паре шагов от их высотки, Бретт и Эми уже оценили значительный отрыв ночной температуры от дневной. Это было похоже на пустыню или на поверхность луны. Днём было жарко даже в лёгких брюках, а ночью хотелось натянуть на себя вторую тёплую кофту.
Бретт и Эми давно заметили за своими соседями привычку на лето выталкивать на улицу все домашние растения, а с наступлением осени снова забирать их обратно. Несмотря на то, что Бретт и Эми жили в квартире уже почти два года, у них так и не дошли руки обзавестись собственными зелёными монстрами. Летом первого года, заприметив целый сад беспризорных горшечных растений, они даже бравировали тем, что как-нибудь ночью украдут себе парочку. Они строили планы, подготавливали различные отговорки на случай, если их кто-нибудь застукает за цветочным ограблением. А Эми даже вспомнила, что в детстве её мама частенько любила отломить в гостях веточку какого-нибудь цветка, чтобы посадить её у себя дома, ссылаясь на то, что «ворованные цветы растут лучше». Планы у них были очень продуманными, но дальше планов ничего не пошло. Они говорили, что у них сейчас слишком много дел, что они устали после работы, что цветы им не так уж и нужны. Но потом не сговариваясь признались друг другу, что действительно боятся воровать и быть пойманными. Так закончилась, не начинаясь, их карьера грабителей. Вся затея быстро потеряла свежесть и была задвинута в дальний угол «как-нам-вообще-это-в-голову-пришло» идей.
Сейчас, в конце октября, большая часть людей уже затащила обратно в квартиры всех своих листовых питомцев, но кое-что ещё оставалось на улице. И это было неприятно и даже отчасти жестоко, ведь по ночам уже стояли настоящие холода. Всё равно, что оставить свою собаку на неделю без корма. Она, конечно, переживёт, вот только поступать так – свинство. У самого входа в парк Бретту и Эми повстречались три крупных алоэ в одинаковых кадках, и теперь во время каждой вечерней прогулки они проведывали их, проверяли, не забрал ли их хозяин. Откровенно говоря, было пора.
Вчерашним утром после завтрака они начали размышлять о планах на день. Это был их день, посвящённый пополнению запасов провизии, и вскоре они уже отправились в крупный супермаркет, находящийся в часе езды, с длинным списком необходимых к закупке продуктов в руках. Во время совместных размышлений о том, чего бы им приготовить на ужин, они сошлись на мысли, что уже тысячу лет не ели рыбу. А Бретт вспомнил, что когда они только въезжали в квартиру он видел в одном из кухонных шкафов старую микроволновку с функцией гриля. Так и было решено: сегодня на ужин у них будет вкуснейшая печёная рыба. И после того, как они расквитались с привычным списком покупок, они сразу же отправились искать отдел морепродуктов, в который, как выяснилось, они до этого ни разу даже не заглядывали.
В отделе было множество самой разной рыбы: мороженой, свежей и даже живой, нарезающей круги в здоровенных аквариумах. Бретт и Эми методично пересмотрели всю рыбу и пришли к неожиданному заключению, что живая рыба это наверняка очень вкусно. Это будто побывать на морском побережье. Они никогда не покупали рыбу вот так, живой из аквариума. Пересмотрев множество разных особей, Бретт и Эми сошлись на крупном карпе. Продавец аккуратно выловил трепыхающуюся рыбину из воды и спросил, нужно ли её почистить и выпотрошить. Он даже не спросил, нужно ли её убивать, это было неотъемлемой частью процесса покупки живой рыбы. И тут Эми поняла, что с данным делом ей не совладать. Она заглянула Бретту прямо в глаза и сказала, что не может стоять и смотреть на это, и что лучше она пойдёт выбирать зелень. Честно говоря, Бретт и сам с радостью сбежал бы подальше. Он никогда раньше и подумать не мог, что покупка живой рыбы так напоминает самую настоящую казнь. Рыбу оглушили ударом по голове, вспороли ей брюхо, прошлись ножом по чешуе на боках, уложили в пакет и отдали Бретту. Эми встретила его у отдела овощей с глазами на мокром месте и рукой, зажимающей нос. Поначалу Бретт даже подумал, что несмотря на мощные внутренние переживания Эми не забывает и о брезгливости и активно защищается от рыбного запаха. Но, заметив его пытливый взгляд, она тут же поспешила объяснить, что это её способ борьбы с подступающими слезами, насильственно привитый ей в детстве любящей матерью-католичкой, которая искренне полагала, что плаксам, будь то мальчик, девочка или муж, только что схоронивший своего отца, не место ни в их семье, ни в царстве Господнем.
Они уходили из супермаркета с глухим отвращением к себе и ощущением причастности к убийству. Эми то и дело с тревогой поглядывала на пакет, в глубине которого где-то между сладким перцем и ополаскивателем для рта лежала ещё недавно живая рыба. Она продолжала с силой сжимать пальцами переносицу, но слезы всё равно то и дело скатывались по её бледным щекам. Конечно, это было лицемерно. Они неоднократно покупали мясо, замороженное и свежее, самых разных размеров и участков туш. И это трудно было объяснить словами, но там убийство не чувствовалось так сильно. Оно не было так близко. И оно уже было совершено. Они не решали здесь и сейчас, жить этим живых существам или умереть. Конечно, они понимали, что своим желанием купить это мясо они, по сути, отдают приказ на убийство в прошедшем времени.
Однако на это можно было взглянуть и иначе. Никто и ничто не умеет путешествовать во времени. Даже луч света в червоточине. Даже горячее желание пожарить стейк. А это животное уже было убито, и его мясо может просто пропасть, что совсем не благодарно, или может быть куплено и съедено ими. Тогда плоть этого существа напитает собой их тела и даст им жить. Тогда эта смерть не будет такой напрасной. Убивай лишь тогда, когда хочешь есть. Простой, как теория Дарвина и святое писание, закон природы.
Бретт хорошо помнил, как в детстве он ходил с отцом на рыбалку. Сам ловил рыбу на примитивную удочку и сам же глушил её плоским речным камнем. И даже тогда его не посещало такое неуёмное, такое глубокое ощущение тоски от причастности к злодеянию. Наверное, оттого, что тогда он делал всё своими собственными руками. Приманивал рыбу, тащил её из воды, боролся с ней, даже если она была всего пять сантиметров в длину. Убивал её. Рыба была его врагом, но он поступал со своим врагом честно. Он не скрывал своих намерений и не перекладывал на других свою грязную работу.
Здесь всё было иначе. До их прихода, до того самого момента, пока они не ткнули пальцем в стекло аквариума, рыба была жива. И после выбора своей жертвы, они вовсе не кинулись в честный бой с рыбой, пытаясь поймать её, убить и съесть. Нет, они лишь выбрали своего карпа и пожелали его смерти.
Не убийство само по себе было отвратительно. Человек убивал для пропитания тысячи лет. И, наверняка, будет делать это и дальше. Быть вершителем судеб, диктатором, который отдаёт другим приказы убивать за него, вот что в этом деле было по-настоящему мерзким.
Подавленные, пообещавшие себе и друг другу добрую сотню раз больше никогда и ни за что не покупать живую рыбу, они вернулись домой в поздних сумерках. С расстройства очень хотелось есть. Бретт вытащил из шкафа тяжеленный белый ящик микроволновки, подключил её к сети и проверил гриль. Он включил его на пару минут, дождался, пока спираль нагревателя сменит цвет на красный, потом распахнул дверцу и сунул внутрь руку. Там было определённо теплее, чем снаружи. Гриль работал.
Они приступили к подготовке рыбы к тому, что в некотором смысле должно было стать её погребальным костром. Или скорее домашним крематорием. А ещё их ужином. Бретт сделал глубокие поперечные надрезы на боках рыбины и нашпиговал её ароматными травами. Затем натёр оливковым маслом с душистым перцем и солью. Эми в это время почистила картошку и нарезала её тонкими ломтями. Прикасаться к сырой рыбе она наотрез отказалась. Затем они завернули карпа вместе с картофелем сначала в сухой бамбуковый лист, а затем в фольгу. Сделали зубочисткой несколько дырочек в фольге для выхода пара и отправили этот космический рыбий саркофаг в микроволновку.
Бретт в пару нажатий на старые, плохо поддающиеся кнопки, задал печке требуемый режим работы и нажал на «старт». Неожиданно внутренности печки озарились жёлто-синими вспышками, будто они пытались пожарить карпа посредством электрической дуги. Эми вскрикнула, Бретт ругнулся, заработав этим яростный девичий взгляд, и ткнул «стоп». Пиктограммы на кнопках были полустёртыми, и он случайно перепутал гриль с микроволновым режим. А фольга и микроволны оказались не самым эффективным, хотя и довольно эффектным сочетанием. Бретт переключил режим, на этот раз повнимательнее присматриваясь к условным обозначениям, и снова нажал на «старт». Микроволновка заурчала и гриль начал нагреваться.
Они поставили таймер на час, и пошли по своим делам. Перед уходом Бретт погасил свет на кухне, и приятное, почти каминное свечение нагретой спирали залило всю комнату. Эми отправилась в душ, а Бретт подвинул стул и остался смотреть на медленно вращающуюся рыбу, залитую красным светом. Он задумался о чём-то своём и даже не заметил, как прошло полчаса. Эми, душистая и распаренная, вышла из душа в одном полотенце.
– Ты что, правда, всё это время сидел тут?
– Ну да. Здесь неожиданно хорошо. Кажется, будто смотришь на догорающий закат…
– А тебе не кажется, что её пора перевернуть?
– Кажется. Поможешь?
– Да, конечно. Подожди минутку, я оденусь.
Эми вернулась минут через пять, одетая в лёгкие домашние штаны и короткую футболку ультра-розового цвета c сомнительным мотто «Lv’Em Pink, baby!» на груди. Вместе они открыли дверцу микроволновки и сразу почувствовали что-то неладное. Из микроволновки должно было пахнуть жаром, а там было просто тепло. Сначала они подумали, что после отключения печка для их же безопасности и комфорта автоматически выгнала весь горячий воздух системой вентиляции. Чтобы проверить эту гипотезу, Эми осторожно, стараясь не обжечься, потрогала кончиком пальца фольгу, в которой пеклась рыба. Фольга была тёплой, не более того. Они быстро развернули её, всё ещё тая надежду, увидеть ароматно подпечённую корочку на рыбьей шкуре. Но так и не увидели её. Рыба за последние сорок минут под грилем не претерпела почти никаких изменений. Она лишь стала отвратительно тёплой и пахучей, так и оставаясь совершенно сырой. Старый гриль был определённо дохлым, он был полной противоположностью зимнему солнцу в северных широтах. Он и светил, и грел. Проблема заключалась в том, что им нужно было, чтобы он ещё и жарил. А вот с этим было туго.
После недолгих размышлений, они поставили на огонь сковородку, подождали, пока она хорошенько нагреется, и переправили туда рыбу с картошкой. Готовка стала куда активнее и в разы аппетитней. Рыба шипела и румянилась. Бретт открыл бутылку белого вина, а Эми перед трапезой даже произнесла импровизированное благословение, поблагодарив карпа за его жизнь и его мясо, которое напитает их тела. Рыба была божественно вкусной, ужасно костистой и, несмотря на все молитвы, неустанно пыталась отомстить за свою смерть уколом тонкой косточки в нёбо.
После ужина, Бретт и Эми по традиции отправились совершить свой ежевечерний моцион. Когда они проходили мимо входа в парк, то увидели, что все три алоэ всё так же мёрзнут на улице. Хуже того, горшок одного из них был расколочен, и бедное растение с огромным комком земли в корнях валялось на боку.
Отныне это больше не было воровством. Это было спасением. Сегодня они отняли одну жизнь, и лучшее, чем они могли бы отплатить за это, было сохранить другую. Они нисколько не сомневались в своих действиях. Страх быть пойманными ушёл прочь. Самоубеждение – сильная штука. Бретт схватил цветок на руки, будто жертву аварии, а Эми побежала вперёд, открывать перед ними двери. Они донесли алоэ домой, где после бешеных поисков горшка Эми извлекла из шкафа на балконе, также известного как Шкаф Бесполезных, Но Возможно Чем-то Памятных Вещей, ведёрко от попкорна, которое они как-то приволокли домой, после сеанса кино.
Кино было никчёмным, а вот попкорн – неожиданно вкусным для мусорной еды. Они сбежали с середины сеанса, и отправились гулять по улицам, есть попкорн и смотреть на закатное небо, отражающееся в зеркальных окнах высоток. Занудный дождь, весь день то умолкающий, то набирающий силу вновь, свернулся горсткой разорванных ветром туч, словно дырявый шатёр цыганского цирка, и обиженно поплыл куда-то в сторону юго-востока.
Они шли, не чувствуя земли под ногами. Глазея по сторонам, болтая и жестикулируя, словно пьяные итальянские рабочие. Радуясь каждому красивому зданию, каждому толстому коту и необычному прохожему.
Когда Бретт и Эми пытались пересечь очередную вставшую на пути боковую улочку мимо них, держась поодаль друг от друга, прокатили три девушки на бесшумных электромопедах. Светящиеся рожки на их головах говорили о том, что девушки недавно покинули одну и ту же вечеринку, а постные лица и почтительное расстояние, которое они соблюдали с монашеской строгостью, шептали, что ушли они раньше времени и в серьёзной ссоре, но в силу колоссальной магнитуды непреодолимых причин были обязаны держаться вместе. Хоть и не рядом.
– Рассорившиеся соседки, – хихикнула Эми. – Наверняка, не поделили какого-нибудь красавчика.
– Знаешь по опыту?
– Спрашиваешь!.. – блеснула глазами Эми и, засмеявшись звонко и беспечно, посильнее приобняла Бретта.
Впереди их ждали ещё улицы, ещё дома, коты и голуби, светло-синие синтезаторы с мороженным в вафельных стаканчиках и целый город, который, как оказалось, они не знали совсем.
Под конец вечера уже порядком утомлённые, с ногами, гудящими от непривычно большого объёма пеших перемещений, они очутились в полупустом парке. Они держались за руки и продолжали смотреть завороженными глазами друг на друга и на тускнеющее небо, чистое после дождя. Быстро высыхающие лужи ещё умудрялись хлюпать под ногами, а девочка с копной густых рыжих волос и нелепо зачёсанной чёлкой играла на трубе, примостив её на сиденье своего старомодного прогулочного велосипеда. Она наполняла весь мир вокруг, или, по крайней мере, кусочек этого безлюдного вечернего парка, волшебными звуками неидеальной живой музыки. Сами не заметив того, в густых, но очаровательно тёплых сумерках они вышли из парка прямо к своему дому, всё так же неся в руках пустое пластиковое ведёрко с яркой, призывной надписью.
Здоровенное, колючее как чёрт, алоэ со своим непомерным комком почвы в корнях поместилось в старое ведро из-под попкорна решительно и точно, словно ещё раз доказывая, что на всё это была прихотливая воля судьбы. Эми полила цветок, пока Бретт подметал пол от остатков земли, и безмерно уставшие, но наконец-то довольные собой, они отправились спать. Они убили карпа. Зато спасли алоэ. И день уже не был так плох. День был отличным, день снова был счастливым.
Бретт поймал себя на том, что всё так же стоит и пялится на корчащуюся под солнцем рыбу, когда из глубины квартиры до него донёсся треск бьющегося стекла и перезвон скачущих по кафелю горошин. Будто кто-то размозжил об пол хрустальную пепельницу, а следом в припадке гнева порвал висящие на шее бусы из крупного речного жемчуга.
Но они не курили, а Эми не носила побрякушек. Бретт ждал успокоительного водопада брани, но так и не услышал ни слова. И это было хуже всего. Бретт толкнул дверь и, пролетев насквозь всю гостиную, ворвался на кухню. Пол был усыпан едва порубленными кофейными зёрнами. Расколотая колба кофемолки разлетелась на пять крупных кусков и, наверное, добрую сотню мелких. А посреди осколков стекла и обломков зёрен, в небольшой лужице тёмно-красной крови лицом вниз лежала Эми.
***
С изобретением про:о всё стало иначе. Он выбрал отрешение по собственному желанию, ещё до введения пакта об обязательной активации областей направленного смещения фокуса сознания. После космонавтов, но до детишек.
В те дни он был потерян. Раздавлен в брызги и ошмётки и выброшен в мусорку. Он пробовал залить свою тоску. Утопить её на донышке бутылок всех форм, запахов и крепости. Но это не помогло. Тогда он попытался вытрахать свой путь наружу этого непроглядного, тошнотворного дурмана. Он начал совокупляться как кролик. Налево-направо. Напропалую. Со всеми, кто хоть под каким-то предлогом был готов ему дать. Он даже не думал выбирать кого-то худее, симпатичнее, моложе или определённого пола. Однако натуральная эрекция и раньше никогда не была его самой сильной стороной, а после аварии и полученной травмы он даже в туалет по-маленькому ходил с титаническим трудом, не говоря уже о попытках что-то там поднять самостоятельно. И вот спустя пару недель химического стояка в тесной компании с алкоголем и мимолётными, но страстными свиданиями с кристаллами и крэком, его сердце отказало. К счастью не совсем, и к счастью, его очередной половой партнёр оказался ответственным парнем и даже немного медбратом в прошлом. Через три недели Майк вышел из больницы и решил завязать. Остепениться. Слезть с алкоголя, наркоты и малознакомых голых тел… и начать играть. Рулетка. Блэк-джек. Автоматы, автоматы, автоматы… Монеты, купюры, потные от предвкушения и страха ладони.
Все эти мерзости не могли ничего укрыть. Они лишь ложились полупрозрачными слоями пудры поверх огромного, загноившегося прыща. Одна за другой. Накапливались и накапливались, грозясь обрушиться вниз и погрести его под собой заживо. Ещё вроде бы заживо… Однажды он проснулся рано утром, ещё до рассвета, и с горечью понял, что не изменил ничего. Не забыл ничего. Лишь разрастил свой список проблем и сожалений до величины поимённого перечня жертв лю:эм и измазал дерьмом последние воспоминания о той единственной, кого по-настоящему любил. Хвастаться было нечем. Совсем нечем… Стыдно признаться, но ему пришлось вступить в клуб анонимных потребителей всего подряд – «Прозрачная жизнь» и сменить район проживания – многие его пассии были непрочь повторить даже самое никудышное соитие ещё пару-тройку раз. Майк даже отказался от нарезанной пластиками морковки в пользу натёртой на крупной тёрке, из-за того, что оранжевые дольки слишком сильно напоминали ему собой стопки фишек из казино. Он был ещё глубже, ещё бессмысленнее и безнадёжнее. А потом он узнал об отрешении…
1
Музыка: Tokyo Journal – Lemongrass, включить.
2
Музыка: Tokyo Journal – Lemongrass, выключить.
3
Междометия, звучащие в китайской речи так же часто, как автомобильные гудки в час пик на оживлённом шанхайском перекрёстке. По смыслу отдалённо схоже с русскими «ага», «угу» и пр.
4
Хого – так называемый «китайский самовар», ресторан в котором посетители самостоятельно готовят овощи, грибы, мясо и морепродукты в кипящем бульоне.
5
Двести пятьдесят – от китайского «эрбайу» – тупица, идиот.
6
Дэнфэн – город, по другую сторону горы Сун от которого находится Шаолиньский монастырь.
7
Троецарствие – классический китайский эпос, повествующий о великих героях и злодеях эпохи междоусобных войн. Состоит почти из восьмисот тысяч иероглифов.
8
Маотай – очень дорогая, широко известная и почти культовая китайская водка. По вкусу мало чем отличается от Эрготоу.
9
Эрготоу – второсортная китайская водка из сорго, крепостью в 60—70 градусов.
10
Лаовай – оскорбительное прозвище иностранцев в Китае. Сами жители КНР настаивают на том, что «лаовай» – слово уважительное или, как минимум, «нормальное», приводя в доказательство тот факт, что «лао» значит «старый» или «уважаемый» и встречается в словах учитель («лаоши»), тигр («лаоху») и многих других. Однако эмоциональный подтекст, с которым чаще всего произносится слово «лаовай», с головой выдаёт в нём отсутствие всякого уважения к кому бы то ни было.
11
Музыка: My Beautiful Girl (Malo) – Dan Gibson’s Solitudes, включить.
12
Музыка: My Beautiful Girl (Malo) – Dan Gibson’s Solitudes, выключить.
13
Музыка: The Righteous Wrath Of An Honorable Man – Colin Stetson, включить.
14
Музыка: The Righteous Wrath Of An Honorable Man – Colin Stetson, выключить.
15
Музыка: Violins and Tambourines – Stereophonics, включить.
16
Музыка: Violins and Tambourines – Stereophonics, выключить.
17
Музыка: King Of Medicine – Placebo, включить.
18
Музыка: King Of Medicine – Placebo, выключить.
19
Музыка: Run – Snow Patrol, включить.
20
Музыка: Run – Snow Patrol, выключить.
21
Музыка: New Person, Same Old Mistakes – Tame Impala, включить.
22
Музыка: New Person, Same Old Mistakes – Tame Impala, выключить.
23
Psi (Пси) – буква греческого алфавита, символ науки психологии и всего связанного с разумом и душой. В древнегреческой мифологии Психея – олицетворение души человека.