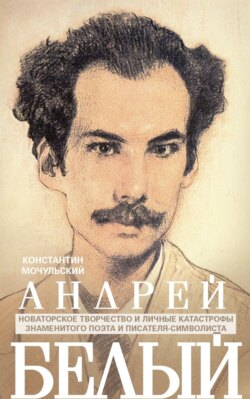Читать книгу Андрей Белый. Новаторское творчество и личные катастрофы знаменитого поэта и писателя-символиста - Константин Мочульский - Страница 4
Глава 2
1900–1903 uоды
ОглавлениеВесной 1900 года в семье Михаила Сергеевича Соловьева Белый познакомился с философом Владимиром Соловьевым; у них был «значительный разговор», и они условились встретиться после лета. Но в июле Вл. Соловьев скончался. В доме Михаила Сергеевича был настоящий культ покойного философа. «1901 год, – пишет Белый, – для меня и Сережи прошел под знаком соловьевской поэзии». Певец Вечной Женственности сыграл огромную роль в его жизни: «мистическая заря» начала нового века навсегда связалась для него с именем Соловьева. «Заря столетия, – продолжает Белый, – была для меня цветением надежд, годом совершеннолетия, личных удач, окрепшего здоровья, первой любви, новых знакомств, определивших будущее, годом написания „Симфонии“ и рождения к жизни „Андрея Белого“». На крыше университетской лаборатории, в перерывах между занятиями, собираются студенты: Борис Бугаев, В.В. Владимиров, А.П. Печковский. Все они увлечены новым искусством, поэзией, мистикой. Ведутся бурные споры, вырабатывается особый язык – странных метафор, афоризмов, условных словечек. С крыши лаборатории друзья спускаются вниз – гулять по Москве, в окрестностях Новодевичьего монастыря, пугая прохожих стремительным галопом кентавров в духе «Северной симфонии». Об этом «театре для себя» молодых символистов упоминает в своем дневнике Брюсов. «Бугаев заходил ко мне несколько раз, – записывает он в 1903 году. – Мы много говорили. Конечно, о Христе, Христовом чувстве… Потом о кентаврах, силенах, об их быте. Рассказывал, как ходил искать кентавров за Девичий монастырь, по ту сторону Москвы-реки. Как единорог ходил по его комнате. Потом А. Белый разослал знакомым карточки (визитные) будто бы от единорогов, силенов, etc. Сам Белый смутился и стал уверять, что это „шутка“. Но прежде для него это было не шуткой, а желанием создать атмосферу – делать все так, как если бы единороги существовали».
По вечерам студенты встречаются в квартире Владимирова, где стихи и дебаты чередуются с музыкой и драматическими импровизациями. Так зарождается будущий кружок «Аргонавтов» – очаг московского символизма. В.В. Владимиров, фантазер и весельчак, изменил естественным наукам ради искусства и впоследствии посвятил себя живописи; А.С. Петровский, «маленький, болезненного вида студент-химик», был настроен революционно: проповедовал, что старый мир должен сгореть дотла и что только тогда взойдет заря новой эры. А.П. Печковский, с большими голубыми глазами, застенчивый из-за глуховатости, зачитывался стихами Вл. Соловьева. Постепенно в кружок вступали новые люди: А.С. Челищев, студент-математик и музыкант-композитор; С.Л. Иванов, ученый чудак, каламбурист, «подхватывающий дичь и раздувающий ее до балаганного грохота». Но самой живописной фигурой в кружке был студент-юрист Лев Львович Кобылинский; М. Цветаева в своих воспоминаниях называет его «гениальным человеком»; Белый говорит о нем как об изумительном импровизаторе и миме. Из него мог бы выйти большой актер, незаурядный оратор, талантливый поэт – и не вышло ничего. Кобылинский был воплощенный хаос; он сгорал идейными страстями; список его метаморфоз весьма внушителен: образованный экономист и марксист, он увлекается Бодлером, становится поэтом-бодлеристом. Принимает псевдоним Эллис, преклоняется перед «великим магом» Брюсовым и самоотверженно работает в «Весах». Потом начинается культ Данте; далее следуют: анархизм в духе Бакунина, пессимизм, оккультизм, штейнерианство и, наконец, переход в католичество. Этот идейный Протей признает только крайности. «Третьего нет, – кричит он, – или бомба, или власяница, или анархизм, или католицизм!»
У Кобылинского – белое, как гипсовая маска, лицо, иссиня-черная бородка, зеленые фосфорические глаза и расслабленные красные губы. В жизни вокруг него вздымаются вихри недоразумений, скандалов, путаницы. Живет он в меблированных комнатах «Дон» с синей трактирной вывеской на Смоленском рынке; в «келье его царит мрак»; шторы никогда не поднимаются, только перед бюстом Данте постоянно горят две свечи. Обедает он в ресторанчике для лавочников, под грохот машины с бубнами, и вечно страдает желудком. Живет ночью, днем спит. Пишет мистически-эротические стихи и переводит Бодлера. Мечтает о новой инквизиции «ордена безумцев», на костре которой сгорит вселенная. Эллис-поэт и критик – давно забыт; но в свое время он был носителем «духа эпохи», одним из создателей декадентского стиля жизни. Кружок Владимирова – вольное объединение жизнерадостной молодежи. Преобладает «забава», commedia del’arte, не умолкает смех. Романсы Глинки в исполнении Владимирова чередуются с импровизациями Челищева, пародиями Иванова, буффонадой Эллиса. В такой атмосфере создается «Вторая симфония» Белого – остроумная сатира на московских мистиков.
В памяти автора первая часть ее связана с весной, с таяньем снега на Страстной неделе, с ранней Пасхой, с прогулками по Арбату. В это время Боря Бугаев и Сережа Соловьев переживали первую любовь. Один был влюблен в «светскую львицу», другой – в арсеньевскую гимназистку. «Мы круто писали зигзаги в кривых переулках; картина весны, улиц и пешеходов вдруг вырвалась первою частью „Симфонии“, как дневник». Наброски были прочитаны за чайным столом у Соловьевых. Михаил Сергеевич одобрил; Белый начинает думать о сюжете, но тут наступают экзамены – и поэма откладывается. Через двадцать лет поэт возвращается памятью к весне 1901 года – самой счастливой в его жизни. В поэме «Три свидания» оживает его юность.
О, незабвенные прогулки,
О, незабвенные мечты,
Москвы кривые переулки…
Промчалось все; где, юность, ты!
………………………………………..
Высокий, бледный и сутулый,
Где ты, Сережа, милый брат;
Глаза – пророческие гулы,
Глаза, вперенные в закат;
Выходишь в Вечность: на Арбат.
Бывало: бродишь ты без речи;
И мне ясней слышна, видна:
Арбата юная весна.
Твоя сутулая спина,
Твои приподнятые плечи,
Бульваров первая трава…
Романтическая весна заканчивается прозой экзаменов. Наконец физика сдана. Белый один в Москве, в пустой квартире. Он выносит стол к балкону, выходящему на Арбат. В канун Троицына дня и в самый Троицын день пишет вторую часть «Симфонии». Выговаривает строчки вслух и записывает, – так всю ночь под негаснущей зарей. В Духов день приезжает из Дедова Сережа. Белый читает ему поэму; того поражает описание Новодевичьего монастыря, и друзья отправляются туда – сравнивать изображение с подлинником. Золотой свет Духова дня догорает там на крестах кладбища; среди кустов сирени бродят монашки; доносятся звуки фисгармонии; красная лампадка мерцает на могиле Владимира Соловьева, – совсем как в «Симфонии»! Вся Москва кажется друзьям озаренной светом поэмы. Жизнь и поэзия сливаются. На другой день они едут в Дедово, и Белый читает Соловьевым две части «Симфонии». «Михаил Сергеевич, – пишет он, – мне сказал: „Боря, это должно выйти в свет: вы – теперешняя литература. И это напечатано будет“». Но из уважения к отцу-профессору Белый не решался выступить в печати под своим именем. Стали придумывать псевдонимы. Молодой автор предложил: «Борис Буревой». Михаил Сергеевич рассмеялся. «Когда потом псевдоним откроется, – сказал он, то будут каламбурить: „Буревой – Бори вой!“» И придумал: Андрей Белый.
«Так третьекурсник-естественник, – заключает автор, – стал писателем, не желая им быть».
В Дедове проходят четыре «незабвеннейших дня». Одну ночь Белый с Сережей проводят в лодке посередине пруда, читая Апокалипсис при свете заплывающей свечи. На рассвете приходит Михаил Сергеевич, и они втроем идут смотреть на белые колокольчики, пересаженные из усадьбы «Пустынька», где живал В. Соловьев. Мистические белые цветы были для философа ангелами смерти; о них он писал:
Помыслы смелые
в сердце больном.
Ангелы белые
встали кругом.
Из Дедова Белый вернулся в Москву – на экзамен ботаники.
Третья часть «Симфонии» была написана в деревне Серебряный Колодезь, между первым и пятым числами июня; четвертая дописывалась в июле.
Во вступлении к «Симфонии» автор объясняет, что произведение его имеет три смысла: музыкальный, сатирический и идейно-символический. «Во-первых, это – Симфония, задача которой состоит в выражении ряда настроений, связанных друг с другом основной „настроенностью“ (ладом); отсюда вытекает необходимость разделения ее на части, частей на отрывки и отрывков на стихи (музыкальные фразы)… Второй смысл – сатирический; здесь осмеиваются некоторые крайности мистицизма… Наконец, идейный смысл, который, являясь преобладающим, не уничтожает ни музыкального, ни сатирического смысла. Совмещение в одном отрывке или стихе всех трех сторон ведет к символизму».
Через 32 года после написания «Симфонии» Белый в книге «Начало века» возвращается к своему первому «символическому» произведению. Большую часть поэмы он сочинял в деревне, летом; не за письменным столом, а верхом на лошади; глаз и мышцы участвовали в работе. «Я вытанцовываю и выкрикиваю свои ритмы в полях, – пишет он, – с размахами рук, нащупывая связи между словами ногой, ухом, глазом, рукой… Влияние телесных движений на архитектонику фразы – Америка, мною открытая в юности. Галопы в полях осадились галопами фраз и динамикой мимо мелькающих образов… Я привык писать на ходу; так пишу и доселе… Форма „Симфонии“ слагалась в особых условиях – в беге, в седле, в пульсе, в поле…»
По поводу второго – сатирического – смысла «Симфонии» автор сообщает, что в начале века он задумал целую серию «симфоний» для изображения «религиозных чудаков», но красок у него хватило только на одну. Когда писалась «Драматическая симфония», тип мистика еще только зарождался. Белый был знаком лишь с соловьевцами и слышал об Анне Шмидт. В его шаржах – больше воображения, чем наблюдения. Однако сатира его оказалась пророческой: вскоре появились не воображаемые, а самые настоящие «религиозные философы» – Лев Тихомиров, Бердяев, Булгаков, Эрн, Флоренский, Свенцицкий; стала известной «Мировая Душа» – А. Шмидт со своими мистическими трактатами. «А. Шмидт, – прибавляет Белый, – бесплатное приложение к моей „Симфонии“. Она превзошла даже мой шарж… Ее учение о Третьем завете – основа пародии, изображенной в „Симфонии“, с тою только разницей, что „Жена, облеченная в солнце“ – у меня красавица, а не старушка весьма неприятного вида».