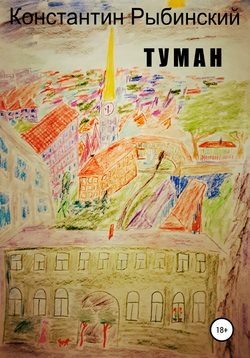Читать книгу Туман - Константин Викторович Рыбинский, Константин Рыбинский - Страница 2
Город
ОглавлениеНа холсте появился Город: белый, в окружении высоких гор цвета синего пепла, чуть подёрнутых голубиной дымкой. Солнце слепило бликами с почти неразличимых сусальных шпилей, отражаясь в оконном стекле домов, пронизывая воздух и там, и здесь. Тесные, на два ходока, извилистые улочки, мощенные лиловым камнем, резали полотно на прихотливые куски. Нежданные проулки вели в затопленные светом колодцы дворов, заросших цепким, блестящим после ночного дождя плющом и розовыми кустами, что заполняли своим ароматом Город по крохотные резные балкончики верхних этажей, по остроконечные черепичные крыши. Готический шатёр Ратуши, сплошь покрытый мраморными барельефами, что пытались напомнить беспечным горожанам о бесчисленных славных победах далёкого прошлого, стягивал композицию к центру.
Часы на башне с недоверчивыми горгульями гулко пробили десять. Он тяжко вздохнул, мазнул в правом нижнем углу холста дату и подпись. Отвернулся к окну, чиркнул спичкой, закутался в ароматный вишнёвый дым, как в мантию. За мутным стеклом густыми хлопьями валил сквозь вечный Туман снег, оглушая свет фонарей, а перед глазами всё стояли совсем другие улицы.
Туман появился в Городе незаметно. Словно невидимый, жестокий и осторожный паук, он опутывал дома, оплетал деревья, пеленал людей и забирался к ним в души, впрыскивая свой едкий яд, отчего глаза делались бесцветными и пустыми. Никто уже не помнил, когда и откуда он пришёл. Сказать по совести, теперь очень немногие горожане мучили себя этим вопросом. День ото дня, Туман становился осязаемей, гуще, и Город постепенно погрузился в сырые сумерки. Солнечный свет остался в легендах, на выцветших фотографиях счастливых людей. Нынче Солнце едва угадывается в сером небе белёсым размытым пятном, а ночь без луны и звёзд опускается на Город непроглядной тьмой, то тут, то там разгоняемой редкими жёлтыми фонарями.
Сегодня только-только наступил декабрь, заявив о себе восхитительным снегопадом. Огромные только сотворённые лохматые снежинки, словно по волшебству появлялись в тёплом электрическом свете, выстилали улицы белым, уже не таяли, обосновываясь надолго. Сквозь снег шёл человек. Ноги тонули в холодных облаках, взбивали невесомые хлопья прихотливо замёрзшей воды, но ничто не нарушало ватной тишины снегопада.
Дома закончилась последняя бутылка мягкого армянского бренди, сунутая в угол необъятного дедовского платяного шкафа на «чёрный день». Пошарив рукой в пыльной темноте, пахнущей дорогой кожей, он непечатно выругался: магазины уже закрыты, придётся тащиться в бистро, не дай Бог, встретишь там кого. В пути с ним случилось что-то вроде раздвоения личности: лучшая его часть укоряла, что нажираться, как сельский староста после аванса – моветон и совсем не комильфо, другая слала первую нахер, затем соглашалась, но добавляла на выдохе: «недостаточно», съедая последние гласные. Видимо, привычка пить в одиночестве приносила грустные плоды. Но чем ещё, чёрт возьми, разгонять эту оскаленную хищную пустоту вокруг?
Проходя мимо чёрной подворотни с подмёрзшим запахом, он получил звенящую строчку. Так случалось, слова просто появлялись в сознании, нужно было только запомнить, записать, зафиксировать. «В начале было Слово, и Слово было Одиночество». Он удивился, покрутил фразу на распухшем языке и так, и этак. Она ощущалась как гладкий камешек точёный морем, не царапала нёбо, не шершавила, звонко отстукивала по зубам. Запомнилась, потянула за собой другие: «И Одиночество было у Бога, и Одиночество было Бог. И всё стало через Него, и ничего, что есть не стало без Него». Он повторил пришедшее несколько раз, убедился, что запомнил, но всё равно бормотал до самого «Домино».
– Салам! – вяло махнул рукой основательной барменше неопределённого возраста, войдя и отряхиваясь. В нос шибало разогретой копчёной курицей, пересоленной и жирной.
– И тебе салам, Чёрный. Не спится?
– Ну, как с тобой не спиться? Налей сто «Сланчева».
– Сказочник, – улыбнулась тётка, налила в белый пластиковый стакан из пузатой бутылки с романтической голубой этикеткой в якорях.
Он брезгливо потянул носом ацетоновый букет, расплатился, сел за круглый столик у окна. Нацарапал на бежевой салфетке полученный абзац.
– Что, стихи прут? – спросила барменша.
– Откровение, – отмахнулся он.
– Ооооо! – протянула, выпучив сильно подведённые глаза. – Нормально, чо уж, – она не спеша принялась надраивать сияющую стойку, изредка качая головой. К ней всякие хаживали: и старики и бандиты, но вот таких она жалела, как убогих. Мечутся, терзаются, в глазах – лучше не заглядывать, а потом пропадают невесть куда. И всё.
Сегодня он так и остался единственным посетителем. Строчки больше не шли. Допив, взял ещё. И ещё. И ещё. Стены перестали давить, мир втянул шипы и колючки, даже Туман, казалось, чуть разошёлся. Но то, зачем он вышел из дома, не случилось.
Он ждал, чувствовал, что вот-вот совершится нечто такое, что коренным образом переменит всю его жизнь. Но день за днём не происходило ничего.
Бурлящие малахитовые волны появляются одна за другой, пока не заполняют весь океан, мчащийся под ним. Холодный хлёсткий ветер срывает грязную крупную пену с лошадиных гребней совсем рядом, бросает в горящее обветренное лицо солёные брызги. Всё нарастающая скорость ломает предел, и тогда нефритовый океан уходит вниз, под окоченевшие до белизны алебастра босые ноги, отдаляется, а айвазовские валы становятся, как рябь на весенних лужах, вокруг струится и тонко поёт воздух. Иссиня-фиолетовое небо до самого горизонта затянуто рваными багровыми облаками, а африканское солнце поджигает край океана. Мир начинает вращаться, сначала медленно, затем всё ускоряясь, пока центробежная сила не вышвыривает вон, за его границу, расплющивая о древнюю кладку выщербленной кирпичной стены, хрустнувшей терракотой о сломанный клык, продавливает сквозь неё туда, где себя уже не найти. Спустя мгновение, вокруг уже белые сыпучие пески и жара. Раскалённое обезумевшим Гефестом Небо плавит бесплодную Землю, не даёт вдохнуть. Прочь, в сырой песок, в прохладную тьму, где пахнет плесенью, морёным дубом и старым портвейном из Вила-Нова-де-Гайи. Бочком, сквозь замшелые стены – на простор, в дождь. Здесь грохочет шторм, разбивая тонны зашедшейся в ярости воды об острые бивни прибрежных скал. Колючий ветер налетает со всех сторон, свистит и завывает, глушит вопли мечущихся в вышине чаек. Маяк режет тьму кровавым лучом.
И звон.
Чёрный открыл глаза, но звон не исчез, напротив, он стал громче и отвратительнее. Кто-то настойчиво жал на кнопку звонка, прихотливо варьируя ритм и скорость.
– Чёрт бы вас побрал, – он с трудом поднялся, держась за ненадёжные стены, прошаркал в переднюю, отпер дверь. Прямо перед глазами оказались крупные и мелкие капли конденсата на запотевшей изумрудной бутылке, которую держал на вытянутой руке Железный, как держат дуэльный пистолет. Чёрный сглотнул.
– Ты что, спишь? Я уже собирался уходить.
– Уже не сплю, – просипел Чёрный, взял бутылку, посторонился. Железный вошёл, поставил потрёпанную красную спортивную сумку на пол. В сумке увесисто и совершенно не спортивно звякнуло. Гость движением земского доктора скинул отсыревший дымчатый пуховик, подобрал сумку, прошёл на кухню, как к себе домой. Хозяин поплёлся следом. Его подташнивало, в голове шумел только что оставленный океан.
Железный ударил стаканами по столешнице, с шипящим присвистом открыл бутылку, разлил вспенившееся пиво. Сквозь зрелый янтарь протянулись пульсирующие нити мелких пузырьков. Чёрный сжал запотевший бокал, судорожными глотками опустошил его, впитывая колючую влагу обожжённым нутром. Железный налил снова, Чёрный выпил и это, подождал, пока стакан наполнится в третий раз, взял его, откинулся на спинку сыто скрипнувшего дивана.
– Доброе утро, доктор! – сказал он, повеселев.
– День, – ответил гость с улыбкой. – Уже день. Славная вчера была охота?
– Одинокая. Я дописал Город. Был абсолютно счастлив три минуты, пока не выглянул на улицу.
Железный покосился в трёхстворчатое окно с наплывами краски на рамах, за которым клубилась серая муть.
– Да, уж – он поспешно отвернулся, сделал большой глоток. – Полностью понимаю твоё сегодняшнее состояние. Окружающая реальность неминуемо сделает нас алкоголиками.
– Если мы сами не превратимся в окружающую реальность.
– Глубоко. Даже очень, – передразнил Железный. – Давай, соберём народ, устроим показ твоего нового шедевра. Позовём Колдуна, он рассказы почитает, Крот песни споёт…. Поразгоним эту смурь!
Чёрный большим глотком допил пиво.
– Действуй.
– Сегодня вечером в Мансарде?
– А давай. Я хоть сейчас.
– Ячменная вода творит чудеса. Только не увлекайся, не сорви мне мероприятие. Я сумку тебе оставлю – подлечивайся потихоньку, – Железный выделил последнее слово.
– На улицу – ни ногой. Не совершай ошибку.
– К чёрту Иосифа.
– Я за тобой зайду.
– Зайди.
– Ну, всё, пошёл организовывать. Отдыхай.
Чёрный закрыл за другом дверь.
Шум океана возвращался. Он прошёл на кухню, запил анальгин глотком водки, рухнул на диван. Солёный воздух принял его в свои объятия, а маяк излучал теперь только мягкий пульсирующий свет.
Железный вышел из тёмной пещеры подъезда, вдохнул полной грудью морозный воздух, что после кислой вони в берлоге Чёрного был вкусен вдвойне. Сквозь фрактальную пелену Тумана чуть пробивалось солнце. Небольшое усилие – и легко представить вокруг ясный декабрьский денёк с синим небом в рамке крыш, с впечатанными в него изломанными чёрными ветвями огромных тополей.
– Прекрасно! – вздохнул Железный.
– Что? – переспросила вынырнувшая из Тумана женщина, замотанная в ярко-красный шарф.
– Невероятно прекрасно, мадам! – повторил Железный, и свернул за угол.
Женщина пожала плечами, вошла в подъезд. Здесь вечно ошивались странные типчики, однако, вреда не приносили.
Из подъезда выскочила пушистая рыжая кошка, юркнула под припаркованный фиат с небольшим сугробом на крыше.
Железный забрался в жёлтый скрипучий автобус с удивлёнными глазами, сел у окна. Пахло свежей корюшкой: на задней площадке толкались неповоротливые в своих многослойных одеждах хмельные бородатые рыбаки с гремящими разноцветными кузовами. Контрапунктом к брутальности образа выделялся оранжевый смайлик, висящий на одном из них. «Не всё потеряно. А может, это прямой и однозначный Знак, указывающий, что окружающий мир – вязкий, тягучий похмельный сон», – подумал Железный. Автобус полз по грязному дну молочной реки с берегами сталинского барокко, изрядно обгрызенного сыростью и временем. Культи изуродованных озеленителями тополей, выстроившихся вдоль дороги, дарили пейзажу тон тревожной безысходности.
На очередной остановке вошла девушка в кротком черном пальто с серебряными пуговицами. Оглядев салон, она прошла по проходу, села рядом. Железный потянул носом. Цитрус. Мандарины на морозе. Новый год. Детство. Он скосил глаза, осторожно разглядывая нежданную соседку. Тонкое красивое лицо, лёгкий румянец, стрижка, берет, живые глаза, быстро взглянувшие на него, когда она ощутила внимание. Живые глаза – вот что стало главной редкостью в Городе утопленников, заполненном мертвецким Туманом по самые крыши.
«Придётся знакомиться,» – вздохнул про себя Железный, и повернулся к ней:
– Здравствуйте.
Она подняла глаза, улыбнулась.
– Здравствуйте! – повторил Железный. – Вы знаете, что слово «здравствуйте» – междометие общения?
– Междометие речевого этикета, молодой человек! – проворчала аккуратная старушка справа. Её глаза, сильно увеличенные линзами очков в старомодной роговой оправе, смотрели в разные стороны с доброжелательным любопытством.
– Спасибо, – поблагодарил Железный, удивляясь обилию приятных людей.
Тем временем девушка выудила из кармана пунцовый блокнот с прикреплённым на жёлтом витом шнурке зелёным карандашом, протянула ему. На обложке значилось: «Меня зовут Майя. Я глухонемая». И смайлик. Железный покосился на рыбаков. Девушка жестом предложила написать в блокноте. Автобус качнулся, её прижало к нему. Иногда писать сложнее, чем говорить. Он взял блокнот, повертел в руках карандаш, потом нацарапал своим пугающим квадратным почерком, подпрыгивающим на ухабах:
«Друзья называют меня Железный – долго объяснять почему. Сегодня мой друг художник устраивает презентацию своей новой работы. Я вас приглашаю. Кивните, если согласны». И адрес.
Иногда, впрочем, проще писать. Сразу как-то интимнее, ближе.
Девушка кивнула, улыбнулась и вышла на следующей остановке.
Проводив урчащий автобус взглядом, Майя открыла блокнот, перечитала приглашение. «Вот здорово!» – подумала она: «Приглашение в путешествие – приглашение от Бога. Любое приглашение – от Бога. Очень вовремя, а то последнее время – хоть вешайся».
Она спрятала блокнот в карман сумки, торопливо пошла по улице. Дойдя до криво висящей калитки в полинялом палисаде вокруг ещё не растерявшего былого мещанского очарования салатового домишки в три окна, Майя остановилась. Перебросив руку, нащупала изнутри щеколду, осторожно вошла. Из Тумана с яростным рычанием адского порождения Эхидны и Тифона метнулась огромная рыжая овчарка, но, увидев Майю, завиляла хвостом, заскулила, упала набок, подставила мягкий горячий живот. Майя чесала ей грудь, гладила бархатный нос, лохматила шею, пока на крыльце не появился седоусый старичок в пожелтевшей от времени белой тройке.
– Ромаха, рыжая бестия, зачем пугаешь дорогих гостей? Заходи, милая красавица, не стой на холоде!
Дядя Эдвард – единственный близкий Майе человек в Городе, но даже не родственник. Он сам попросил называть его дядей, сказал, что от этого чувствует себя моложе. Родных у Майи не было вовсе.
Дядю Эдварда она нашла в июле. Он лежал в испачканном костюме ничком на центральной улице рядом со скамейкой, а мимо шли и шли люди. Майя встала на колени, пощупала пульс. Старичок тихонько застонал, схватился за сердце. Она подняла настоящую панику: хватала прохожих за руки, мычала по-своему, не давала пройти, пока кто-то не вызвал скорую.
– Вы кто ему? – спросил усталый доктор с покрасневшими глазами.
«Внучка» – написала Майя. «Что с ним?»
– По всей видимости, инфаркт. Поезжайте с нами, поможете оформить.
Майя навещала его в больнице, носила яркие пахучие апельсины. Оказалось, дяде Эдварду 70 лет, и он одинок, как последний патрон в обойме.
В доме топилась голландская печь: громко трещал огонь, пахло дымом, свежестью и теплом. Майя смахнула тающий снег с коротких сапожек, разулась, прошла по вытертым половикам в маленькую уютную комнату. Старик уже сидел за круглым столом, закатывал рукав. Она достала из ящика старинного крашенного карамельной эмалью комода тонометр. Пока она возилась с автоматическим прибором, Эдвард любовался её лицом, поневоле оказавшимся так близко. Особенно обворожительными ему казались, почему-то, тонкие полоски бровей вразлёт. Что-то забытое всплывало из глубины, какой-то затёртый образ, и, скорее всего, собирательный. Измерив давление, показала ему большой палец: неизменный ритуал их встреч.
Огладив взглядом золотых оленей на тёмно-зелёном с отливом гобелене у высокой железной кровати, Майя направилась в кухню. На узкой двухконфорочной плите стояли голубая эмалированная кастрюля свежесваренного борща и чугунная глубокая сковорода макарон с тушёнкой. С точки зрения старого солдата, аромат стоял божественный. Майя обернулась через плечо: он стоял в дверях, сложив руки на груди, и улыбался в свои роскошные горьковские усы. Она покачала головой. Первое время ей ещё удавалось приготовить ему что-нибудь, но только чуть оправившись от болезни, гордый старик перехватил инициативу, так что теперь к её приходу всегда был готов горячий обед.
Майя приходила по субботам, а ждать её он начинал с утра воскресенья: буквально, места себе не находил. Слонялся по двору, начинал какое-нибудь дело, да и бросал, не докончив, чтобы начать другое. В пятницу всё обретало смысл и цель. Затевалась генеральная приборка, поход на базар, кулинарные приготовления…. Старик очень привязался к ней, втайне отписал в её пользу дом и солидную сумму на книжке. Втайне, потому что знал: узнает – оскорбится страшно.
К её приходу Эдвард старался приодеться. Сегодня он, мурлыкая в свежерасчёсанные усы «Утомлённое солнце», надел светлую тройку (сорок лет назад она произвела фурор на побережье), положил в жилетный карман серебряные часы со звоном, и стал выглядеть, как всемирно известный писатель на Капри. Впечатление несколько портила небольшая прореха под коленом: сорок лет – не шутки.
Майя поцеловала его в колючую щёку, жестом велела снять штаны, отыскала в комоде иголку и подходящую по цвету нитку. Села у окна, принялась аккуратно штопать. Старик, запахнувшись в красный халат с белыми цаплями, сидел в кресле, любовался её молодой красотой, которая будоражила в нём такое, о чём он, по меткому выражению чувственного певца с радио, «даже не знал, что забыл».
Их встречи проходили в тишине. Дядя Эдвард никак не мог привыкнуть, что Майя читает по губам, они общались посредством блокнота. Впрочем, чаще всего им хватало жестов.
Она любила приходить в этот дом, заботиться о старике, чувствовать, что нужна.
Во всём здешнем огромном холодном мире её грели только две искорки жизни: дядя Эдвард, да свободолюбивая чёрная кошка из старых дворов, что позволяла себя подкармливать.
Железный остановился перед тяжёлой металлической дверью, и несколько раз энергично нажал кнопку звонка. На пороге его встретил невысокий русоволосый человек в тёртых джинсах и серой заношенной футболке. В руках он держал, как наваху, большие портновские ножницы. Пахло кофе.
– Привет, Железо, заходи.
– Здорово, Светлый! – Железный вошёл в прихожую, скинул пуховик. – Как дела? Чем занимаются сегодня люди в серых футболках?
– Люди в серых футболках джинсовки себе шьют. В индейском стиле. С бахромой.
Железный, развязывавший шнурки на высоких жёлтых ботинках, сел на пол.
– Ты что, умеешь шить? Как дядя Додик?
Светлый улыбнулся:
– Никогда не пробовал. А что, это сложно?
– Таки, смотря как. Если хорошо – сложно. Сшил бы ты, для начала, хотя б носовой платок! А почему стиль индейский?
– Я чувствую себя последним из Могикан, – ответил он без улыбки.
Они прошли на кухню, Светлый сварил в старинной джезве свой любимый абиссинский лонгберри.
– Твой кофе – божественен, а сам ты – наш сокровенный баристо, – Железный отхлебнул из крошечной, затейливо расписанной чашечки дорогого фарфора:
– А что это тебя сподобило на портновские подвиги?
– Да так…. Джинсовка мне нужна. А потом, – он тряхнул головой. – Делать-то всё равно нечего.
– Вот именно: делать тебе нечего. Но сегодня у Чёрного в мансарде биеналле, так что кройку и шитьё можно отложить.
Светлый усмехнулся:
– Опять пьяные танцы на перилах, песни и нарушения общественного порядка с отягчающими обстоятельствами?
– А как же!
– Светлый задумчиво посмотрел в окно:
– Тётка на пироги звала….
– Чтооо?
– Ладно, ладно! К чёрту пироги! С собой захватить что-нибудь?
Железный расхохотался:
– Ну, захвати… что-нибудь! – допив кофе, он поднялся. – Что ж, хорошо у вас, но пора. Дела, знаете ли, дела. Значит, не прощаемся.
Железный ушёл. Светлый вернулся было к шитью, но скоро бросил: настроение пропало. Он послонялся по неприбранной квартире, сел у окна. За ним, почти касаясь стекла страшными, как в германских сказках, ветвями, рос огромный тополь, обложенный туманом, как ёлочные игрушки ватой. Так теперь навсегда. А когда-то из окна можно было увидеть заросшее камышом озерцо через дорогу, покосившиеся домишки на том берегу, лениво щиплющих травку лошадей; как прилетали утки, как чертили белые полосы по небу самолёты, но это было ещё в детстве, а теперь главным стало то, что раньше почти не замечалось. Тополь одевался изумрудной листвой по весне, сбрасывал бурую, пожухшую – осенью. Иногда на его ветви садились птицы.
Он услышал приближающийся шорох крыльев, и на ветку перед ним опустился чёрный ворон. «Откуда здесь ворон?» – удивился Светлый. Большая, словно из антрацита вырезанная птица ударила замёрзшее дерево эбонитовым клювом, тряхнула головой, уставилась блестящим глазом на ярко освещённого человека за стеклом. Светлый поёжился. Никогда в Городе воронов не видели. Чайки, голуби, вороны, воробьи, снегири, синицы, даже сову полярную примечали не раз, но воронов – никогда. Светлый и знал-то, как эта птица выглядит по телепередачам, где Корней Чуковский носил своего мрачного друга на плече по необъятной даче в Переделкино, угощал чем-то заманчиво-вкусным и заставлял повторять разные глупости. Чуковский давно умер, упокой Господь его странную душу на злачных пажитях, а птица? Куда пропала птица?
Ворон снова ударил дерево, осторожно переступая по ветке узловатыми шершавыми лапами, переместился ближе.
– К чему бы это? – пробормотал Светлый. – К чему это прилетают из тумана чёрные птицы с умными глазами? Может быть, ты ручной, прямо из Переделкино?
Он медленно встал, стараясь не делать резких движений, подошёл к окну, взялся за верхний шпингалет. Его с осени не открывали, так что он присох намертво.
– Чёрт тебя дери, – прошипел Светлый, пошевелил рычажок вправо-влево, повис всем телом – и крашеная сталь поддалась с оглушительным стуком. Светлый покосился на птицу: та не шелохнулась. Тогда, осмелев, он щёлкнул нижним замком, потянул створки на себя. С хрустом отлетела со стыков бумага, посыпалась на пол серая вата, забитая в щели отцом, окно нехотя распахнулось. В кухню ворвался морозный ветер, донёсся приглушённый туманом городской шум. Птица не улетела, присев на цепких лапах в метре напротив.
– Ну, что ж, заходи, кто бы ты ни был! – пригласил Светлый, для ясности сопроводив слова жестом.
Ворон бросился в лицо, словно только и ждал удобного момента, словно всё заранее рассчитал и подготовил, направляя события с самого начала. Светлый едва успел закрыться руками. Острые когти рванули кожу, от удара клювом удалось увернуться уже совсем по-боксёрски. Он отшвырнул птицу, захлопнул окно. Отлетев к дереву, ворон бросился вновь, но теперь между ними было стекло. Он ударился о него, скатился вниз, подпрыгнул с откоса и исчез в серой мгле. Ещё с секунду он слышал его странные крики откуда-то сверху, а потом всё стихло. Светлый налёг на створки, с трудом закрыл шпингалеты. На грязный подоконник из разодранных предплечий капала густая кровь.
–Твою мать,– он выругался, осматривая рваные раны. – Что ж ты за гость такой? И почему ко мне? Что, вообще, это было? Мистика какая-то…
В ванной он умылся, вытер руки ветошью, заклеил раны пластырем. Заглянув в глаза отражению, покачал головой, вернулся на кухню. Налил кофе, сделал два обжигающих глотка.
– Будем ждать, – прошептал он. – Будем ждать.
***
Стемнело. Ветер, старательно выметавший окоченевший Город весь день, стих. Повалил густой, пушистый снег, опуская на землю особенную тишину снегопада, которую нарушал только скрип под ногами. Если бы Туман расступился хоть на миг, то сквозь прорехи в набрякших тучах показались бы подрагивающие в чёрном небе звёзды.
Светлый опаздывал, но не спешил: никто не ждёт его с хронометром в руках. Да и вообще, он не был уверен, что хочет куда-то идти на ночь глядя, однако, и дома не сиделось. Встреча с чёрной птицей настраивала на мистический лад, за каждым поворотом таился рок. Светлый не хотел встретить судьбу, забившись под стол. Ну, какой рок может настичь на мягком диване под мохеровым пледом? Он улыбнулся своим мыслям, щёлкнул крышкой потёртых карманных часов на длинной цепочке, пожал плечами и ускорил шаг.
Мансарды художников располагались под плоской крышей обычной многоэтажки на окраине Города. В просторных студиях за стеклянными стенами, пропитанных запахом краски и табачным перегаром, среди мольбертов, мятых алюминиевых тюбиков, банок, бутылок и палитр тихонько протекала особая жизнь, не заметная для Горожан. Когда-то из панорамных окон открывался потрясающий вид на Город и окружающие его горы, поросшие лесом, но теперь за стёклами клубился Туман. Не было никакой уверенности, что кроме Тумана в этом мире хоть что-нибудь существует. Возможно, этакий Хозомин и стимулировал творчество, но с натурой здесь было туго.
Из тёмой пещеры подворотни слева шмыгнула чёрная кошка, замерла, поджав лапку на середине улицы, уставилась сверкнувшими глазами на Светлого. Тот остановился.
– Ну, привет, привет! Что ж вас столько ко мне!
Кошка тряхнула головой, юркнула под заколоченную грязными обломками дверь справа.
– Однако, – пробормотал Светлый закуривая. Огонь спички на секунду ослепил, согрел ладони, горький дым папиросы ожёг горло. – Тонкий мир всё ближе.
Он не спеша покурил, смакуя табак, в тишине снегопада, и шагнул вперёд, пересекая ровную, как по линейке проведённую, цепочку кошачьих следов.
Поднявшись на крыльцо, Светлый оказался перед железной дверью с кодовым замком. Когда-то все двери были деревянными и не запирались, но с приходом Тумана горожане стали подозрительнее, злее и закрыли под замок всё, что могли. Впрочем, именно эту дверь можно было открыть, не зная код. Светлый обеими руками ухватился за ручку, резко рванул всем телом. Створка со щелчком распахнулась, и подъезд встретил теплом. Это был своеобразный ритуал посвящённых, тайное знание низкого градуса. Как часто бывает, практический смысл в этих мистических манипуляциях полностью отсутствовал: замок отлично работал, а код нацарапан на стене рядом.
Светлый прыгал в сумраке через две ступеньки, спеша миновать удушливые облака аммиака, волнующие запахи жареной с салом картошки, цыплёнка табака и марихуаны. Поднялся на самый верх, дважды нажал круглую кнопку звонка.
– Буэнос диэс! – воскликнул Железный, впуская его внутрь.
– Ни хао! Уже почти ночес, – ответил Светлый. – Я вижу, ты уже основательно поддат, маэстро.
– Я не пью! – вскинулся Железный, и, вдруг, спросил: – А ты видел когда-нибудь морских черепах?
– Нет.
Железный печально улыбнулся:
– А я вот их периодически наблюдаю….
Тесная бежевая прихожая была завалена одеждой и уставлена обувью. Слева на лакированной тумбе размещались советские тёмно-синие весы с блестящими чашами и красной стрелкой под стеклом, а справа на стене висела отчеканенная на меди картина с кавказскими мотивами: обнажённая девушка, посыпанная то ли песком, то ли пеплом сидела, склонившись над коленями. Железный перехватил взгляд Светлого.
– На этих горских этюдах чувственность изображения оттеняется подразумеваемой строгостью нравов. Голая француженка Мане – просто кукла.
– Ничего не понимаю в морских черепахах и живописи, – улыбнулся Светлый. – Но девка на чеканке – чудо, как хороша!
– Волнует?
– Волнует.
– И меня волнует. И всех прочих, ну, может, кроме гомиков. Но волнует не так, как порно, или даже эротический постер. Неуловимо иначе. Именно этим искусство и отличается от Хастлера. Но ханжам не понять: они и в Венере Милосской видят, главным образом, сиськи. Я думаю, это от подавленной сексуальности и фиксации на анальной стадии психо-сексуального развития.
– К чёрту грязную свинью Фрейда, Железо. Я замёрз.
– Намёк понят, пошли.
В центре просторной студии стоял мольберт с полотном средних размеров, выхваченный из тьмы узким лучом рампового светильника. Впрочем, Город на картине настолько пропитался солнечным светом, щедро пролитым на него автором, что, казалось, может сиять и сам. Здесь, в тёмной мансарде под самой крышей унылого муравейника, посреди утопленной в густом Тумане зимней ночи, распахнулось окно в иной, солнечный мир, в такой, каким только мир и должен быть.
– Круто! – выдохнул ошеломлённый Светлый.
– Да уж, – Железный протянул ему гранёный стакан. – На вот, запей.
Светлый не глядя взял стакан, опрокинул в рот. Поморщился: разведённый ржавой водопроводной водой спирт с гидролизного завода. Он подошёл поближе, вгляделся в детали, в каждый мазок масла, густо положенного на холст. Шершавая, в маленьких трещинах сольфериновая черепица сочилась кирпичным теплом, золотые шпили нестерпимо слепили бликами, тёмно-зелёные шапки лип манили прохладой, голубые горы звали в дорогу.
Картина называлась «Город».
– Волшебная работа! – сказал, наконец, Светлый. – Правда, она будит такую яростную и беспросветную тоску, что хочется немедленно напиться в дым, – добавил он, оглянувшись на окна. Железный наполнил протянутый стакан из трёхлитровой банки с игривой этикеткой «Огурцы»:
– А говоришь, что не разбираешься в живописи.
– Спасибо! – раздалось слева сзади. – Лучшей оценки я не мог и желать. Именно из этой тоски работа и родилась.
Светлый обернулся на голос. Рядом стоял высокий человек в чёрном свитере с высоким горлом. Глядел прямо в глаза, без улыбки.
– А вот и автор шедевра! – воскликнул Железный.
– Знакомьтесь: это – Чёрный, это – Светлый.
Они пожали руки.
–Да мы, кажется, виделись уже, – пробормотал Светлый смутившись. – Великолепная работа, поздравляю. Просто круто.
– А как положено масло! – воскликнул Железный.
Чёрный поморщился, махнул рукой:
– Спасибо, польщён. А напиться, действительно, хочется.
– Так в чём проблема? Прозит!
– На здрави!
– Ура!
Зазвенели стаканы.
Людей в студии осталось не много. Человек пятнадцать небольшими компаниями расположились вдоль стен, заваленных мольбертами, холстами и прочей утварью художников. Из двух колонок не громко, но качественно тянуло Лед Зеппелин, в воздухе слоями плавал табачный дым. Кроме сияющего полотна, вся остальная студия терялась в полумраке. Это был особенный уют мягко освещённой театральной сцены, когда спектакль окончен, зрители с актёрами уже разошлись, а искусство осталось.
Чёрный сидел в углу на бордовом пуфике у низкого столика карельской берёзы, оглядывая зал усталым полководцем после славной виктории. Вечер прошёл хорошо. Всем пришедшим его картина понравилась, ему жали руку и горячо поздравляли. Это приятно щекотало тщеславие. Но подумалось, что главная часть этого слова – тщета. Пока работа писалась, он чувствовал себя подключённым к источнику высокого напряжения, по телу струились потоки лазурной энергии, а с кончиков пальцев слетали искры. Мир вокруг существовал постольку, поскольку был необходим холст, краски и то, что приходило, как озарение. Само его бытие оправдывалось лишь актом творения, загадка которого вызывала дрожь и трепет.
Не всё шло гладко. Материя сопротивлялась, доводила своей неуклюжестью до белого каления, так что несколько холстов, уже почти законченных, полетели в печь. Не один раз он порывался забросить всё к чертям, напивался до беспамятства, но утром опять вставал к мольберту. Там, на сером холсте медленно появлялся Город, который он любил, и которого не существовало в этом мире, наверное.
Теперь вот он: сияет в самом сердце зимнего мрака невозможным окном, и, глядя на него, хочется выброситься в окно возможное, за которым треклятый туман и отвратительные оранжевые пятна уличных фонарей внизу. Картина сделалась чужой, как ставший взрослым эгоистичный ребёнок, начавший жить своей свежей интересной жизнью, в которой отцу отведено почётное, но незавидное место обязательных скучных посещений.
А восторги…. Они быстро проходят. Остаётся память о жизни с электричеством на кончиках онемевших пальцев, и ожидание новой встречи с ней.
Жажда.
– Так вот, об искусстве, – вернул его в студию голос Железного. – Для чего, зачем этот дивный цветок распускается на грязной помойке нашего мира?
– Искусство, – отозвался Чёрный. – Заполняет пустоту внутри.
– Но искусство бывает разное, – возразил сидящий напротив Светлый.
– Так и пустота внутри бывает разная. Бывает такая, куда ничего кроме помоев и не льётся. Впрочем, вполне возможно, что это взаимопорождающие явления.
– А я считаю, что искусство должно быть утилитарным, – заявил модно одетый мужчина, которого все называли Мажор.
– В смысле: дырки на обоях Ван Гогом завешивать? – усмехнулся Чёрный.
– Если у тебя лавэ хватит, тогда, таки, да! – спокойно ответил Мажор. – Вообще же, Ван Гог – скорее для закусочной средней руки. И Де Га туда же, вкупе с Тулуз Лотреком и Сезанном. В центровой кофейне уже уместнее Сальвадор. В ресторации лучше средиземноморские пейзажи – улучшают аппетит. Ну, а для туалетной комнаты – маринисты.
Посмеялись.
Чёрный развёл руками:
– Масса народа как раз в такой базарной манере и работает. Один пишет для офиса, другой для сортира, третий в Ялте пейзажи толкает. Только к искусству это никакого отношения не имеет.
– Плохие пейзажи?
– Не плохие. Посредственные. Искусство нельзя творить с рыночной мотивацией. Вдохновение – не оргазм, его нельзя имитировать. К мольберту нужно вставать тогда, когда терпеть уже не можешь.
– Когда терпеть не можешь, нужно идти не к мольберту, а в туалет! – заметил со смешком Мажор, цепляя вилкой скользкий гриб.
Чёрный взглянул наверх: потолок медленно покачивался над головой. Неловкая пауза за столом разрешилась суетливой перепалкой Мажора и Железного, а он сквозь этот гвалт, сквозь Лед Зеппелин и звон стаканов слышал тиканье часов на противоположной стене. Каждая секунда маленьким золотым молоточком била в мозг, и он рассыпался под его ударами фиолетовыми брызгами. Шум в студии стал фоном вечного ритма, так что казалось странным, как люди слышат друг друга из-за этого грохота. В голове раскачивался огромный бронзовый маятник, покрытый причудливыми узорами патины, угрожая сокрушить череп. Мир закручивало в гигантский водоворот, поглощающий всё сущее. Каждое слово, оброненное за столом, вызывало рвотные спазмы. Он встал со стаканом в руке, ухватился за высокую спинку стула Железного, чтобы не упасть. Все замолчали.
– Что ж, это многое меняет, – рявкнул Чёрный, обвёл сидящих безумным ненавидящим взглядом. – Усралось нахер вам писать! – он выпил, размахнулся, и швырнул стакан в свою картину, распятую на мольберте в центре мастерской.
Светлый, сидевший через стол, неожиданно для себя схватил со стола блюдо с остатками нарезки, совершенно джекичановским движением отбил стакан в сторону. Тот отлетел в стену и разлетелся звонкими брызгами в полуметре от головы какой-то девчонки, которая и ухом не повела. Буквально: даже не вздрогнула.
– Жаль, – процедил Чёрный. – Ну, да ладно. Пользуйтесь. Можете в сортир повесить.
– Сдурел, что ли?! – воскликнул Железный.
Девушка в недоумении стряхивала с волос осколки.
– Я? – покачнулся Чёрный. – Я сдурел? А по-моему, так совсем не я. По-моему, дураки – вы! А ты – первый дурак! Неужели не ясно, что всё это вот, – он обвёл рукой неопределённый круг. – Всё это – дерьмо. Это болото, которое рано или поздно засосёт нас всех. Если уже не засосало. Город по крыши заполнен вонючим туманом, вы что, уже не замечаете? Принюхались? Люди превращаются в зомби со стеклянными глазами, им ничего не нужно, они живут рефлексами, как лабораторные свинки. Вы и сами уже почти превратились в них, но не хотите это признать, прикрывая животный позор обрывком загаженного листка элитарности. Помойная элита. Вы же гниёте заживо, но пальцем не хотите пошевелить, чтобы разобраться во всём этом бардаке! А я не хочу гнить, понимаете? Не хочу! – он хлопнул дверью.
– Перебрал, что ли? – промямлил Железный.
Светлый оглядел оставшихся, зацепившись взглядом за растерянную улыбку девушки у стены. Обернулся к картине, посмотрел на ослепительно сияющий шпиль ратуши. Сказал, ни к кому не обращаясь:
– А ведь он прав, – и вышел следом.
Мажор разлил по стаканам припасённый кальвадос:
– В сортир, не в сортир – посмотрим. Ты, брателла, – он повернулся к Железному. – Предложи ему за эту картину хорошую цену, да не скупись. Гордость гордостью, но надо же ему пить на что-то, да краски покупать.
* * *
Сложно найти в Тумане человека, если ты уже потерял его из вида. Тем более в ночном Городе, где извилистые улочки, подворотни, тупики и проходные дворы просто созданы для игры в прятки. Но Светлый почти бежал, надеясь на счастливый случай.
«Вначале было одиночество. И одиночество было у Бога. И одиночество было Бог» – так говорил Железный со слов Чёрного. И всё-таки, у каждого есть своё племя. Иногда оно рассеяно, как горсть пшеницы по ветру, но шанс встретиться есть всегда. А если ты нашёл в этой пустыне человека, то не имеешь права его терять, потому что другого шанса может и не быть, а скорее всего и не будет.
В темноте очередной подворотни шла какая-то нехорошая возня. Он остановился, прислушался. Тишину зимней ночи марали звуки глухих ударов в мягкое и живое, сдержанные возгласы.
– Гопьё поганое куражится, – пробормотал Светлый. – А не Чёрный ли там, часом?
Выхватив из кармана финку, он бросился в подворотню. Заводясь, словно волчара, унюхавший крови, рявкнул не своим, диким голосом первобытного воина:
– Всем стоять, суки! Руки в гору, мать вашу на выселки, стоять, я сказал!
– Шухер! – четыре тени метнулись прочь, в темноту.
Светлый сделал ещё пару шагов, убрал нож, зажёг спичку. Дрожащее пламя осветило Чёрного, скорчившегося на истоптанном, забрызганном кровью снегу. Чтобы привести его в чувство пришлось влить в горло водки из дедовской фляги с выпуклым охотником на тускло блеснувшем никеле. Чёрный закашлялся, потряс головой, застонал, сжимая её ладонями.
– Ну, что, живой?
– Не дождётесь! – просипел Чёрный. – А ты кто?
– Светлый. Я был на твоей выставке.
– Ну, уж и выставка…. Понравилось?
– Очень. Когда ты сбежал, я пошёл за тобой, думал, уже не найду.
– Вовремя нашёл, спасибо.
– Обращайтесь. На вот, глотни ещё, да пойдём к фонарю, осмотрим полученные повреждения.
– Кстати, а куда делась эта нежить?
– Гопники-то? А я их напугал, – он помог Чёрному встать, дотащил до ближайшего фонаря. В жёлтом свете осмотрел разбитое лицо.
– Ничего, останешься красивым. Зубы целы?
Чёрный поводил во рту языком:
– Вроде, да.
– Ну, и то хорошо. На вот, утрись!
Чёрный послушно взял пригоршню чистого пушистого снега, приложил к пылающему лицу. Снег таял, стекал между пальцев алыми каплями.
– Ты далеко живёшь? – спросил Светлый.
– Рядом.
– Тогда пошли, помогу добраться.
Минут через десять они остановились у подъезда. О дверь тёрлась рыжая кошка. Чёрный открыл ей.
– Чаю хочешь?
Светлый махнул рукой:
– Да какой чай, поздно уже! Точнее рано. Устал я. Ты до квартиры дойдёшь?
– Дойду, куда я денусь. Спасибо, что дотащил!
– Сочтёмся ещё.
– Ты, кстати, завтра занят?
– Да нет, – он вдруг рассмеялся. – Ты что, на свидание меня приглашаешь?
– Ага, – усмехнулся разбитыми губами Чёрный. – Прямиком в бар «Голубая устрица»! Как насчёт по пиву?
– А легко! Где?
– На площади у Ратуши есть неплохая пивная, там и встретимся.
– Сговорились. Давай, до завтра! Удачи!
– И тебе.
* * *
Наступившее утро ничем не отличалось от скучной вереницы уже прошедших. Терпкий чабрец из чашки, бутерброды, невнятное радио.
Зимнее солнце встает поздно, нехотя, после людей. Вот и сейчас свет падал через кухонное окно не в дом, а наоборот, выхватывая из темноты ветви дерева и клубы Тумана: они медленно поднимались, опускались, ворочались. Иногда эта дышащая серость казалась одушевлённым, разумным существом, космическим пришельцем, который мягко, но настойчиво налаживает контакт с аборигенами. Но аборигены его либо не замечают, либо яростно ненавидят.
Тонкий фарфор в руке согревал, дурманил запахом диких трав далёких лугов. Зима – время торжества муравья над стрекозой. То, что в июле сорвано обветренными руками высоко в горах, у самых облаков, высушено в печном тепле старой хибары гостеприимных егерей, прилепившейся ласточкиным гнездом к скале над обрывом – теперь отдаёт лето терпеливому, и дарит надежду, что зима – это не навсегда.
– К чему прилетают чёрные птицы с умными глазами, а? – спросил Светлый у отражения в тёмном стекле. Отражение пожало плечами, недоумённо приподняло бровь, отсалютовало.
Что-то изменилось в мире. Будущее, совершенно не похожее ни на что уже виденное, рождалось прямо сейчас, из тонкой ткани обыденности. Одни складки расправлялись, другие появлялись, но пока ещё настолько мелкие, что не разглядеть, а только почувствовать, как начала струиться материя во всех измерениях сразу.
Столько восходов, столько обманутой надежды….
Светлый осторожно поставил чашку на край стола, бесшумно вернулся в комнату. На детской кровати у стены сладко сопел, смешно вытянув шею, младший брат. Светлый вздохнул. Не любить этого тёплого ангела невозможно, а как быть, если он – живое продолжение мерзкого, постыдного предательства отца? Пусть он родился у мачехи, не важно, жизнь – долгая и странная штука, в ней случается всякое. Но он родился через пять месяцев после смерти мамы. Светлый видел, как она таяла. Всегда быстрая и озорная, мама превращалась в грустную улыбку. Прозрачные руки скользили по стене, когда она в три приёма, останавливаясь отдышаться, добиралась до кухни, чтобы приготовить им с отцом обед. Потом обеда не стало.
Теперь мама лежит под землёй на окраине Города и улыбается.
Светлый поправил сползшее одеяло в бежевых мишках, постоял немного в сонной мягкой тишине, затем быстро собрался и вышел.
«Удивительно нелепая судьба у этих рыб,» – думал Светлый, с треском сдирая покрытую изморозью соли чешуйчатую шкуру с куска леща. «Рождаются из маленькой прозрачной икринки, растут, выживают один из тысячи, греются пугливыми стайками на мелководье, плавают среди нежных водорослей в прозрачной полутьме. Всю жизнь молча. Шевелят плавниками, смотрят на 360 градусов. Потом р-раз: боль, сталь в нёбе, неожиданно прозрачный мир, ужасный вес беспомощного тела, всё гаснет вокруг. И вот сухие рёбра торчат колючими шпагами. Вкусно, конечно, но до чего пошлый, бессмысленный замысел!»
Напротив тяжело опустился Чёрный. Его правый глаз заплыл, разбитые губы распухли.
– Привет, я опоздал, прости, – он протянул руку над лакированными плахами соснового стола.
Светлый сунул в ответ сжатый кулак:
– Руки в рыбе. Привет.
Чёрный пожал тонкое запястье, брезгливо покосился на пиво:
– Сегодня нужно пить коньяк.
Светлый отправил в рот солоней соли кусок, прожевал не спеша, с удовольствием запил горьким из запотевшей кружки.
– После вчерашнего, пиво – в самый раз. Как самочувствие?
– Соответственно. Нога ломит, и больно улыбаться. Но глотательный рефлекс в норме. И всё же коньяк.
Светлый тщательно вытер руки салфеткой:
– Коньяк, так коньяк. Я возьму, – он хотел встать, но Чёрный остановил его.
– Не здесь.
– Не здесь? Почему?
Чёрный рассмеялся:
– Всему свыше назначено своё место и время. Сегодня – не здесь. Здесь, может быть, завтра. В двух шагах отсюда – то, что надо. Идём?
Светлый взглянул на недопитое пиво, на недоеденного леща, на Туман за окном; махнул рукой:
– А, чёрт с ним, идём!
Пока шли, повисло неловкое молчание. Светлый чувствовал себя не уютно, он не переносил такие моменты. Право на молчание нужно заслужить.
– Тебе какие художники нравятся? – спросил он, нащупывая почву и наводя мосты.
– Художники мне вообще не нравятся, – не задумываясь, ответил Чёрный. – Сплошь задаваки с комплексом непризнанного гения. Мудаки, словом. А работы… Мне нравится Левитан. Удивительный художник. Шишкин, Айвазовский – невероятно чистое, сильное письмо. Ну, Ван Гог, Дега… Да много кто. Но ты ведь для поддержания разговора спросил, так ведь?
Светлый смутился, но запираться не стал:
– В общем, да. Но всё равно интересно. А критерии?
– Самый надёжный критерий: «нравится – не нравится». Это как с пищей: природа наградила нас великолепной защитой: плохо пахнет – не ешь. Мне могут долго объяснять, что хотел сказать модный автор, наблевав на холст, но я – за прямой диалог со зрителем. Если я вижу на холсте дерьмо – мне не нужны объяснения.
– Убедительно. А критика?
– Критика – это когда одни жулики убеждают других, что те не прогадали, купив поделку у третьих. Ну, да и хрен с ними, мы пришли, – он отворил дверь, и они оказались в гастрономе.
– За мной, – вполголоса сказал Чёрный, делая шаг на узкую лестницу с давным-давно некрашеными обшарпанными ступенями, ведущими на террасу, которая опоясывала торговый зал под потолком. На ней располагались пожелтевшая стойка и столики, что были заведены когда-то на вокзалах и в рюмошных: для того, чтобы выпивать стоя.
– Странно, пробормотал Светлый. – Сколько раз бывал в этом магазине, а буфета даже не замечал.
– Я и сам оказался здесь совершенно случайно. Зашёл за хлебом, а на меня свалился с лестницы перебравший абориген. Ступени видел, какие крутые? Тоже «критерий». Слишком пьяный не поднимется, да и для поднявшихся острастка. Правда, кого когда пугала перспектива упасть из под потолка, когда море по колено. Пойдём, с меня причитается.
Они взяли гранёные стопки, белое блюдечко в васильках с крепкими влажными ломтиками лимона, встали к столику у круглого, основательно запылённого окна в полстены. Других посетителей в бистро под потолком не было.
Сделав глоток, Светлый поморщился:
– А почему именно коньяк?
Чёрный надкусил лимон, брызнувший нестерпимо кислым по языку, сделал ещё один обжигающий глоток, зажевал горькой цедрой.
– Каждому человеку в этом безумном мире ускользающих перемен, способных своей калейдоскопической круговертью снести крышу даже самых стабильных пациентов, нужно что-то стабильное. То, что не меняется никогда. Твёрдая почва. Стратус.
– Коньяк – стратус? – рассмеялся Светлый.
– Для кого-то это может быть Ветхий Завет, – серьёзно заметил Чёрный. – Для меня вся стабильность, что существует в мире, заключена в коньяке. Всё на свете изменчиво – так утверждают Мудрые. И в одну реку нельзя войти дважды. Особенно в Лету, – он улыбнулся. – Только вкус коньяка не меняется, в какие бы реки тебя не занесло. Это успокаивает, – он залпом допил.
Светлый с сомнением глянул в свою стопку, взболтал янтарную жидкость:
– По-твоему, это – хороший коньяк? Вот это, что нам налили в этой дыре?!
Чёрный снова улыбнулся:
– Да плевать я хотел в то, что нам здесь налили! Коньяк не нуждается в определениях. Коньяк – как друг. Сегодня он может быть «Хеннесси», а завтра – «Лезгинка», главное, что он тебя не предаст. Ты его можешь предать, а он тебя – нет. Вот так!
– Ну, хорошо, теперь я возьму по стабильности, – Светлый отправился к стойке.
– Давайте повторим, – обратился он к грузной женщине в несвежем халате, поджавшей губы при его появлении.
– И лимон?
– И лимон, – махнул рукой, как бы восклицая по-гусарски: «Гулять – так гулять!»
Шутку не оценили. Продавец терпеть не могла пьяниц и свою работу.
– Знаешь, чего я больше всего боюсь? – спросил Чёрный, когда Светлый вернулся за столик.
– Разучиться творить?
Чёрный поморщился.
– Нет, творить – это такой дар, который обратно не забирают. Ты можешь попытаться забыть о нём, но тогда он выжжет тебя изнутри. Я боюсь однажды проснуться, и перестать видеть эту серую дрянь, – он, не глядя, указал рукой с крепко сжатой стопкой на пыльный круг окна, за которым проплывали белёсые космы Тумана.
– Так ты же сам говорил… – начал Светлый.
– Ай! Говорил! Я говорил о том, что мечтаю о дне, когда Туман исчезнет из города, а не о том, чтобы перестать его видеть! Вот они, – он ткнул стаканом вниз, на снующих покупателей. – Или она, – стакан метнулся к продавщице, плеская. – Ни черта же не видят. Пьют, жрут, детей рожают – и всё. Хоть Туман, хоть дождь из черепах.
– А мы?
– А мы хотим чего-то большего! Видеть мир, как он есть. Я хочу жить в Городе, который нарисовал, хотя и не видел его таким никогда. Но ты ведь видишь Туман?
– Я вижу.
– И я вижу. И превращаться в свинью у корыта не желаю. Точнее, не смогу. Такого дара у меня нет.
– Жалеешь?
Чёрный тряхнул давно не стриженой головой:
– Иногда да. Может быть, и не иногда. А что толку? Однажды видевший море не сможет его позабыть. Можно помечтать о тихой жизни среди фарфоровых слоников, но не будет им от меня счастья!
Светлый поднял стопку:
– К чёрту слоников! За удачу!
– За удачу!
Они выпили, закусили сводящим скулы лимоном, который снова захотелось запить чем угодно, пусть даже этим резким дешёвым бренди из дагестанской глубинки. Замолчали.
Чёрный подошёл к ограждению, посмотрел на торговый зал, на снующих внизу людей. Никто не замечал его, все занимались своими делами. А он хотел докричаться до каждого, быть этим каждым понятым и принятым. Если же нет, то тогда и ему не нужен никто, пусть провалятся сквозь землю, и магазин этот чёртов пусть с собой заберут.
Мальчик лет пяти в голубом комбинезоне и сползшей набок цветастой шапочке замер перед витриной, даже рот открыл от изумления. В витрине выставлялась свиная голова. Огромная, с бугристой жёлтой кожей. Смерть обескровила и обездвижила пятачок, зажмурила маленькие быстрые глазки, но сама таращилась на мальчика в упор. Ему было и жутко и интересно. Хотелось дотронуться. Может быть, даже посмотреть на убийство. Увидеть, как отрежут голову. В то же время, он до слёз жалел животное, которое никому не сделало зла.
«Он увидит смерть, болезни, страдание, и станет величайшим Учителем» – вспомнил Чёрный. К витрине подошла расплывшаяся тётка в некрасивом коричневом пальто с меховым воротником, утащила упирающегося Будду прочь.
Чёрный вернулся к столу:
– Вот что, дорогой товарищ, здорово мы тут с тобой гульнули, но пора и честь знать. Время не ждёт.
– Так ведь выходной же!
– Эх, я давно уже не слежу за днями недели! Вся моя жизнь – рваный и прыгающий скользящий график. Но это всё ерунда, нужен буду – ты знаешь, как меня найти.
– Вот это уж непременно. И вскорости. У меня такое ощущение, будто я не сказал тебе что-то очень важное, словно хотел, но забыл.
– Ничего! Если действительно важное – обязательно вспомнишь.
* * *
– Ты опять опоздал? – сменщица с высокомерным отвращением оглядела избитое лицо, наслаждаясь демонстрацией этого отвращения. – Весёлая ночь?
Он молча протиснулся мимо её туши в ларёк. «Интересно. В таких объёмах, как здесь, прикосновения к женскому телу ничего не значат. Точнее, прикосновения к таким объёмам» – сдержать смешок не удалось.
– Нет, ну ты глянь, какой хам! – её маленькие чёрные глазки сузились, курносый пятачок воинственно вздёрнулся, так что она стала похожа на бойцового поросёнка. – Ты что думаешь, мне делать больше нечего, кроме как ждать нашего художника великого, от которого дешёвой кониной тащит за версту, как от загулявшего прапора?!
Чёрный в который раз поразился её умению выражать отсутствие мысли затейливо и многословно:
– Отлично сказано, коллега! Ну, прости же, у меня дело важное было!
Она всплеснула пухлыми ручонками:
– Ты меня за дуру держишь?
– Не наговаривай. Я ни за что тебя не держу. И никогда не держал. Максимум – отирался, – он постарался придать лицу добродушное выражение.
Она залилась краской.
«Какой прекрасный оттенок пунцового».
В следующую секунду кругленькое личико сморщилось, бойцовый поросёнок превратился в обезумевшего от крови хорька в курятнике, уши заложило от яростного визга:
– Ах, ты, козёл паршивый! Говорила я брату: не бери этого выродка на работу, так нет, пожалел убогого! Но погоди, я тебя отсюда вышибу! Ты и близко к ларьку не подойдёшь!
Он расхохотался:
–Ты так говоришь, будто собираешься отобрать у меня контрольный пакет Кавасаки хэви индастриз, а не место ночного барыги в фанерном лабазе рабочего района!
Она забурлила, заклокотала перегретой кастрюлей, схватила коричневую сумку из кожезаменителя, и выскочила вон, хлопнув дверью так, что зазвенели разноцветные бутылки, плотно забившие узенькие сосновые полочки в зарешеченных окнах.
– Сильна! – пробормотал Чёрный. – Злобная дурында, но рука сильна, как у старика Ломоносова. И язык. Из ларька она меня точно вышибет. Да и хрен с ней. И с ним. Буду портреты жён свинорылых спекулянтов малевать.
Он закурил. На полсигарете повалили покупатели, и думать стало некогда: до двенадцати ночи он не присел. Время пик. Жажда. Сначала за своей дозой «отравляющей радости» бредут потёртые мужички, возвращающиеся с опостылевшей работы к своим ворчливым, вечно недовольным жёнам. Через некоторое время они появляются вновь, уже с маленькими лохматыми собачками, которых, видимо, заводили специально, чтобы иметь под рукой повод выскочить перед сном на улицу, да и привернуть за соточкой-другой. Следом бегут за добавкой бодрые алкаши. В полночь наступает затишье. Редко-редко забредают самые стойкие бойцы, или запойные: страшные, опухшие, трясущиеся зомби, норовящие обменять на бутылку остатки домашней обстановки перед дурно пахнущей одинокой смертью.
Чёрный бросил матовую спираль кипятильника в стеклянную банку с водой, смотрел, как собираются на металле стайки сверкающих пузырьков, как они растут, дрожат, отрываются, устремляются вверх, заполняя тесный объём бурлением и клокотанием. Щедрой горстью сыпанул в кипяток чёрного чаю из старой жестянки, что стащил год назад из дедовского дома. Чаинки медленно, нехотя вальсируя, погружались на дно, окрашивали воду в восхитительный красно-коричневый. Открыл маленькое оконце, сел перед ним на табурет, птичьими глотками пил обжигающий горький чай из железной кружки. На улице тихо падал снег в квадрате тусклого жёлтого света от витрин. За границей квадрата мир исчезал во тьме.
«Так и лечу в бесконечном пространстве ледяного одиночества с горячей кружкой в руках на крохотном заснеженном острове».
Когда показалось дно, справа заскрипел снег под нетвёрдыми ногами. Человек подошёл, долго изучал витрины, затем в амбразуре показалась заросшая чёрным волосом голова в замызганной шапочке болотного цвета.
– Мне бы беленькой, мил человек, – характерно осипшим голосом попросил он.
Чёрный назвал цену.
– Вот и хорошо, – человек порылся в карманах, высыпал на прилавок груду звенящей мелочи, видимо, не раз тщательно пересчитанной.
Чёрный сгрёб монеты, поставил гранёный стакан перед окном, аккуратно наполнил его до краёв из початой бутылки без этикетки. Человек осторожно, двумя пальцами взял стакан, отпил немного, словно дегустировал породистый виски. Профессиональный алкаш.
– Скажите, это ведь не водка? – вопрос звучал утверждением.
Чёрный со стуком поставил бутылку на прилавок, в глазах блеснула весёлая, отчаянная рогожинская злость. «Хороший выдался денёк. Урожайный».
– Конечно же, это не водка. Это технический спирт с местного завода, который мы с товарищем разводим водопроводной водой, чтобы обманывая хозяина, иметь дополнительный источник дохода. Наживаемся на пороке. Но вы не беспокойтесь, мы и сами пьём эту гадость, так что всё безопасно, никакого риска.
Забулдыга улыбнулся в косматую, с проседью бороду:
– Откровенность всегда подкупает и действует безотказно, да? Нехорошо, разумеется, столько людей обманывать, но… Тяжело, небось, работать тут по ночам?
Чёрный помолчал, думая продолжать ли случайный разговор. Такие разговоры всегда сводились к одному, но один чёрт не отвяжется:
– Ну, почему? Есть работы и потяжелее.
– Ну да, ну да…. Шляются вот всякие, с разговорами пристают, спать мешают.
– Что ж, издержки производства.
– Хорошо, коли так, – неопределённо протянул человек, и выпрямился. (Окно в ларьке устроили низко, так что покупателям волей-неволей приходилось кланяться).
Он пошарил по карманам задрипанного ватника, выудил папиросу, грязными пальцами замял патрон, вновь показался в окне.
– А огонька, скажем, у вас не будет, мил человек?
«С этого начинают все попрошайки: за огоньком сигаретку, за сигареткой водочки. Всё привычно до тошноты» – подумал Чёрный, но спичек дал.
– Благодарствую! – человек прикурил, вернул спички, и снова выпрямился. Чёрный глянул на почти полный стакан, спросил, передразнивая:
– А ты, мил человек, водочки купил, а не пьёшь. Али не нравится тебе что?
Человек наклонился, посмотрел абсолютно трезвыми угольно-чёрными вороновыми глазами:
– Мне, мил человек, спешить некуда. Я уже везде, где нужно в этой жизни успел. Так-то вот.
Через окно потянуло такой силой, что спина захолодела. Чёрный тоже закурил.
– Что, и дома не ждут? – голос предательски дрогнул.
Человек взял стакан, сделал большой глоток, отёр рот рукавом:
– Нет у меня дома.
«Приехали. Зачем я вообще ввязался в этот нелепый разговор!» – подумал Чёрный, а вслух спросил:
– Как это случилось?
– Что?
– Как ты потерял дом?
– А легко! – человек допил водку.
– Я занимался средствами генерации излучения в тетрагерцевом диапазоне, – он оживился было, но сразу сник. – Впрочем, это тоже теперь без меня. Всё теперь без меня…. Да и хорошо, что так, видимо…. Она была красива какой-то совершенно пошлой красотой. Такая вульгарная блондинка с пухлыми капризными губами, мерелиновской родинкой, вечно открытой грудью. Её простота граничила с глупостью, и запросто переходила эту неясно очерченную границу. Вначале, впрочем, это меня забавляло и восхищало. Она сняла меня походя, спускаясь по красным ковровым ступеням витой мраморной лестницы столичного центрового ресторана, где я и оказался-то случайно, по приглашению старого университетского товарища, ставшего большой шишкой. Этак подцепила пальчиком лацкан пиджака, взглянула из-под крашеной чёлки профессиональным взглядом – и всё. Потом обнажённые руки на плечах, тесные танцы – в точности как бывает в кино про шпионов и проституток. Свадьба гремела несколько дней. Разбили окно в ресторации. Весело было! Но она дочь художника.