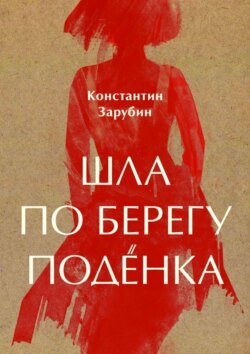Читать книгу Шла по берегу подёнка. Балтийская повесть - Константин Зарубин - Страница 7
Дом с ремонтом
ОглавлениеДом двадцать восемь по улице Викторияс я отыскал уже в сумерках. С третьей попытки из трёх вычислил в связке ключ от калитки. Закатил сумку во двор и пережил приступ жгучей зависти к Сашке.
В первую очередь меня почему-то пробрали салатовые наличники на окнах. Сам дом был тёмно-зелёный, особенно в сумерках, и наличники сияли на нём, словно в краску подмешали люминофора. Далее душу разбередила веранда второго этажа – глубокая, огороженная резными перилами, за которыми не сразу угадывалась обшивка. Все три окна веранды были распахнуты. В правое окно самым краешком заглядывала ветка огромной старой яблони.
В задней части двора, за прекрасной некрашеной беседкой, росла сосна.
Под яблоней, да и по всему двору, валялся строительный мусор, напоминавший о ремонте на первом этаже. Но мою зависть не мог разогнать ни мусор, ни ремонт, ни гулкие раскаты попсы, долетавшие с длинной улицы, утыканной ресторанами. Передо мной всё равно была волшебная прибалтийская дача. Такая, в какую постоянно тянет сбежать от всего на свете. Сидеть там, как Чуковский в Куоккале или академик Павлов в Келломяки. Нюхать сосново-яблочный воздух, ходить на море в шесть утра. И вот, стало быть, кое-кто, не будем показывать пальцем, ездит сюда в командировки. Кое-кто снимает резную веранду на деньги налогоплательщиков. Влюбляется в таинственную Киру с веснушками. А когда у этого кое-кого крыша от любви едет, пол-Европы немедленно встаёт на уши и эвакуирует его из волшебной дачи в волшебную клинику с видом на море. Ёксель-моксель, шоб я так жил.
Когда приступ зависти прошёл, я поправил на плече лямку Сашкиного портфеля и покатил сумку дальше. Вход был сзади, через одноэтажную пристройку напротив беседки и сосны. Я вошёл. Долго искал выключатель. В конце концов обнаружил его под неотёсанной доской, приставленной к стене.
Пахло краской и чем-то горелым. В ободранной пустой гостиной лежали рулоны обоев. На крючках в прихожей висела рабочая одежда, заляпанная всем, что ляпается.
– Добрый вечер, – сказал я на всякий случай.
Никто не отозвался, кроме коротенького эха. Гостиная была сквозная. Двустворчатая дверь на другой стороне гостиной выходила на нижнюю веранду.
Лестница была по эту сторону, в комнатке без окон между гостиной и прихожей. Я потащил сумку по скрипучим ступенькам. На площадке между пролётами увидел ботинки – видимо, Сашкины. Рядом с ботинками высилась стопка старых книг в авоське. У меня в груди снова заныло. Ёксель-моксель. Он ещё и книги в авоське носит. Старые. На свою волшебную прибалтийскую дачу.
Третий ключ на связке, судя по всему, отпирал дверь в конце лестницы. Мне он в тот вечер не понадобился – дверь была открыта настежь. Я вошёл в узкий коридорчик, увешанный фотографиями в рамках. Позднее, уже утром, на фотографиях оказались чёрно-белые виды старой Юрмалы.
Слева была нетронутая спальня с чехлом на кровати. Справа что-то вроде кухни. Во всяком случае, там урчал карликовый холодильник, а у окна стоял стол с табуреткой. На подоконнике темнел электрический чайник. На столе и холодильнике теснились нетронутые пакеты, коробки и банки с едой. Даже на табуретке ждала своего часа бутылка вина. Вальполичелла.
Я включил свет и пару минут инспектировал выставленный провиант. Консервы и хлопья, ничего скоропортящегося. Только хлеб зацвёл в дырявом полиэтиленовом мешочке.
Сыр, молоко и кефир стояли в холодильнике, столь же нетронутые. Я проверил срок годности молока. Он вышел за восемь дней до моего приезда.
– Ууу, Лобач, – пробормотал я с чем-то вроде нежности. – Какой же ты всё-таки Лобач.
Всё было логично: Сашка приехал, накупил еды, а потом чем-то увлёкся. Купленные продукты выпали из его оперативной памяти. Ел он, вероятно, в кафешках. Какие-нибудь йогурты пил на ходу. Когда приходил домой, проносился мимо – к объекту увлечения, скорее-скорее-скорее.
Я прошёл пять шагов до конца коридорчика. Открыл дверь в Сашкину комнату.
Она была не маленькая, примерно четыре на пять. Два больших окна смотрели на веранду. Их разделяла дверь – такая же двустворчатая и распахнутая, что и на первом этаже. Воздух был прохладный и яблочный, совсем как во дворе.
Слева от порога комнаты стоял икеешный торшер. Я дёрнул нитку. Энергосберегающая лампочка долго набирала обороты, но масштабы Сашкиной увлечённости поражали уже в полумраке.
Кровать, полуторная и низкая, была задвинута в угол и застелена мятым покрывалом. В другом углу стоял узкий шкаф цвета давешних салатовых наличников. На приоткрытой створке шкафа висели брюки и пара рубашек. Перед правым окном простирался овальный лакированный стол, тоже явно откуда-то передвинутый. На краю стола мигал синим огоньком дремлющий ноутбук.
Стол и кровать Сашка передвинул для того, чтобы расчистить пол. А пол он расчистил для того, чтобы завалить его книгами и распечатками.
Книги лежали на половицах стопками, по три-четыре штуки. Расстояние между соседними стопками составляло около полуметра. Уже утром я понял, что стопки выстроены вдоль прямых линий. Они были узлами невидимой сетки с ячейками-ромбами. В лучших Сашкиных традициях.
Распечатки, схваченные степлером, валялись безо всякой системы.
Я снял с плеча портфель. Поставил его к ножке торшера. В центре комнаты, в одном из ромбов, лежал половик, сложенный вчетверо. Я подошёл к нему. Это, видимо, было место для чтения. Сашка всю жизнь читает на полу. Скрутит ноги по-турецки, упрёт книжку в сгиб руки – и вперёд.
Усаживаться по-турецки я не стал. Опустился на колени. Прочитал названия верхних книг в окружающих стопках.
Впереди: Personal Identity.
Справа: Problems in Personal Identity.
Слева: The Human Animal: Personal Identity without Psychology.
Сзади: Philosophy, Psychiatry and Psychopathy: An Exploration of Personal Identity in Mental Disorder.
На корешках белели библиотечные нашлёпки.
Я перебрал все четыре стопки. Все книги были из университетской библиотеки. Почти каждая содержала в названии personal identity. Только одна, немецкая, задавалась главным вопросом про мозг: Kann das Gehirn das Gehirn verstehen? Gespräche über Hirnforschung und die Grenzen unserer Erkenntnis. Сашка в Мюнстере учился после СПбГУ. По-немецки он читает свободно.
Не вставая с колен, я пополз по комнате – от стопки к стопке. Ползал минут двадцать. Ворошил распечатки, читал обложки, просматривал содержания, пробегал глазами куски случайных страниц. Науки не менялись: философия сознания, психиатрия, психопатология, нейрофизиология. Большинство книг так или иначе касались природы личности, её тождества или распада. Процентов девяносто по-английски, кое-что по-немецки. На русском имелась «Клиническая психология», невзрачный учебник для вузов, и бурая от времени брошюрка под названием «Феномен „пунктирного“ самосознания. Результаты клинических наблюдений в психиатрической больнице г. Кутаиси». А. Бенидзе, Т. Чибалашвили, издательство Тбилисского университета, 1979 г.
Работа А. Бенидзе и Т. Чибалашвили, впрочем, нашлась не в стопках и даже не на полу. Сашка оставил её на стуле возле овального стола. Я встал с колен и сел на стул боком к столу, держа раскрытую брошюру в руке. Страницы дешёвого академического издания потемнели настолько, что блёклые буквы, напечатанные паршивой краской, местами едва читались.
Сашка, тем не менее, всё разобрал. Чуть ли не половина текста была подчёркнута карандашом, жирным и свежим. На полях порхали размашистые галочки. Последние сомнения в авторстве этого надругательства над библиотечным раритетом развеивал возглас «день 03! дословно!» на тридцать первой странице. Сашкин муравьиный почерк не спутаешь ни с чем.
«В ходе второй беседы, состоявшейся на следующий день, – начал я читать длинный абзац, сплошь отчёркнутый аж двумя линиями, – пациентка Б. М. без каких-либо затруднений узнала обоих исследователей и правильно отвечала на вопросы о содержании предыдущей беседы. Однако, как и пациент Р. Д. в аналогичной ситуации, она отрицала, что ранее лично встречалась с исследователями или присутствовала при разговоре, содержание которого прекрасно помнила. На вопрос о том, откуда ей известны имена исследователей и подробности беседы с ними, Б. М. без колебания ответила: «…», – следовал оригинал на грузинском, затем перевод в скобках: – («Я просто знаю. Откуда люди знают то, что знают? Знают, и всё. Что здесь странного? Вот вы откуда знаете, что зимой идёт снег?») Один из исследователей ответил, что знает о снеге из личного опыта, и спросил Б. М., видела ли она снег своими глазами. Б. М. ответила отрицательно. На вопрос о том, где она находилась прошлой зимой (беседа проходила 13 июля), Б. М. ответила: «…» («Я никогда не жила зимой». ) Как и во время первой беседы, Б. М. правильно назвала дату своего рождения, но на вопросы о вехах своей биографии отвечала лишь в том случае, если они формулировались в третьем лице. Так, Б. М. без труда сообщила, когда «Б. М. вышла замуж», сколько «у Б. М. детей» и почему «Б. М. переехала в Кутаиси в 1972 г.», но при этом утверждала, что сама никогда не была замужем, не имела детей и «всегда» проживала в Кутаиси. Как и в первой беседе, Б. М. также утверждала, что лично не знакома с «Б. М.», о которой так много знает, а вопрос, не является ли она Б. М., сочла…»
Я перевернул страницу.
«…нелепым. Однако в отличие от поведения пациента Р. Д. и от её собственного поведения при первой беседе, реакция пациентки на просьбу рассказать о своей жизни была крайне драматичной. После молчания, длившегося двадцать восемь секунд, Б. М., сидевшая на стуле, резко поднялась и…»
В правом углу моего поля зрения что-то вспыхнуло. Я дёрнулся и повернул голову. Сообразил, что не глядя положил руку на клавиатуру. Ненароком разбудил ноутбук.
С экрана глядела молодая женщина – вряд ли сильно старше тридцати. Она была снята крупным планом: одна голова и плечи на фоне пляжа. Солнце светило ей в лицо, она жмурилась и смеялась, обнажая хорошие зубы. Точнее, красивые зубы. Красивыми, а не просто хорошими, их делал мелкий изъян: один центральный резец слегка наползал на другой.
Мне бы очень хотелось вставить сюда этот снимок. Вставить и ничего больше не объяснять. К сожалению, я не имею на это права.
А словами что я могу сказать? Кроме красивых зубов, у женщины на снимке были рыжевато-русые волосы. В моей рядовой человеческой голове, захламленной стереотипами, такие волосы вкупе с Прибалтикой требовали узких скул и острого носа. Но женщину на снимке не заботили мои стереотипы. У неё были совсем другие черты лица. Ещё у неё были веснушки – на лице редкие, на плечах и ключицах погуще. Из одежды фотография показывала только серые бретельки.
Я нажал Esc, чтобы выйти из полноэкранного режима. Фотография съёжилась. В верхнем углу появилось название файла: «день 03». Для верности я перелистнул обратно страницу в грузинской брошюре. Заметка на полях по-прежнему кричала: «день 03! дословно!»
Несколько секунд я прикидывал, простит ли меня Сашка, если я сейчас ткну пальцем в стрелку и посмотрю другие фотографии. В конце концов решил, что, снявши голову, по волосам не плачут. Я уже полчаса копался в Сашкиных вещах. Уже увидел «день 03». Что изменится, если я увижу «день 04»?
Короче говоря, я пересмотрел все фотографии в папке «кира». Несколько раз. «Дня 04» там, правда, не оказалось. Был «день 05», «день 09», «день 12», «день 13» и «день 16». На все дни, кроме одинокого третьего, приходилось по пять-семь снимков: «день 05.1», «день 05.2» и так далее.
Под конец просмотра я понял, что ошибался. От нумерованных дней с таинственной Кирой что-то изменилось.
Не в том смысле, что я скоропостижно влюбился вслед за Сашкой. Нам с ним, к счастью, всегда нравились разные девочки-девушки, и Кира не стала исключением. У неё была прекрасная улыбка, мощное je ne sais quoi и, судя по дням 05—16, хороший вкус в одежде, но за бутылкой вальполичеллы на кухню меня погнало не это.
Впрочем, я и сам не уверен, что именно меня туда погнало. Помню диковатую смесь стыда и азарта.
С азартом всё понятно – после книг на половицах, после наблюдений в г. Кутаиси, после Киры на фотографиях у меня сводило зубы от любопытства. Разобраться хотелось во всём и немедленно.
А стыдно было за свою зависть. Помните, как я завидовал Сашке, когда увидел дом на улице Викторияс? Вот за это было стыдно. Потому что от нумерованных дней и книжных стопок, расставленных в маниакальном порядке, веяло чем угодно, кроме радости и счастья.