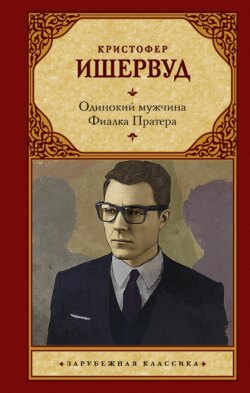Читать книгу Одинокий мужчина. Фиалка Пратера - Кристофер Ишервуд - Страница 2
Одинокий мужчина
ОглавлениеПосвящается Гору Видалу[1]
Пробуждение означает быть здесь и сейчас. Некоторое время рассматриваешь потолок, потом опускаешь глаза и опознаешь в распростертом теле самого себя, следовательно, я есть, сейчас есть. То, что сейчас я здесь, вопреки всему, не так уж и плохо, ведь именно здесь мне и надлежит находиться утром: в месте, именуемом домом.
Но сейчас значит больше, чем сей час, день, год. Это леденящее напоминание: позади еще один день, еще один год. И каждый день отмечен новой датой, отодвигающей предыдущие в прошлое, – пока, рано или поздно, может… нет, неизбежно, ОНА придет.
Щекочущий нервы страх. Болезненное отрицание того, что впереди – неизбежность смерти.
Тем не менее головной мозг педантично приступает к своим обязанностям – ноги выпрямить, поясницу согнуть, пальцы сжать и расслабить. Наконец нервная система посылает первый приказ телу: ВСТАТЬ.
Тело покорно отделяется от кровати, морщась из-за артрита в пальцах и левом колене, ощущает легкую тошноту в желудке – наконец, голышом ковыляет в ванну, где опорожняет мочевой пузырь и взвешивается: все те же шестьдесят восемь килограммов вопреки изнурительной гимнастике. Теперь к зеркалу.
В нем отражается не лицо, а воплощение предопределенности. Развалина, в которую он превратил себя за эти пятьдесят восемь лет. Унылый беспокойный взгляд, огрубевший нос, уголки рта опущены под воздействием собственной желчности, обвисшие мышцы щек, увядающая шея в сетке мелких морщин. Загнанный взгляд измученного пловца или бегуна, которому не дано остановиться. Человек будет рвать жилы до самого конца. Не потому, что герой. По-другому он просто не мыслит.
Глядя в зеркало, он видит множество лиц: ребенка, подростка, молодого человека и уже не очень молодого, старика – множество лиц, хранимых подобно ископаемым на полках и, как и они, давно умерших. К нему, еще живущему, адресован их вопрос: посмотри на нас, посмотри – мы умерли, так чего же ты боишься?
Его ответ: раньше это протекало так постепенно, незаметно. Страшно, когда подталкивают.
Человек все смотрит и смотрит. Губы приоткрываются, он дышит через рот. Наконец мозг нетерпеливо приказывает мыться, бриться, причесываться. И прикрыть наготу. То есть одеться перед выходом наружу, к другим людям; и одеться соответственно, чтобы его внешность и поведение должным образом были ими опознаны.
Он покорно моется, бреется, причесывается, смиряясь с ответственностью перед другими. Он даже благодарен за предоставленное ему место в их рядах. Он знает, чего от него ждут.
Знает свое имя. Его зовут Джордж.
Одетый, он постепенно превращается в него, то есть в Джорджа, – хотя это еще не совсем тот Джордж, которого люди ждут и готовы признать. Позвонившие ему в этот ранний час были бы поражены, даже напуганы, если бы вместо предполагаемой персоны услышали голос такого далекого от готовности полуфабриката. Однако это, конечно, невозможно – имитация голоса знакомого им Джорджа почти идеальна. Даже Шарлотту удается обмануть. Хотя пару раз она уловила странные нотки и спросила: «Джо, у тебя все в порядке?»
Он пересекает переднюю комнату, которую называет кабинетом, и спускается вниз. Лестница делает поворот, она узкая и крутая. Ты задеваешь перила локтями, приходится опускать голову – даже Джорджу, при росте в пять футов восемь дюймов[2]. Дом небольшой и компактный. В нем Джордж чувствует себя защищенным; тут нет места одиночеству.
И все же…
Представьте себе пару, живущую день за днем, год за годом в этом тесном пространстве: плечом к плечу стряпая что-то на общей крошечной плите, протискиваясь друг мимо друга на узкой лестнице, бреясь рядышком перед маленьким зеркалом в ванной. В постоянной толкотне, соприкосновении двух тел, то нечаянном, то намеренном – чувственном, агрессивном, неловком, нетерпеливом, яростном или любовном, – так представьте, насколько глубокие, пусть и невидимые следы они оставляют повсюду! Дверь в кухню слишком узка. Двое в спешке, с тарелками в руках обречены сталкиваться тут. И потому каждое утро здесь, в конце лестницы, Джордж испытывает шок, будто это пропасть, где внезапно обрывается его путь. Здесь он останавливается, словно узнавая впервые и все с той же болью: Джим умер. Он умер.
Он стоит тихо, иногда молча, иногда с коротким животным стоном, пока спазм не отпустит. Потом уходит в кухню. Эти утренние приступы слишком болезненны, в них нет ничего сентиментального. Постепенно ему становится легче. Примерно как после сильных судорог.
Сегодня муравьев еще больше: ручейками они текут по полу, взбираются по раковине, угрожающе стремятся к шкафчику, где он хранит джем и мед. Упрямо поливая их ФЛИ-спреем, он вдруг видит себя со стороны: злобный упрямый старик, считающий, что вправе убивать этих замечательных полезных насекомых. Живой, убивающий живое под наблюдением сковород и кастрюль, ножей и вилок, банок и бутылок – предметов, безучастных к ее величеству эволюции. Почему? Ну почему? Может, это происки некоего Космического врага, Всемирного тирана, который затмевает наш взор с целью остаться неопознанным, и потому настраивает нас против наших естественных друзей, жертв его тирании? Но, прежде чем Джордж додумался до этого, муравьи уже убиты, собраны мокрой тряпкой и с потоком воды отправлены в слив раковины.
Он готовит себе яйцо пашот с беконом, тосты и кофе, потом садится завтракать за кухонный стол. А в голове в это время крутится без остановки детская песенка, которую еще в Англии, будучи ребенком, он слышал от няни:
Яйцо пашот на хлеб кладешь…
(Он видит ее так же ясно, с седыми волосами и блестящими мышиными глазками; маленькое пухлое тельце вносит в детскую завтрак на подносе, с трудом переводя дух после крутого подъема. Она всегда проклинала эти лестницы, называя их за крутизну деревянными горками – одна из магических фраз родом из детства.)
Яйцо пашот на хлеб кладешь,
Кусочек съешь – еще возьмешь!
Ах, этот трогательно непрочный, обволакивающий уют детских радостей! Здесь Маленький Хозяин уплетает свой завтрак, а улыбчивая Няня вселяет в него уверенность в том, что все прекрасно в их крошечном хрупком мирке!
Завтрак с Джимом зачастую был лучшим временем наступившего дня. Самые душевные разговоры случались у них именно за второй-третьей чашкой кофе. Обсуждалось все, что только приходило в голову – включая, конечно, смерть; есть ли что-нибудь после нее, и если есть, то что именно. Обсуждали даже преимущества и недостатки внезапной гибели – в сравнении с осознанием близости кончины. Но сейчас Джордж, хоть убей, не мог вспомнить, что именно об этом думал Джим. Подобные разговоры не ведутся всерьез. Они кажутся слишком теоретическими.
Допустим, мертвые навещают живых, и Джим мог бы взглянуть, как живется Джорджу. Был бы он доволен увиденным? Стоило бы оно того вообще? В лучшем случае ему, подобно любопытному туристу, было бы позволено сквозь магический кристалл бросить взгляд из бескрайнего вольного мира на тесную конуру, где узник из мира смертных уныло пережевывает свой завтрак.
В гостиной темно и тесно – низкий потолок, книжные полки вдоль стены напротив окна. Чтение не сделало Джорджа благороднее, лучше или существенно мудрее. Но он привык вслушиваться в голоса книг, выбирая ту или иную в соответствии с сиюминутным настроением. Он использует их весьма беспардонно – вопреки почтительности, с которой ему приходится говорить о литературе публично, – как хорошее снотворное, как лекарство от медлительности стрелок часов, от ноющих болей в области желудка, как средство от меланхолии, стимулирующее вдобавок ко всему работу кишечника.
Выбирает одну из книг он и сейчас, с поучениями Рёскина:
«…Школьниками вы любили палить из духовых трубок, но ружья и “армстронги” – по сути, те же изделия, лишь более искусно выполненные. И, к прискорбию, подобно тому, как в детстве это было игрой для вас, но не для воробьев, так и сейчас это развлечение для вас, но не для малых птиц графства; что же до черных орлов, вы вряд ли стреляете в них, хотя я могу ошибаться».
Несносный усатый старикан Рёскин, неизменно самоуверенный, раздражительный, ворчливый, ругающий англичан, – сегодня это отличный спутник для пятиминутных посиделок в туалете. Ощутимая активность кишечника подгоняет Джорджа вверх по лестнице, в ванную, с книгой в руке.
Сидя на толчке, он может смотреть в окно. (С другой стороны улицы видны его голова и плечи, но не то, чем он занят.) Серое прохладное утро калифорнийской зимы; низкое небо перенасыщено влагой тихоокеанского тумана. Внизу, с берега, небо и океан составляют одинаково блеклое целое. Невозмутимые пальмы и пушистые олеандры стряхивают с листьев влагу.
Это улица Камфор-Три-лейн. Может, камфорные деревья здесь когда-то и росли, но сейчас нет ни одного. Но, вероятнее всего, название выбрано ради красного словца основавшими здесь колонию в начале двадцатых годов первыми поселенцами, сбежавшими от духоты делового центра Лос-Анджелеса или от снобизма Пасадены. Они называли причудливыми именами свои оштукатуренные бунгало и обшитые доской хижины – например, коттедж «Куб’рик», коттедж «До Вольно». Улицы здесь называли аллеей, дорогой, тропой, словно их прокладывали через дремучие леса. В мечтах ее обитателей местность обретала черты субтропической английской деревни с богемными замашками: этакие Уютные Гнездышки, где можно в меру рисовать, в меру писать и без меры пить.
Здесь можно воображать себя последними эскапистами и индивидуалистами двадцатого века, день и ночь вознося хвалу провидению за побег от гибельного городского духа коммерции. Местные любили небрежность и богемность, были неутомимо любопытны к чужим делишкам, но бесконечно снисходительны. Разногласия решали с помощью кулаков, бутылок или подручной мебели, но не адвокатов. К счастью, большинство из них не дожили до эпохи Больших Перемен.
Перемены начались в конце сороковых, когда с востока сюда устремились толпы ветеранов Второй мировой с новыми женами в поисках лучших мест для выведения потомства на солнечном юге – прелести которого они успели оценить краем глаза, отчаливая в опасные дали Тихого океана. А что может быть лучше для растущего семейства, чем склоны холмов в пяти минутах от пляжей, причем без сквозных дорог – этой угрозы жизни будущих несмышленышей? Вот таким образом привыкшие к джину и поэзии Харта Крейна коттеджи постепенно заполнились любителями телевизора и кока-колы.
Поколение ветеранов войны, несомненно, приспособилось бы к богемным ценностям местных жителей; некоторые даже пристрастились бы к перу и рисованию между запоями. Но жены четко и оперативно объяснили им, что семейная жизнь с богемной несовместима. Семье и детям нужны надежность, ипотека, кредит, страховка. И нечего даже думать о смерти, не обеспечив как следует свое семейство.
И потомство не заставило себя долго ждать: появлялось один за другим, мал мала меньше. Прежнюю тесную школу окружили новые корпуса. Скромный рынок на набережной превратился в супермаркет, а на Камфор-Три-лейн появились два дорожных знака. Один запрещал поедать кресс-салат, растущий вдоль берега залива, – из-за некачественной воды в этой местности. (Пионеры-колонисты всю жизнь его ели; Джордж и Джим пробовали – вкусно, и ничего не случилось.) Второй знак – зловещие черные силуэты на желтом поле – гласил: ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!
Конечно, Джордж и Джим заметили этот желтый знак, когда впервые появились здесь в поисках жилья. Но проигнорировали его, влюбившись с первого взгляда в дом на поляне среди зарослей, спускавшихся с холма по крутому склону. Подойти к нему можно было только по мостику через пролив. «Словно на собственный остров», – сказал Джордж. Утопая по щиколотку, они бродили по опавшим листьям сикомора (будущая хроническая забота), радуясь всему вокруг. Заглянув в сырую темноту гостиной, оба решили, что вечерами, при свете и тепле камина, здесь станет уютней. Гараж был укрыт громадной шапкой ивовой поросли, живые и сухие ветви вперемешку; правда, построенный в эпоху модели «Форда-Т», внутри он оказался слишком мал. Джим решил, что он сгодится для содержания каких-нибудь животных. Ведь их машины слишком велики, да и оставлять их можно на мосту. Который, правда, уже немного просел. «Да ладно, на наш век хватит», – заключил Джим.
Соседские детки, конечно, тоже оценили те качества дома, которые впечатлили Джорджа с Джимом. Эдакая укрытая ветвями тайная берлога зловещего монстра – прямо со страниц старинной книги. Именно эту роль Джордж играет с тех пор, как живет здесь один. Сейчас проявилась тщательно скрываемая от Джима темная сторона его натуры. Что бы тот сказал, если бы увидел, как Джордж, сердито крича и размахивая руками, пытается прогнать Бенни, сынка миссис Странк, и Джо, отпрыска миссис Гарфин, бегающих наперегонки взад-вперед по мосту? (А Джим с ними прекрасно ладил: позволял возиться со скунсами и енотом, разговаривать с майной; однако без разрешения они никогда не пересекали мост.)
Хозяйка дома напротив, миссис Странк, исполняя свой долг, время от времени внушает своим чадам, что профессор очень много работает, поэтому им лучше оставить его в покое. Но даже эта милая, измотанная рутиной домашних хлопот женщина, втайне сожалеющая о прерванной ради рождения мистеру Странку пяти сыновей и двух дочек карьере певицы на радио, не упустила возможности передать Джорджу с улыбкой материнской снисходительности, что ее младший сынок Бенни отозвался о нем, как об «этом типе», гнавшемся за ним по мосту аж до самой улицы, – а шалуну всего-навсего приспичило расколотить молотком дверь его дома.
Джордж был в ужасе от своей реакции, потому что это совсем не игра. Он в самом деле вышел из себя, и позже ему до тошноты было стыдно. Вместе с тем он уверен, что именно такого поведения дети и ждут. Если он прекратит изображать монстра, им придется придумать что-то еще. Вопрос – он это в шутку или всерьез – их не занимает. Джордж вообще их интересует исключительно как персонаж для игр. Так что эти вспышки гнева волнуют только его. Именно поэтому ему было так неловко за попытку подкупить эту банду леденцами – вместо благодарности мальчишки встретили его недоуменными взглядами; может быть, им впервые в жизни выпал повод презирать взрослого.
Тем временем Рёскин совсем разошелся. «Вкус есть единственная мораль!» – вопиет он, тыча в Джорджа пальцем. Это начинает утомлять, и Джордж закрывает книгу, обрывая Рёскина на полуслове. Все еще сидя на толчке, Джордж выглядывает в окно.
Тихое утро. Почти все дети в школе; до рождественских каникул еще две недели. (Мысль о Рождестве наполняет его отчаянием. Может, рвануть на неделю в Мехико и что-нибудь выкинуть, напиваясь вдрызг в каждом баре? «Никогда и никуда ты не рванешь», – с холодной тоской обрывает его внутренний голос.)
А вот и Бенни с молотком в руке. Рыщет по заполненным хламом мусорным бакам, выставленным вдоль тротуара. Извлекает сломанные напольные весы и, пока Джордж наблюдает, с азартными воплями колотит по ним молотком, воображая себе, что это кричит и корчится от боли его добыча. И при всем при этом гордая своим потомством мамаша Странк, с отвращением передернув плечами, осмелилась спрашивать у Джима, как ему не противно прикасаться к безвредным ужатам!
Появившаяся на крыльце миссис Странк застает Бенни за изучением истерзанных внутренностей бывших весов.
– Положи их обратно, – нараспев выговаривает она. – Брось в бак! Сейчас же! Бросай! В бак!
Она никогда не кричит на детей. Она перечитала все книжки по психологии и знает, что сейчас Бенни, как и должно быть, переживает Фазу Агрессивности; и это нормально, это ему на пользу. Она знает, что ее слышит вся улица, и это тоже нормально, потому что сейчас Материнский Час. Поэтому, когда Бенни соизволяет наконец зашвырнуть обломки весов обратно в бак, она произносит с нежным напевом:
– У-у-мница! – и удаляется в дом.
А Бенни присоединяется к троим малышам, двум мальчикам и девочке, азартно копающим ямку на границе владений Странков и Гарфинов. (Фасады их домов выходят прямо на улицу, в отличие от задвинутой в угол берлоги Джорджа.)
Копание ямы под огромным эвкалиптом Бенни берет под свой контроль, скинув ветровку на руки сестре. Поплевав на ладони, он берется за лопату. Он мнит себя искателем сокровищ – наверняка нечто похожее видел недавно по телевизору. Малышня всегда подражает увиденному, а едва научится говорить, и услышанному. Первым делом рекламным слоганам, чему же еще?
Один из младших, возможно, пресытившись активностью старшего в той же степени, в какой скаут-лидерство мистера Странка достает самого Бенни, решает пострелять из карбонового ружья. Джордж как-то пытался втолковать миссис Странк, что эта пальба сведет его с ума, но мать не желает мешать естественным шалостям. Фальшиво улыбаясь, она заявляет: «Я не замечаю шума, пока деткам хорошо».
Материнский Час заканчивается, когда старшие дети возвращаются из школы. Едва они оказываются дома, смешанная до того компания моментально распадается. Будущим мужчинам не терпится поиграть в мяч. С громкими резкими выкриками они гоняют, отбивают, передают друг другу мяч с самоуверенной грацией. Когда мяч залетает во двор, они без малейшего смущения топчут клумбы и декоративные горки. Рискнувшей проехать по улице машине положено застыть на месте, пока игроки не освободят путь; дети знают свои права. Благоразумные матери держат малышей подальше от беды. А девчонки на крыльце, хихикая, не сводят с парней глаз. Чтобы привлечь их внимание, они придумывают всякие глупости. Например, сестры Коди обмахивают веером своего древнего пуделя, словно Клеопатру, плывущую в лодке по Нилу. Но даже хорошие приятели их не замечают – не тот час. Так что пуделю завязывает бантики один лишь изнеженный сынок здешнего врача.
Наконец возвращаются с работы мужчины. Игры в мяч прекращаются. Потому что нервы мистера Странка на пределе после многочасовых переговоров с богатой безмозглой вдовой, которой он пытается впарить недвижимость; нраву мистера Гарфина труд в компании по обустройству бассейнов тоже не на пользу. Ни один из отцов не потерпит шума в это время. (Настанет воскресный день, и папа Странк с серьезным и ответственным видом поиграет в мяч с сыновьями; не удовольствия ради, а исключительно для здоровья.)
А по выходным устраивают вечеринки. Подросткам велят развлекаться подальше от дома, даже если уроки не сделаны, – взрослым решительно необходимо расслабиться в своей среде. И пока миссис Странк и миссис Гарфин режут салаты на кухне, а мистер Странк возится во дворике с барбекю, мистер Гарфин тащит бутылки и шейкер, жизнерадостно объявляя тоном заправского моряка: «Мартини прибывает!»
Часа три спустя – после обильных возлияний, отдав должное всем поразительно непристойным шуточкам, облапав, явно или не очень, задницы чужих жен, откушав мясное и сладкое, – пока девочки (как здешние хозяйки до ста лет будут звать друг дружку) заняты мытьем посуды, их мужья, расположившись на крыльце с бокалами в руках, уже свободнее могут болтать и смеяться, забыв о делах и заботах. Они наконец-то счастливы и довольны жизнью. Ведь это им принадлежит Царствие Божие и Великая американская утопия, право на жалкую копию которой оспаривают русские и которую ненавидят китайцы, мечтающие добиться такого же успеха посредством репрессий и голодовок. О да, мистер Странк и мистер Гарфин очень гордятся своей страной. Только почему они с каждой минутой, чем больше распаляясь, тем больше смахивают на потерявшихся в пещере ребят? Понимают ли они сами, чего боятся? Нет, не понимают, но боятся.
Чего они боятся?
Они боятся, что во тьме вокруг них есть что-то неведомое; боятся, что это что-то вдруг выхватит свет их лампы-вспышки, и тогда это невозможно будет не замечать. Злодеев, портящих им статистику, уродливых горгон, не желающих делать пластические операции, вампиров, сосущих кровь с безобразным чавканьем, дурно пахнущих субъектов, не признающих дезодоранты, а также тех извращенцев, которые не позволяют заткнуть себе рот.
«Наряду с другими чудовищами, – говорит Джордж, – их пугает даже такой экземпляр, как я».
Мистер Странк, полагает Джордж, не упустит случая лягнуть его. «Извращенец!» – наверняка рявкнет он. Но так как на дворе все-таки 1962 год, даже он следом прибавит, что ему-то наплевать, только пусть этот тип держится от него подальше. Даже психологи затрудняются с определением подобного поведения. Однако факты – вещь упрямая, и фотография мистера Странка в футбольной форме времен его студенческой юности выдает его принадлежность к тем, кого называют настоящей куколкой.
Но Джордж полагает, что миссис Странк придерживается куда более терпимых взглядов, чем ее муж, усвоив тактику «укрощения снисходительностью». Раз существуют книги по психологии, изгнание бесов уже устарело. Она исправляет Джорджа теми же материнскими напевными интонациями. Нет причин для презрения и проклятий! Потому что в этом нет умысла. Это результат дурной наследственности, порочного с детства окружения (позор властным британским мамашам и системе раздельного обучения!), подавления инстинктов в период созревания – и/или желез внутренней секреции. Бедняги навсегда лишены естественных радостей жизни, так что достойны жалости, а не осуждения. В некоторых случаях, на ранней стадии, это еще исправимо. Иначе… что ж, тем более прискорбно, потому что такое часто встречается среди весьма достойных людей, способных приносить большую пользу. (Ведь, если даже они гении, их шедевры все равно несут печать порока.) Так будем снисходительны, хорошо? К тому же не забывайте, что извращения были и у древних греков (правда, скорее по причине языческих нравов, а не особенностей психики). Хотя отдельные однополые союзы можно признать прекрасными, особенно когда один из партнеров – а лучше оба – уже на том свете.
С каким удовольствием в таком случае миссис Странк скорбела бы о Джиме! Но нет, она не знает; никто из них не знает. Это случилось в Огайо, а местные газеты о происшествии не писали. Джордж же представил дело так, будто пожилые родители Джима давно уговаривали его вернуться домой и жить с ними, в чем и преуспели в последний его визит, так что он навсегда останется на родине. И это святая правда. Что касается его зверинца, Джорджу даже мысль иметь поблизости создания, напоминающие о Джиме, была невыносима, так что он тотчас сплавил их торговцу из Сан-Диего. Поэтому, когда миссис Гарфин пожелала купить у него майну, он ответил, что всю компанию давно уже переправил к Джиму.
Теперь на вопросы миссис Странк и остальных Джордж отвечает: действительно, недавно он получил весточку от Джима, с ним все в порядке. Но вопросы задают все реже и реже. Любопытство хорошо уживается с безразличием.
Но, знаете, миссис Странк, ваша книжка ошибается в том, что для меня Джим стал лишь подменой сыну, младшему брату, мужу, жене. Джим никоим образом не был для меня заменой. И Джиму нигде не найти замены, уж простите меня за эти слова.
«Ваше изгнание бесов бесполезно, дорогая миссис Странк», – говорит Джордж, скорчившись на унитазе при виде соседки, вытряхивающей в бак мешок от пылесоса. Порок, о котором не говорят, по-прежнему здесь, под вашим носом.
Проклятье! Телефон.
Даже самый длинный шнур, которым вас снабдит телефонная служба, не дотянется до ванной. Джордж поднимается с сиденья и, как участник бега в мешках, шлепает в спущенных штанах в кабинет.
– Привет.
– Привет… Это… это ты, Джо?
– Привет, Чарли.
– Скажи, я не слишком рано?
– Нет.
(Боже, он зол на нее с первых же слов! Но разве можно винить ее за плохо вытертый зад и запутавшиеся в штанинах ноги? Хотя надо признать, у Шарлотты талант звонить в самое неподходящее время.)
– Ты серьезно?
– Конечно, серьезно. Я уже позавтракал.
– Я боялась, что ты уйдешь в колледж… Боже, как поздно, наверное, тебе пора! Ты уже выходишь?
– Сегодня у меня только один урок. Начало в одиннадцать тридцать. Рано я выхожу по понедельникам и средам. (Он объясняет это подчеркнуто сдержанным тоном.)
– Ах да… да, конечно! Глупо, что я всегда забываю.
(Молчание. Джордж знает, ей от него что-то нужно, но на помощь не спешит. Эта глупая болтовня уже настроила его против. Зачем говорить, что ей следует знать его расписание? Еще одно проявление собственнического инстинкта. Но если ей и правда необходимо это знать, почему она всегда все путает?)
– Джо… – (очень робко), – ты свободен сегодня вечером?
– Боюсь, что нет. Нет.
(За секунду до этих слов он бы еще сомневался в своем ответе. Но отчаяние в голосе Чарли решает за него: он не вынесет целый вечер с дамой в таком состоянии.)
– А-а… понятно. Я боялась, что ты не сможешь. Надо было раньше спрашивать, я знаю.
(Она озадачена, но тихо, безнадежно. Он вслушивается, последуют ли рыдания. Но нет. Он морщится от чувства вины – а еще оттого, что неудобно стоять со спущенными штанами.)
– И ты не можешь… То есть… это что-то важное?
– Боюсь, что да.
(Вины он уже не чувствует, только злость. Он не позволит собой командовать.)
– Понимаю… Ладно, не важно. (Уже смелее.) Можно позвонить позже, через несколько дней?
– Конечно. (Теперь, поставив ее на место, можно быть добрее.) Или я позвоню тебе.
(Пауза.)
– Ну, до свидания, Джо.
– До свидания, Чарли.
Двадцать минут спустя миссис Странк, поливая с крыльца китайские розы, наблюдает, как он задним ходом выезжает по мосту. (Тот уже прилично осел, и она надеется, что сосед его починит – ведь могут пострадать дети.) Когда Джордж выруливает на улицу, она машет ему рукой. Он машет ей в ответ.
Бедняга, думает она, живет здесь совсем один. У него доброе лицо.
Какое счастье, что теперь в Лос-Анджелесе благодаря системе автострад от побережья до колледжа Сан-Томас можно добраться меньше чем за час – ведь в прежние времена, переползая от светофора до светофора через весь город к пригородам, на дорогу тратили два часа.
Джордж, можно сказать, патриот автострад. Он горд тем, что едет так быстро, что люди здесь иногда теряются и в панике съезжают куда попало на ближайшей развязке. Джордж любит автострады, потому что отлично с ними справляется, а значит, он не безнадежен как член общества, он не отвергнут.
(Как все одержимые страхом перед криминалом, Джордж крайне внимателен к местным правилам, законам и постановлениям. Знаете, сколько опасных элементов попались исключительно на том, что не оплатили парковку? Всякий раз, забирая после проверки у стойки паспорт или водительские права, он думает: «Опять обставил этих идиотов!»)
Этим утром он снова обставит этих идиотов в городской гонке на современных колесницах – Бен Гур давно бы скис, – маневрируя между полосами наравне с лучшими местными автогонщиками, на скорости не менее восьмидесяти миль в левом ряду; уделяя ноль внимания повисшим на хвосте юнцам и подрезающим у самого капота дамочкам (этих вообще зря выпускают из дома). Обвести копов на мотоциклах легко: он не даст им шанса посигналить ему красными огонечками, веля съехать на обочину, откуда его нежной, но твердой рукой можно спровадить в чудесный дом Пожилых Граждан (слово престарелый в этой стране сверхщепетильности стало столь же неприличным, почти бранным, как жид или негр), где он радостно вернется к невинным детским играм, ныне именуемыми пассивным восстановлением. Там можно даже трахаться, если кто способен; а кто нет, может вдоволь потискаться. И пусть женятся и в восемьдесят, и в девяносто, и в сто – кому от этого плохо? Факт, что удаление таких водителей с дорог пойдет на пользу скоростному движению.
Есть один неприятный момент при въезде на автостраду, там, где подъемный пандус сливается со скоростной полосой. Здесь всегда пробегает холодок по спине, даже зеркало заднего вида не спасает: ощущение, словно некто невидимый сейчас врежется в тебя сзади. Но нет, в следующий миг дорога под контролем, он летит по полосе и, оставляя позади долину, начинает долгий подъем наверх.
Вскоре за рулем привычно срабатывает автогипноз. Мышцы лица разглаживаются, плечи распрямляются, тело вдавливается в кресло. Левая нога ровным движением выжимает сцепление, правая в меру добавляет газ. Левая рука на руле, правая переключает повышенную передачу. Глаза неторопливо контролируют зеркала, следят за дорогой, хладнокровно фиксируя дистанцию до ближайших машин впереди, сзади… Это не гонки безумных колесниц – так только кажется со стороны зрителям и ошалелым новичкам, – на самом деле это река, умиротворенно несущая свой мощный поток к цели. И никакого страха – напротив, в ее владениях обретаешь покой и неторопливость.
Но скоро в состоянии Джорджа наблюдаются некоторые перемены. Лицо опять напряжено, челюсти сжаты, губы кривит недовольная гримаса, злая складка пролегла между бровями. Но тело остается расслабленным. Оно начинает действовать как независимое, отдельное существо – воплощение анонимного безголового шофера, идеал бессловесного и бесстрастного мышечного аппарата по транспортировке хозяина к месту службы.
Теперь Джордж, перепоручив машину компетентному слуге, вправе переключить внимание на другие сферы. Перемахнув через хребет автострады, он почти перестает следить за окружением, за другими машинами и предстоящим спуском к густонаселенной долине, тонущей внизу под горой в рыжеватом смоге. Он глубоко ушел в себя.
Что его беспокоит?
У самого пляжа вырастают балки, фермы и перекрытия огромного нелепого здания на сотню квартир, которое неизбежно закроет вид на побережье посетителям парка, расположенного на скалах. Представитель фирмы на претензии недовольных отвечает: увы, таков прогресс. Иными словами, если арендаторы наших квартир готовы платить по 450 долларов в месяц за этот вид, почему посетители парка (включая Джорджа) должны глазеть на него даром?
Редактор местной газеты начинает кампанию против сексуальных извращенцев (то есть людей, подобных Джорджу). Они повсюду, обличает он. Уже невозможно зайти в бар, туалет, библиотеку, не наткнувшись на отвратительные вещи. И у всех у них сифилис. Существующий закон, заявляет он, слишком снисходителен.
Один сенатор недавно выступил с призывом немедленно атаковать Кубу всеми доступными средствами, в противном случае доктрина Монро ничего не значит. Сенатор не отрицает, что, вероятно, это означает ядерные ракетные удары. Но необходимо признать, что альтернативой станет бесчестье. Мы должны быть готовы к потере трех четвертей нашего населения (включая Джорджа).
Было бы здорово, думает Джордж, проникнув тайком в здание накануне заселения, сбрызнуть стены комнат особым спреем: поначалу незаметным, но с течением времени испускающим нестерпимое трупное зловоние. Они истратят на борьбу с вонью тонны дезодорантов, но тщетно. Тогда они сорвут обои, панели и обшивку лишь для того, чтобы убедиться, что воняет все, включая балки, арматуру и так далее. Они уйдут из этого дома, как ушли кхмеры из Анкора; но зловоние, усиливаясь, распространится до пляжей Малибу. И в один прекрасный день сюда придут рабочие в масках, разберут здание на части, затем все это перемелют в порошок и утопят где-то далеко в океане… Хотя рациональней было бы открыть особый вирус, способный разъедать металл. Его преимущество перед спреем в том, что после единственной инъекции вирус самостоятельно поразит весь металл. Так что, когда жильцы заселят дом и отметят событие хорошей пьянкой, вся конструкция осядет и превратится в бесформенную кучу, похожую на спагетти.
Потом, думает Джордж, того редактора, вместе с авторами статей о секс-извращенцах, а может, и шефа полиции заодно с начальством полиции нравов, а также священников, поддержавших проповедями кампанию травли, хорошо бы выкрасть, чтобы затем в тайной подземной студии показать им такие убедительные вещи, как раскаленная кочерга или щипцы. После они, конечно, будут готовы секс-извращаться перед камерами всеми возможными способами: парами, группами, как угодно – и даже продемонстрировать удовольствие. Фильм смонтируют, размножат и доставят в кинотеатры. Сторонники Джорджа усыпят хлороформом контроллеров на входе, чтобы никто не включил в зале свет, перекроют выходы и, сменив киномехаников, покажут фильм под названием «Это надо видеть!».
А было бы смешно, если сенатор…
Нет.
(Тут брови сходятся с особой неприязнью, губы сжимаются в тонкую, как нож, линию.)
Нет, смешно – не то слово. Эти ребята не шутят. И с ними шутить бесполезно. Они понимают только язык грубой силы.
Без кампании систематического террора не обойтись. А для ее успеха – не менее пятисот преданных делу, хорошо обученных фанатичных убийц и палачей. Глава организации составляет лист конкретных поручений: таких, к примеру, как упомянутый выше демонтаж того здания, дискредитация той газеты, устранение того сенатора. Работа будет вестись строго по порядку, вне зависимости от затрат времени или количества жертв. Но сначала каждый виновник получит сообщение, подписанное Дядей Джорджем, разъясняющее, что именно и до какого срока он должен сделать, чтобы сохранить себе жизнь. Виновному объяснят, что приговор вынесен Дядей Джорджем на основании его принадлежности к совершившей преступление организации.
Минуту спустя по истечении установленного срока начнется уничтожение. Казнь виновника откладывается на несколько недель или месяцев, предоставляя ему время на размышление. Но он будет ежедневно получать напоминания. Жена его может быть похищена, задушена и набальзамированной посажена в гостиной ждать возвращения мужа с работы. Ему могут приходить посылки с головами его детей, кассеты с записями воплей его замученных до смерти родных. Посреди ночи могут взлетать на воздух дома его друзей. Все его знакомые будут в смертельной опасности.
Когда организация несколько раз подряд продемонстрирует стопроцентную эффективность, население более не усомнится в том, что Дяде Джорджу надлежит повиноваться беспрекословно.
Однако покорности ли хочет Дядя Джордж? Может, неповиновение устраивает его больше, как удобный повод убивать тех, кто, по его мнению, не более чем паразиты и подонки, а чем их меньше, тем лучше? Все они, если подумать, повинны в смерти Джима – словесно, мысленно, образом жизни они приблизили его смерть, не подозревая о его существовании. Впрочем, на данном этапе размышлений сам Джим уже мало что значит. Он лишь повод ненавидеть три четверти населения Америки… Погружаясь в свою ненависть, Джордж яростно сжимает челюсти и скрипит зубами.
Он и в самом деле ненавидит этих людей? Или они тоже лишь повод для ненависти? В таком случае, что такое его ненависть? Не более чем стимулятор, крайне вредный для него самого. Гнев, презрение, тоска – вот источники энергии в его возрасте. Если он в ярости в этот момент, значит, с большой вероятностью то же самое ощущает и половина участников движения, замедляющегося по мере уплотнения потока после спуска под мост, устремившегося вверх мимо станции «Юнион Депот»… Боже! Он почти на месте! В шоке он возвращается на грешную землю, оценивая достижение своего робота-шофера как рекорд: так долго в автоматическом режиме тот еще не функционировал. Однако следом возникает неприятный вопрос: а вдруг этот шофер становится отдельной личностью? Может, он готов оттяпать еще какие-нибудь функции его жизнедеятельности?
Но сейчас не до этого. Через десять минут он будет в кампусе. Через десять минут ему надлежит стать Джорджем, которого там знают по имени и в лицо. Так что пора переключаться на волну их мыслей и настроения. Как многоопытный ветеран, для исполнения предстоящей роли он мгновенно накладывает на свою личность ненужную маску.
Едва свернув с автострады на Сан-Томас-авеню, оказываешься в сонном затхлом Лос-Анджелесе тридцатых годов, с трудом отходящем от депрессии, без лишних денег на перекраску. Но как же он очарователен! Склоны невысоких холмов с ненадежно взгромоздившимися домиками под белой, в трещинах штукатуркой – беспомощные жертвы телефонных столбов, играющих в сплетенную из проводов «веревочку». Здесь живут мексиканцы, поэтому вокруг много цветов. Здесь живут негры, поэтому тут весело. Но Джордж не вынес бы гвалт их теле- и радиоприемников. Хотя на детей, будь он их соседом, он не стал бы кричать. Эти ребята ему не враги, а если они бы его признали, могли бы стать и союзниками. Они никогда не появлялись в фантазиях Дяди Джорджа.
Кампус колледжа Сан-Томас расположен по другую сторону автострады; пересекая ее по мосту, вы попадете в современный район бесконечной стройки-перестройки. Холмы либо сглажены, либо грубо срезаны бульдозерами, весь пейзаж усеян низкими плоскими крышами – это в ряд идут здания (упрямо именуемые домами новой формации), заселяемые тотчас после подключения света и канализации. Нечестно называть их одинаковыми: крыши могут быть коричневыми или зелеными, а кафель в ванных даже нескольких цветов. Шоссе тоже обрели нечто личное; имя например. Из тех, что так любят риелторы: Звездное Поместье, Прекрасный Вид, Гровенорские Высоты.
Центром этого перелопачивания, заколачивания и упорядочивания является сам кампус колледжа. Четкое современное строение из кирпича и с большими окнами, уже на три четверти готовое, оно достраивается с фантастической быстротой. (Шум от реконструкции в некоторых классах стоит такой, что не слышно профессоров.) Обновленный колледж рассчитан на двадцать тысяч выпускников в год. Но всего через десять лет их потребуется тысяч сорок или пятьдесят. Так что всё сломают и перестроят заново, сделав здание раза в два выше.
Но, пожалуй, к тому времени сам кампус будет безнадежно отрезан от мира парковкой, забитой скоплениями машин, навечно брошенных студентами – теми, кто потерял надежду выбраться из пробок. Уже сейчас паркинг лишь наполовину меньше самого кампуса и всегда полон, так что приходится кружить, пока не найдешь хоть какое-то место. Сегодня Джорджу повезло. Можно встать рядом со своей аудиторией. Проглотив парковочный билет (тем самым признавая, что владелец документа точно Джордж), механизм нервными рывками поднимает заграждение – можно въезжать.
В последние дни Джордж учится запоминать машины своих студентов. (Порой он устраивает тренировки для саморазвития: улучшение памяти, новая диета, обет осилить самую нечитаемую из «Ста лучших книг». Но редко выдерживает долго.) Сегодня здесь аж три авто, не считая скутера студента-итальянца, с провинциальной тупостью гоняющего на нем туда-сюда по автострадам, словно по родной Виа Венето. Вот стоит некогда белый побитый «Форд»-купе Тома Кугельмана с надписью: «Слоу Уайт». А это – принадлежащий гавайскому китайцу грязно-серый «Понтиак» с шуточной наклейкой на заднем стекле: «Единственный ‘изм’, который я признаю, – это абстрактный экспрессионизм». Что в данном случае не совсем шутка, поскольку он художник-абстракционист. (Или в том и есть тонкость?)
В любом случае смотрится нелепо, когда чистоплотное создание с чудесной улыбкой Чеширского кота и смугло-кремовой кожей малюет унылые чумазые картины или ездит на грязной машине. У него красивое имя – Александр Монг. Иное дело безупречно отполированный красный «Эм-Джи» альбиноса Бадди Соренсена, баскетбольной звезды с водянистыми глазами и значком «Нет Бомбе!». Однажды Джордж наблюдал сцену, как Бадди бежал нагишом[3] по автостраде и смеялся так, будто его нелепый маленький краник тоже увязался с ним – а ему все равно.
Итак, Джордж на месте; он спокоен. Выйдя из машины, он чувствует прилив сил и готов играть свою роль. Чеканя шаг по гравию дорожки, он следует мимо музыкального корпуса к кафедре. Сейчас перед нами готовящийся к выходу на сцену актер, который спешит из уборной мимо сваленного за кулисами реквизита вперемешку с разным хламом. Спокойный, уверенный в себе ветеран сцены, помедлив в дверях, в нужный момент смело и внятно, с ожидаемыми британскими интонациями произносит первую фразу:
– Доброе утро!
Три секретарши, каждая по-своему очаровательная актриса, без тени сомнения узнают вошедшего человека и желают ему «Доброго утра» в ответ. (Слегка смахивает на тест верности главной американской догме: утру надлежит быть добрым. Вопреки русским и ракетам, болезням и горестям. Но мы же знаем, что русские и горести не вполне реальны, правда? Если о них не думать, они исчезнут. Так что утро добрым сделать легко. Ну ладно, оно и есть доброе.)
У каждого преподавателя кафедры английского языка есть своя, вечно забитая бумагами ячейка на кафедре. Что за одержимость бумаготворчеством! Извещение о каждом маловажном собрании по любому пустяковому вопросу надлежит напечатать и размножить сотнями копий. Всех обо всем извещают. Джордж просматривает свою пачку бумаг и отправляет все скопом в мусорный бак, за исключением старательно продырявленной ЭВМ перфокарты личного учета одного бедняги-студента. Все верно, это его карта. Но предположим, вместо того чтобы подписать ее и вернуть в Личный отдел, Джордж ее просто порвет? Студент в тот же миг испарится, по крайней мере для колледжа Сан-Томас. Юридически он исчезнет, и для его возрождения потребуется целый ряд хитрых манипуляций, начиная с заполнения уймы разных форм в трех нотариально заверенных экземплярах и кончая обработкой их устройством ЭВМ.
Джордж подписывает-таки карту, удерживая ее на весу двумя пальцами. Он брезгует этими руническими знаками идиотской, но реально опасной магии мыслящих электронно-машинных божеств, адептов культа собственной непогрешимости: мы не ошибаемся. Когда же ошибаются, что случается часто, ошибка узаконивается и становится не-ошибкой… Держа карту за самый уголок, Джордж передает ее одной из секретарш, которая проследит за возвратом документа в деканат. На столе перед девушкой лежит пилка для ногтей. Джордж берет ее со словами:
– Интересно, заметит ли наш старичок-робот разницу? – И делает вид, что проделывает в карте лишнее отверстие.
Девушка пытается засмеяться, пряча мимолетный испуг. Джордж бормочет под нос проклятье.
Вполне довольный собой, он покидает здание кафедры и отправляется в кафетерий.
Сперва он должен пересечь открытое пространство в центре кампуса, образованное корпусом искусств, гимназией, корпусом наук и административным корпусом; территорию недавно засеяли травкой и засадили милыми деревцами, обещающими через несколько лет стать пушисто-тенистыми – то есть к тому моменту, когда тут опять всё начнут перестраивать. В воздухе ощутим привкус смога, на жеманном современном языке именуемого раздражителем глаз. Горный хребет Сан-Гейбриел добавляет колледжу Сан-Томас шарм заведения, расположенного высоко в горах, хотя до Анд ему далеко. Горы редко удается рассмотреть как следует; и сейчас они тонут в болезненно-желтой дымке испарений большого города, раскинувшегося у подножия.
А наперерез и мимо, поперек и навстречу Джорджу течет людской материал обоего пола, неустанно взращиваемый в этом заведении. Доставляемый серыми конвейерами автострад поток надлежит обработать, упаковать и разместить на рынке: японцы, мексиканцы, негры, евреи, китайцы, латиноамериканцы, славяне и скандинавы; темные головы заметно доминируют над светлыми. По велению расписания они спешат, на ходу флиртуют, на ходу спорят, на ходу под нос бормочут лекции – все с книгами, все крайне озабочены.
Зачем, для чего они здесь? Официальная версия: готовятся к жизни, что означает иметь работу и уверенность в себе, чтобы растить детей и готовить их к жизни, чтобы они смогли обрести работу и уверенность в себе, чтобы… Но вопреки профессиональным советам и брошюрам, убеждающим, что солидные деньги делаются там, где можно применить техническое образование – в фармакологии, бухгалтерии или в дающей широчайшие возможности электронике, – невероятно, но многие из них упорно пытаются писать поэмы, романы, пьесы! Отупевшие от недосыпа, они что-то строчат в промежутках между уроками, подработкой и семейными заботами. В головах у них роятся сонмы слов, пока они трут швабрами пол, сортируют почту, дают малышу бутылочку, жарят гамбургеры. Но на каторжном продвижении к должному их окрыляет мечта о возможном, придавая силы жить, верить и, может, однажды испытать – но что?
Чудо! «Одно лето в аду», «Путешествие на край ночи», «Семь столпов мудрости», «Ясный Свет Пустоты»… Создаст ли кто-нибудь подобное? О да, конечно. Один как минимум. Максимум два или три из тысяч страждущих душ.
В гуще этого потока у Джорджа голова идет кругом. Господи, что их ждет? Какие у них шансы? Стоит ли крикнуть им во все горло, прямо сейчас, что это безнадежно?
Но Джордж знает, что не сможет. Потому что вопреки самому себе, самым абсурдным и неподходящим образом, он есть представитель надежды. Нет, не притворной надежды. Джордж словно уличный торговец, предлагающий прохожим бриллиант за горсть медяков. Лишь избранные способны поверить, что камень настоящий. Спешащая масса и не подумает остановиться.
У входа в кафетерий объявления студенческих мероприятий: «Вечер Скво», «Пикник Золотого руна», «Концерт группы “Фогкаттерс”», «Собрание граждан города» и футбольный матч против «Ланд-Парк Соккер Клаб». Подобные плакаты мало впечатляют диких учащихся Сан-Томаса, клюют на такое лишь отдельные горячие энтузиасты. У большинства ребят нет стадного чувства, хотя в особых случаях они готовы вливаться в ряды. А что их действительно связывает, так это сроки – вроде необходимости сдать задание, срок сдачи которого истек три дня назад. Если Джорджу случалось подслушать разговоры студентов, то они обычно обсуждали, что не сдали, что профессор потребует, а что можно пропустить – и не попасться.
Кафетерий набит битком. Джордж осматривается в дверях. На работе он, как преподаватель, не желает терять ни минуты своего времени. Он идет между столов с улыбочкой на сорок ватт, готовый вспыхнуть на все сто пятьдесят, как только кто-нибудь напросится.
К счастью, он замечает, что из-за стола поднимается Расс Дрейер. Определенно, он его высматривал. Дрейер со временем привык опекать Джорджа, можно сказать, стал его адъютантом и личной охраной. Это худой, в очках без оправы, узколицый парень со стрижкой ежиком. На нем гавайская рубашка с намеком на спортивность – но это максимум вольности в одежде, какой он себе здесь позволяет. В расстегнутом вороте видна, как всегда, хирургически чистая нижняя рубашка. Он отличник, и его европейский двойник был бы занудой и слабаком, но Дрейер наделен упорством бывшего морпеха и даже своеобразным чувством юмора. Как-то он пересказал Джорджу, как проходит его типичный вечер в компании с другом Томом Кугельманом и их женами. «Мы с Томом проспорили о “Поминках по Финнегану” до конца ужина. Нашим женам надоело нас слушать, и они ушли в кино. Мы помыли посуду, было уже около десяти, но ни один из нас не считал себя побежденным. Тогда мы взяли по пиву из холодильника и пошли во двор, где Том соорудил навес, стоящий пока без крыши. Том и предложил завершить наш спор подтягиваясь на счет на дверной перекладине. Здесь я его уделал, тринадцать против одиннадцати».
Джордж был очарован этой историей – в классически греческом духе, если так можно выразиться.
– Доброе утро, Расс.
– Доброе утро, сэр.
Не разница в возрасте диктует Дрейеру обращение «сэр». Как только исчезнет необходимость в школьной полувоенной субординации, он без смущения станет звать его «Джордж» или даже «Джо».
Вместе они идут к кофейному автомату, наполняют кружки, берут пончики со стойки, но на повороте к кассе Дрейер с мелочью наготове обгоняет Джорджа.
– Нет, позвольте мне, сэр.
– Всегда вы платите.
Дрейер ухмыляется:
– Я отправил Маринетту работать, так что мы при деньгах.
– Ей предложили преподавать?
– Случайно место подвернулось. Конечно, временно. Одна засада – ей придется вставать на час раньше.
– И вы сами готовите себе завтрак?
– А, справлюсь, пока она не устроится поближе. Или не забеременеет.
Видно, он наслаждается таким мужским разговором с Джорджем.
(А он знает обо мне? Они вообще знают? Может, и да. Но вряд ли им интересно. Что-либо ниже шеи – мои чувства, мои гормоны, – зачем им это? К началу лекции можно подавать одну мою голову на блюде.)
– Да, вспомнил, – говорит Дрейер. – Маринетта велела спросить у вас, сэр, не заглянете ли к нам на днях? Спагетти приготовим. Может быть, Том принесет ту кассету из проката в Беркли, о которой я рассказывал: Кэтрин Энн Портер читает свои труды…
– Было бы неплохо, – с уклончивым энтузиазмом отвечает Джордж, глядя на часы. – Однако нам пора.
Дрейер ничуть не обескуражен неопределенным ответом Джорджа. Может, он еще меньше хочет видеть Джорджа у них за столом, чем тому хочется прийти. Жест скорее символический. Маринетта велела пригласить – пригласил, его согласие прийти на ужин во второй раз – получил. Это означает, что Джордж – хороший знакомый, и через годы можно будет вспоминать о нем как о члене своего круга. Надо думать, однажды Дрейер обеспечит Джорджу достойное место в ряду таких же заслуженных зануд. Джорджу легко представить типичный вечер, скажем, в девяностых годах, самого Расса деканом кафедры английского на Среднем Западе, Маринетту матерью взрослых сыновей-дочерей, в обществе молодых педагогов с женами, знаменательно чествующих доктора Дрейера с супругой – их декана, пребывающего в ностальгическом настроении переливания из пустого прошлого в порожнее позапрошлое; сам Джордж и ему подобные туда тоже кидают свой пятак, напрягая память, только все некстати. Маринетта с неизменной улыбкой внемлет им – бедняжка слышит это в который раз, вынужденная терпеть до одиннадцати. И в этот долгожданный час все согласятся, что вечер был воистину незабываемый.
По пути в класс Дрейер интересуется, что думает Джордж по поводу слов доктора Ливиса о сэре Чарлзе Сноу[4]. (Давно канувшие в Лету свары ворчливого старичья до сих пор проходят на ура в здешнем Царстве Сонной Лощины.)
– Ну, прежде всего… – начинает Джордж.
Они идут мимо теннисных кортов. На одном двое парней разыгрывают одиночную партию. Обжигающее солнце пробивается сквозь дымку смога, поэтому игроки практически обнажены. На них гимнастические туфли, плотные носки и трикотажные шорты того типа, что носят велосипедисты, – короткие и тесные, рельефно облегающие ягодицы и выпуклости в паху. Увлеченные игрой, они совершенно не замечают прохожих. Сетка отсюда не видна, и можно подумать, что их ничто не разделяет. Нагота сближает и одновременно противопоставляет их, тело против тела, как у борцов, но в этом случае соперниками они бы оказались неравноценными – парень слева заметно меньше. Этот игрок, по-видимому мексиканец, похожий на кота черноволосый красавец, – жесткий, собранный, гибкий и мускулистый, энергично грациозный. Его тело от природы золотистого цвета; на груди, животе и бедрах пушок черных вьющихся волос. Играет он сильно, дерзко, обнажая без улыбки белые зубы, с безжалостным мастерством отбивая мячи. Он выигрывает. Это понимает и его соперник, крупный блондин, защищаясь с чуть наигранной галантностью. Он так естественно и нежно красив, так благородно сложен, что его тело классической мраморной статуи здесь скорее минус. Оно плохо подчиняется правилам этой игры, так что усилия его почти бесполезны. Ему бы отшвырнуть ракетку и перескочить через сетку – тогда золотистому котику не устоять перед его мраморной мощью. Но блондин связан правилами игры, обрекающими его на обидное поражение. Беспомощный гигант напоминает старомодного рыцаря. Как настоящий спортсмен, он будет честно биться до последнего сета. Так вот что его ожидает? Вечное участие в играх, для которых он не создан, против быстрого, умного и беспощадного соперника?
Жестокая игра, но ее чувственная жестокость возбуждает Джорджа. Способность своего тела реагировать впечатляет его: в последнее время слишком часто оно казалось безжизненным. И он благодарен двум молодым особям за их красоту. Они никогда не узнают, что подарили ему волшебный миг, сделавший жизнь менее невыносимой…
А Дрейер продолжает:
– Простите, сэр, кажется, я на минуту потерял ход рассуждений. Конечно, относительно двух культур все понятно, но неужели вы в самом деле согласны с доктором Ливисом?
Безразличный к теннисистам, Дрейер шагает, почти повернувшись к ним спиной, все его внимание к говорящей голове на плечах Джорджа.
И не сомневайтесь, голова продолжает говорить. Джордж осознает это с тем же чувством дискомфорта, что и на автостраде, когда его робот-шофер самостоятельно доставил его в пригород. Ну да, умение головы трепаться до конца вечеринки ему известно – даже когда поздно, он пьян, устал и все надоело. Она исправно воспроизводит все его излюбленные теории, если никто не вздумает спорить – иначе голова наверняка собьется. Она знает три дюжины его любимых анекдотов. Да, но здесь, средь бела дня, в колледже, когда все должно быть под контролем! Может, говорящая голова с телом шофера заодно? Может, они готовы объединиться?
– Сейчас у нас для этого нет времени, – невозмутимо отвечает он Дрейеру. – Вообще я бы предпочел еще раз пройтись по лекциям Ливиса. Кажется, тот выпуск «Спектейтора» до сих пор где-то лежит… А между прочим, вы не читали статью о Мейлере где-то с месяц назад – кажется, в «Эсквайре»? Возможно, лучшая вещь из тех, что мне попадались в последнее время…
В аудитории Джорджа две двери по длинной стороне: одна в начале, другая в конце. Большинство студентов входят через дальнюю дверь, подчиняясь тупому стадному чувству, побуждающему сбиваться в кучку, оставляя между собой и преподавателем интервал из пустых рядов. Однако в этом семестре класс лишь немногим меньше количества мест. Это вынуждает запоздавших садиться все ближе и ближе, вплоть до второго ряда, – к ехидному удовольствию Джорджа. Что до ряда первого, который остальные упорно избегают, его заполняют приближенные – Расс Дрейер, Том Кугельман, сестра Мария, мистер Стессел, миссис Нетта Торрес, Кенни Поттер, Лоис Ямагучи.
Джордж никогда не войдет в класс с Дрейером или с кем-либо из студентов. Этого не позволит его подспудный сценический инстинкт. Именно для этого он использует свой кабинет, где скрывается перед лекцией, чтобы затем эффектно появиться. Студентов здесь он не принимает, потому что тут кабинеты делят между собой как минимум два преподавателя, и доктор Готтлиб, преподающий метафизическую поэзию, фактически не покидает их общий кабинет. А Джордж не способен говорить с человеком так, будто они наедине, если они не наедине. Любой простой вопрос вроде: «Вы на самом деле такого мнения об Эмерсоне?» – кажется неприлично личным, а слегка критичное: «Ваша первая метафора отрицает вторую, поэтому предложение в целом лишено смысла» – звучит излишне грубо, – когда за соседним столом их слышит доктор Готтлиб или, что еще хуже, делает вид, что не слышит. Очевидно, что Готтлиб его эмоций не разделяет. Видимо, это чисто британская щепетильность.
Итак, расставшись с Дрейером, Джордж пересекает холл и входит в кабинет. Удивительно, но Готтлиба на месте нет. Джордж выглядывает в окно, сквозь жалюзи вдалеке видит корт, те же теннисисты все еще играют. Закашлявшись, крутит не глядя одним пальцем телефонный диск, задвигает приоткрытый пустой ящик стола. Затем, резко повернувшись, берет из шкафа портфель, выходит из кабинета и направляется к передней двери аудитории.
Входит он не демонстративно, вопреки общепринятым здесь стандартам, но на том и строится его тонко просчитанный театральный эффект. Шум при его появлении не стихает. Большинство продолжает болтать. И наблюдать за ним, ожидая любого еле заметного сигнала к началу занятий. Суть эффекта в нарастающем напряжении из-за отсутствия такого сигнала, в желании Джорджа тем самым нагнетать обстановку и упорном нежелании студентов прекращать разговоры, пока не будет подан такой сигнал.
А пока он стоит. Медленно и продуманно, как фокусник, вынимает единственную книгу из своего портфеля и кладет ее на стол, обводя взглядом аудиторию. Губы складываются в легкую вызывающую улыбку. Некоторые ему отвечают тем же. Джордж находит подобную прямую конфронтацию крайне вдохновляющей. Их улыбки и юные сияющие взгляды придают ему сил. Это вершина дня. Он ощущает себя ярким, энергичным, вызывающим, чуть загадочным и, главное, чужим. Его темный костюм, белая рубашка и галстук (единственный галстук в этой комнате), безусловно, враждебны агрессивной вольности в одежде мужской части студентов. Большинство из них носят кеды, хлопковые белые носки, джинсы в холодную, шорты в теплую погоду (точнее, бермуды до колен; шорты короче и удобнее считаются неприличными). Если очень тепло, закатывают рукава, расстегивают верхние пуговицы, обнажая курчавую поросль и медальоны со святыми на груди. Такое впечатление, что в любой миг они отшвырнут книжки в сторону и помчатся то ли что-то откапывать, то ли кого-то лупить. Они кажутся неуклюжими подростками в сравнении с девушками, которые давно переросли девчачьи штанишки-шортики и пышные прически. Теперь это зрелые женщины, одетые как это положено в приличном обществе.
Сегодня, отмечает Джордж, все завсегдатаи первого ряда на месте. Собственно, Дрейер и Кугельман единственные, кого он просил заполнять пустоту, остальные здесь из собственных соображений. Во время занятий Дрейер внимает Джорджу с горячим энтузиазмом, но Джордж знает, что он не слишком им впечатлен. Для него Джордж педагог-любитель, его образование и корни британские, а значит, сомнительные. Но все же Джордж – мэтр, командир, и, поддерживая его авторитет, Дрейер укрепляет систему, к которой намерен присоединиться сам. Поэтому он одобряет умение Джорджа производить впечатление на аутсайдеров, то есть на всех остальных. Забавно, что тот же Дрейер во время лекций, когда приспичит, без стеснения болтает со своим адъютантом, Кугельманом. И Джорджу страшно хочется внезапно замолчать и подслушать, о чем эти двое шепчутся. Инстинктивно Джордж уверен, что Дрейер не стал бы обсуждать в аудитории кого-либо, кроме него, – это уже дурной тон.
Сестра Мария из воспитательного ордена. Скоро она получит диплом и сама станет учителем. Это несомненно простая, здравомыслящая и трудолюбивая молодая женщина. Понятно, что она сидит впереди для лучшей концентрации внимания, но, может, и потому, что парни еще немного интересуют ее и так ей легче избегать их взглядов. Как все простые смертные теряют привычные ориентиры в присутствии монахинь, так и Джордж, слишком близко и пристрастно изучаемый средневеково-строгой невестой Христовой, чувствует себя неуютно и постоянно начеку. Легионер Ада, он, волею рока, противостоит защитнице Райских кущ в чересчур учтивой холодной войне. Он неизменно именует ее сестрой, чего, возможно, ей меньше всего хотелось бы.
Мистер Стессел сидит в первом ряду потому, что он глух и немолод, лишь недавно прибыл из Европы, и его английский просто ужасен.
Миссис Нетта Торрес тоже средних лет. Кажется, она посещает его курс из чистого любопытства или от безделья. Похоже, она разведена. В первом ряду она сидит сугубо из интереса к самому Джорджу. Она больше смотрит на него, чем слушает. И возможно, пытается расшифровать его слова по-своему, применить собственный метод Брайля к его жестам, манерам, интонациям. Это почти осязаемое внимание сопровождается материнской улыбкой, потому что для миссис Торрес Джордж – просто маленький мальчик и такой забавный. Джордж мечтает завалить ее на экзамене, отвадив от своих занятий низкими оценками, но, увы, это невозможно. Миссис Торрес слушает его так же внимательно, как и рассматривает, и может повторить сказанное им слово в слово.
Кенни Поттер сидит здесь потому, что он из тех, кого нынче называют чокнутыми, что означает склонность делать все не так, как другие, но не из-за убеждений или враждебности. Возможно, он слишком погружен в себя, чтобы интересоваться поведением сокурсников, а может, слишком ленив, чтобы подражать другим. Это высокий, худой парень с широкими покатыми плечами, рыжими волосами, маленькими ярко-синими глазами и небольшой головой. Он был бы вполне красив, если бы не большой клювообразный нос; впрочем, очень забавный.
Джордж постоянно ощущает присутствие Кенни, но не как союзника. О нет, на это не стоит рассчитывать. Когда Кенни смеется его шуткам своим глубоким, плебейским смехом, Джорджу кажется, что он смеется и над ним тоже. В иных случаях, когда его смех слышен чуть позже, немного сам по себе, у Джорджа складывается неуютное впечатление, что того веселит не шутка, а образовательная, экономическая, политическая структура в целом – все то, что привело их в эту аудиторию. В такие моменты Джордж подозревает в Кенни глубочайшее понимание смысла жизни, то есть гениальность. (Чего, однако, никак не скажешь по его оценкам.) Но с другой стороны, причина может быть в том, что Кенни и слишком молод, и как-то необычно обаятелен, и просто глуп.
Лоис Ямагучи сидит рядом с Кенни потому, что она его подружка; по крайней мере, они почти постоянно вместе. Она улыбается Джорджу так, словно у них с Кенни есть общие дежурные шуточки на его счет – но кто может быть в чем-то уверен с этими загадочными азиатами? Александр Монг тоже загадочно улыбается, но в его красивой голове наверняка нет ничего, кроме загустевшей масляной краски. Бесспорно, Монг и Лоис здесь самые красивые, не потревоженные ничем вздорным, утомительным или суетным создания.
Тем временем напряжение нарастает. Джордж по-прежнему молчит, вызывающе чувственно улыбаясь болтунам. И наконец, спустя почти четыре минуты, победа за ним. Разговоры стихают. Первые умолкшие шикают на запоздавших. Джордж торжествует. Всего лишь минуту. Ему предстоит развеять собственную магию.
Сейчас буднично, как любой из дюжины преподавателей, он начнет говорить, а они будут слушать, и неважно, велеречив ли он как ангел, или мнется и спотыкается на каждом слове. Слушать Джорджа они обязаны, ибо данной ему штатом Калифорния властью он вправе вбивать им в головы любые твердолобые пережитки, любые ереси собственного сочинения, ведь, по большому счету, их заботит одно: «Как внушить этому вздорному старику желание поставить мне приличные оценки?»
Да, увы, волшебству конец. Он начинает говорить.
– «Лебедь через много лет умрет».
Слова скатываются с его языка с таким преувеличенным старанием, с таким неприкрытым смакованием, что кажутся пародией на чтение стихов У. Б. Йейтса. (Он понижает голос на слове «умрет», уравновешивая «И», отрезанное Олдосом Хаксли от начала оригинальной строки.) Затем, преуспев в намерении озадачить или смутить хоть кого-либо, он, с иронической усмешкой окинув взглядом аудиторию, продолжает деловым энергичным тоном:
– Надеюсь, все прочли этот роман?[5] Он был задан три недели назад.
Краем глаза он отмечает явное огорчение на лице Бадди Соренсена, что неудивительно, и возмущенное – впервые слышу – пожатие плеч Эстель Оксфорд, что уже печальнее. Эстель – одна из способнейших студенток. Наделенная умом, она острее ощущает принадлежность к негритянской расе, чем остальные «цветные» студенты класса; точнее, она слишком остро это ощущает. Джордж чувствует, что с его стороны подозревают некую долю дискриминации. Возможно, ее не было на занятии, когда он велел им прочесть роман. Черт, ему следовало это заметить и сообщить ей задание позже. Джордж ее немного побаивается. Но она ему нравится, и жаль, что так получилось. Однако то, что его провоцируют на подобные чувства, ему совсем не нравится.
– Ну ладно, – заключает он как можно дружелюбнее, – если кто-то из вас роман не читал, не страшно. Сейчас послушайте обсуждение, а когда прочтете книгу, решите, с чем вы согласны, а с чем нет.
Улыбаясь, он смотрит на Эстель. Она ему тоже улыбается. Выходит, на этот раз пронесло.
– Названием, конечно, служит фраза из поэмы Теннисона «Титон». Кстати, пока мы не отправились дальше, кто такой Титон?
Молчание. Он всматривается в лица. Никто не знает. Даже Дрейер. Господи, как это типично! Титон их не интересует, потому что до него целых два шага от самой темы. Хаксли, Теннисон, Титон. Один шаг до Теннисона еще терпимо, но ни шагом дальше. Конец любопытству. Как правило, им на все наплевать…
– Серьезно, никто из вас не знает, кто такой Титон? И никто не пожелал выяснить? Что ж, тогда советую всем посвятить часть выходных чтению «Мифов Древней Греции» Грейвса и самой поэмы. Должен сказать, не представляю, как можно изображать интерес к роману, не озаботившись хотя бы смыслом его названия.
Собственное раздражение огорчает Джорджа, едва оно вырывается наружу. Боже, он и правда становится занудой! Хуже всего, он не знает, когда и из-за чего вдруг начинает так себя вести. Не успевает взять себя в руки. От стыда он избегает их глаз – Кенни Поттера в особенности, – зацепившись взглядом за противоположную стену.
– Итак, если начать сначала, то однажды Афродита застала своего любовника Ареса в постели с Эос, богиней утренней зари (советую при случае ознакомиться со всей компанией в словаре). Афродита, конечно, пришла в ярость и в отместку внушила Эос неутолимую страсть к красивым смертным юношам – чтобы впредь неповадно было посягать на чужих поклонников-богов. (Джордж облегченно слышит чьи-то смешки; он боялся, что все сгубил своим ворчанием. Всё так же глядя вдаль, он продолжает с легкой улыбкой в голосе.) Эос, обнаружив, что справиться с собой она не в силах, крайне смущаясь, стала похищать и совращать земных юношей. Титон был одним из них. Правда, она прихватила и его брата Ганимеда, за компанию… (Теперь с разных сторон смех усилился.) К несчастью, Зевс увидел Ганимеда и безумно в него влюбился. (Жаль, конечно, если сестра Мария в шоке. Но Джордж смотрит не на нее, а на Уолли Брайанта, в реакции которого он более чем уверен, и видит: да, Уолли доволен.) Итак, понимая, что Ганимеда ей придется уступить, Эос умоляет Зевса в качестве компенсации сделать Титона бессмертным. Зевс ответил: почему бы и нет? И сделал. Но глупышка Эос забыла попросить для Титона вечной молодости в придачу. Что, кстати, сделать было совсем нетрудно – Селена, богиня Луны, добилась этого для своего возлюбленного Эндимиона. У них проблема заключалась в том, что Селена готова была лишь целоваться, а у Эндимиона были и другие планы, так что она погрузила его в вечный сон – чтобы не дергался. Но что толку в вечной юности, если нельзя проснуться и хотя бы полюбоваться на себя в зеркало? (Улыбаются уже почти все, даже сестра Мария. И Джордж тоже. Он ненавидит неприятности.) Так о чем я? Да, итак, бедняга Титон со временем превратился в безобразного старика. (Громкий смех.) И до такой степени надоел Эос, что она с типичным для богини бессердечием отправила его под замок. Там он потихонечку свихнулся, голос его со временем становился все противнее, все скрипучее, пока однажды он не превратился в цикаду.
Такая убийственная награда. Джордж знал, что им не понравится – так и есть. Мистер Стессел, ничего не понимая, отчаянным шепотом требует от Дрейера пояснений. Дрейер шепотом ему отвечает, но это приводит к еще большему непониманию. Наконец мистер Стессел восклицает:
– Ах вот что – eine Zikade!
Он говорит таким тоном, чтобы все поняли: всему виной невозможное англо-американское произношение.
Но в этот момент Джордж переходит к следующей части, с совсем иным настроем. Он их уже не обхаживает и не развлекает, он дает указания, четко и властно. Голосом судьи, оглашающего вердикт.
– Основной смысл выбранного Хаксли названия очевиден. Что же касается деталей, было бы интересно разобрать взаимосвязи всех обстоятельств этой истории. Например, пятого графа Гонистерского можно рассматривать как двойника Титона – он становится обезьяной, подобно тому, как Титон – насекомым. Но как же Джо Стойт? Или Обиспо? Он ближе к Мефистофелю Гете, чем к Зевсу. А кто в романе Эос? Конечно, не Вирджиния Монсипл, хотя бы потому, что она поздно просыпается.
Этой шутки не понимает никто. Джордж иногда позволяет себе, вопреки своему опыту, выдать что-нибудь слишком английское. Слегка задетый отсутствием отклика с их стороны, он продолжает почти вызывающим тоном:
– Но, прежде чем мы продолжим, вам предстоит разобраться, о чем, собственно, этот роман.
Остаток семинара они разбираются.
Как обычно, сначала повисает полное молчание. Аудитория сидит, вперившись в семантически грандиозное слово. О чем. Это о чем? Ну и чего от них ждет Джордж? Они скажут ему все, что он хочет, абсолютно все. Потому что большинство из них, несмотря на всю подготовку, где-то внутри воспринимают эти «о чем» как утомительную софистику.
Меньшинство – те, кто сроднился с мыслями «о чем» до такой степени, что это стало их второй натурой, кто тоже мечтает написать однажды о чем-то книгу, подобно Фолкнеру, Джеймсу или Конраду, после чего все остальные книги на ту же тему окажутся ни о чем, – пока не спешат высказаться. Они ждут момента, когда можно будет выйти на сцену, подобно знаменитому сыщику, чтобы развенчать преступника Хаксли. А пока пусть мелюзга помучается. Пусть сначала замутят воду.
Первым решил высказаться Александр Монг. Конечно, он знал, что делает, не дурак. Может, это часть его философии абстрактного художника: по-детски воспринимать все образное. Европеец не сдержался бы, но Александр с милой китайской улыбочкой сказал:
– Тут об одном богатом парне, который ревнует, потому что боится, что слишком стар для той девочки, и ему кажется, что тот молодой за ней ухлестывает, но на деле у того никаких шансов, потому что она уже сошлась с доктором. Так что богатый зря пристрелил молодого, хотя доктор их вроде прикрыл, и все отправились в Англию искать того графа, который забавлялся в подвале с той цыпочкой…
Гомерический хохот.
С улыбкой принимая эстафету, Джордж спрашивает:
– Вы забыли о Пордидже с Проптером – так что они?
– Пордидж? Ах да, это который узнал, что граф ел ту чертову рыбу…
– Карпа.
– Точно. А Проптер… – Александр ухмыляется и, слегка паясничая, почесывает в затылке. – Извините, сэр. Правда, я до полвторого не спал, пытаясь понять. Да! Классно, но я не въехал в эту хрень.
Опять хохот. Александр сделал свое дело. Подал филистимлянам пример, молодец. И языки развязались, и процесс пошел.
Вот некоторые их выводы:
Если мистер Проптер заявляет, что субъект не существует, значит, он не верит в человеческую природу.
Этот роман – бессмысленный абстрактный мистицизм. Скажите, зачем нам вообще эта вечность?
Роман умен, но циничен. Хаксли следовало бы обратить внимание на положительные человеческие эмоции.
Роман – чудесная духовная проповедь. Он учит, что не следует совать свой нос в мистические дела. Не следует шутить с вечностью.
Хаксли удивительный сумасброд. Он хочет извести человечество и оставить мир животным и духам.
Заявлять, что время есть зло, потому что зло есть во времени, – все равно что считать, что океан – это рыба, потому что рыба в океане.
Мистер Проптер не занимается сексом. И потому это неубедительный персонаж.
А у мистера Пордиджа сексуальная жизнь неубедительная.
Мистер Проптер сторонник джефферсоновской демократии, анархист, большевик, готовый член Общества Джона Бёрча[6].
Мистер Проптер избегает действительности. Почитайте его разговор с Питом о войне в Испании. Пит был нормальным парнем, пока Проптер не стал капать ему на мозги, так что тот совсем свихнулся на вере.
Хаксли прекрасно понимает женщин. Розовый скутер Вирджинии – отличный тому пример.
И так далее, и тому подобное… Джордж стоит, улыбаясь, фактически молча, не мешая им развлекаться в свое удовольствие. Он здесь при романе, как служитель при карнавальном балагане, подзуживает толпу лупить по мишеням исключительно ради удовольствия. Однако некоторые основные правила должны соблюдаться. Если заходит речь о влиянии лизергиновой кислоты или мескалина, с намеком на серьезное пристрастие Хаксли к наркотикам, Джордж лаконично это опровергает. Попытки отойти от романа и связать одну известную даму с убийством Джо Стойтом Пита Джордж решительно пресекает; эти домыслы опровергнуты еще в тридцатых.
И наконец Джордж слышит вопрос, которого ждал. Спрашивает, конечно, Майрон Херш, неутомимый мучитель неевреев.
– Сэр, на странице семьдесят девятой мистер Проптер говорит, что глупейшие строки в Библии – «Возненавидели Меня напрасно». Он считает, что нацисты были правы в ненависти к евреям? Значит, мистер Хаксли антисемит?
Джордж делает глубокий вдох.
– Нет, – мягко отвечает он.
После обдуманной паузы – класс взбудоражен тупостью Майрона – повторяет громко и жестко:
– Нет, мистер Хаксли не антисемит. Нацисты не имели права ненавидеть евреев. Но их ненависть к евреям не беспричинна. Ненависть всегда имеет причины… Но давайте забудем на время о евреях, хорошо? Независимо от отношения к ним, говорить на эту тему объективно пока невозможно. Как и в ближайшие лет двадцать, вероятно. Поэтому поговорим об этом относительно иного меньшинства, какого хотите, но небольшого, не имеющего организованного комитета для своей защиты…
Пристальный взгляд Джорджа обращен к Уолли Брайанту: я на вашей стороне, сестра-по-братству в меньшинстве. Лицо Уолли пухлое, землистого цвета, попытки пригладить буйно вьющиеся волосы, отполировать ногти и придать форму бровям вопреки усилиям лишь добавляют ему непривлекательности. Ему наверняка ясен смысл взглядов Джорджа, это его смущает. И напрасно! Джордж намерен преподать ему урок, который тот не забудет. Он покажет Уолли изнутри его собственную робкую душу. Может, тогда у него хватит смелости забыть о маникюре и взглянуть правде в глаза…
– Например, люди с веснушками не воспринимаются как меньшинство теми, у кого веснушек нет. В интересующем нас смысле. А почему? Потому что меньшинство только тогда воспринимается как таковое, когда оно представляет угрозу большинству – реальную или мнимую. Но угроза никогда полностью не вымышленная. Кто-нибудь не согласен? Если это так, спросите себя, что станет делать то или иное меньшинство, если наутро оно окажется в большинстве? Вы меня понимаете? Если нет, подумайте над этим.
Ладно, возьмем либералов, в том числе и присутствующих, полагаю. Уверен, они скажут: меньшинства – это люди, такие же как мы. Конечно, меньшинства – это люди, именно люди, не ангелы. Конечно, такие как мы, но не совсем. В том и беда экзальтированного либерального ума, обманывающего даже себя вплоть до отрицания различий между негром и шведом.
(Ну почему он не в состоянии прямо сказать – между Эстель Оксфорд и Бадди Соренсеном? Может быть, потому, что тогда последовал бы взрыв всеобщего веселья, всеобщие объятия, и Царствие Небесное тотчас же снизошло бы на аудиторию номер 278. Или не снизошло бы?)
– Поэтому лучше признать, что меньшинства – это люди, которые от нас отличаются взглядами, поведением и имеют недостатки, которых мы лишены. И потому они сами, их поведение и недостатки могут нам не нравиться. И гораздо лучше, если мы признаем это, нежели запятнаем свои взгляды псевдолиберальной сентиментальностью. Честное признание – это выпускной клапан, защищающий нас от искушения подвергать их гонениям. Я знаю, это немодная нынче теория… Сейчас принято верить, что, если проблему достаточно долго игнорировать, она исчезнет…
Так о чем я? Ах да… Положим, меньшинство преследуется – не так важно, по политическим, экономическим или физиологическим причинам. Причины всегда найдутся, не важно, насколько ложные, – я в этом убежден. И конечно, сами преследования всегда есть зло; надеюсь, вы согласны с этим… Но, к сожалению, возникает опасность впасть в иную ересь. Если преследовать их грешно, значит, скажет либерал, это меньшинство безгрешно. Это ли не абсурд? Искоренить зло, преследуя еще большее зло? Разве все христианские мученики на аренах были святыми?
И еще одно. Меньшинства склонны к своего рода агрессии, которая провоцирует большинство. Их ненависть к большинству, поверьте, не без причины. Они ненавидят даже другие меньшинства, потому что и здесь существует некоторая конкуренция – каждое считает свои страдания наибольшими, а пороки наихудшими. И чем больше они ненавидят, тем больше их преследуют, тем нетерпимее они становятся! А вы думаете, это любовь подогревает в людях дурные свойства? Представьте, вот и нет! Так почему же ненависть к ним улучшит дело? Когда тебя преследуют, ты ненавидишь людей, виновных в этом, ты живешь в мире ненависти. И не узнаешь любовь, когда ее встретишь. Даже любовь вызывает у тебя подозрение! Вдруг за этим кроется какой-то обман…
К этому моменту Джордж и сам не знает, что доказал, что опроверг, на чьей он стороне, если вообще поддерживает кого-то, – он вообще толком не знает, о чем говорит. Тем не менее все рассуждения вырывались у него с неоспоримой искренностью. Он беспрекословно верит в каждое из них, разумное или неразумное. Он управлялся с ними как с хлыстом, не давая спать Уолли, и Эстель, и Майрону. Имеющий уши да слышит…
Но Уолли глядит все так же смущенно – он не выпорот и не разбужен. Он даже не смотрит на него; он уставился в какую-то точку где-то у него за спиной… И, окинув взглядом аудиторию, споткнувшись на полуслове и потеряв нить повествования, Джордж видит, что все пары глаз глядят в одну точку – на эти чертовы часы. Незачем оборачиваться, и так ясно, что его время вышло. Резко прерывая занятие, он говорит:
– Продолжим разговор в понедельник.
Все сразу встают, за болтовней собирая свои книжки.
Ну а чего он ожидал? Большинству из них минут через десять надо быть в каком-нибудь другом месте. Все же Джордж раздражен. Давно он не позволял себе так увлекаться, позабыв о времени и месте. Как это унизительно! Вздорный старый препод бубнит свое, не замечая ни часов, ни вздохов класса – и в который раз! На минуту, пока студенты разбегаются, Джордж упивается ненавистью к ним, к их одноклеточному первобытному безразличию. Он просит одну монетку, протягивая им бриллиант, а они пожимают плечами и отворачиваются с усмешкой, считая его чокнутым старым торгашом.
Что ж, остается лишь подчеркнуто благожелательно улыбаться тем, кто задержался с какими-то вопросами. Сестра Мария уточняет, обязаны ли они прочесть к экзаменам все упомянутые мистером Хаксли книги. Джорджу ужасно хочется сказать ей, что да, все, включая «120 дней Содома». Но, конечно, он не скажет. Оценив полегчавшую мысленную стопку книг, она с довольным видом уходит.
Бадди Соренсен остался, чтобы извиниться.
– Простите, сэр, я не читал Хаксли, думал, вы захотите сначала сделать анализ.
Чистый идиотизм или хитрость? Джордж не станет выяснять.
– «Нет Бомбе!» – зачитывает он слоган на его значке, и Бадди, не раз слышавший это от Джорджа, счастливо улыбается:
– Так точно, сэр!
Миссис Нетта Торрес жаждет узнать, не послужила ли прототипом для Гонистера какая-то реальная английская деревня. Джордж понятия не имеет. Ему лишь известно, что в последней главе, когда Обиспо, Стойт и Вирджиния выехали из Лондона в поисках пятого графа, они двигались в юго-западном направлении. Так что, вероятно, Гонистер находился где-то в Хэмпшире или Суссексе… Но понятно, что вопрос был лишь предлогом. Заговорила она об Англии для того, чтобы поведать, какие незабываемые три недели она провела там десять лет назад! Правда, бо́льшую часть времени в Шотландии, остаток – в Лондоне.
– Каждый раз, когда вы говорите с нами, – вещает она, с энтузиазмом сверля Джорджа глазами, – у меня в ушах звучит тот дивный, как музыка, акцент. (Джорджу страшно хочется узнать, кокни или Горбалз[7]?)
Она интересуется, где он родился – но об озвученном им месте слышит впервые. Пользуясь ее озадаченностью, он прерывает тет-а-тет.
Иногда собственный кабинет оказывается полезным – можно скрыться от миссис Торрес. Мистер Готтлиб, как всегда, на месте.
Готтлиб пребывает в большом возбуждении, он только что получил из Англии новую книгу одного оксфордского мэтра о Фрэнсисе Куорлсе[8]. Готтлиб скорее всего знает о Куорлсе не меньше того мэтра, но Оксфорд за его спиной повергает в священный трепет беднягу Готтлиба, уроженца убогого района Чикаго.
– Теперь я понимаю, – говорит он, – что без должного происхождения подобную должность не получишь.
Джордж же с тоской заключает, что предел мечтаний этого человека – занять место никчемного коллеги, чтобы затем всю жизнь гробить себя невыносимо желчной и язвительной писаниной.
Подержав в руках книгу и с должным уважением полистав страницы, Джордж решает, что пора обедать. Выходя из здания, он видит Кенни Поттера и Лоис Ямагучи сидящими на траве под самым чахлым из саженцев с дюжиной листьев. Трудно выбрать место нелепее, но, возможно, именно поэтому Кенни и сидит здесь. Они словно дети, играющие в жертв кораблекрушения на берегу атолла в Тихом океане. С этой мыслью Джордж улыбается им. Они тоже улыбаются, Лоис по-японски застенчиво смеется. Джордж, словно пароход, без остановки проходит мимо их атолла. Лоис понимает это, поэтому изящной узкой кистью руки радостно машет ему так, как люди машут проплывающим мимо кораблям. Кенни тоже машет, но вряд ли с пониманием; он просто подражает Лоис. Но все равно этот обмен любезностями смягчает сердце Джорджа. Он снова машет им; для старого парохода и юных изгоев это обмен приветствиями, а не сигнал о помощи. Они не лезут в душу и не навязываются. Просто желают всего хорошего. И снова, как у теннисного корта, Джордж ловит тепло и яркость красок, только сейчас это спокойное, согревающее чувство. Улыбаясь своим мыслям и не оглядываясь, он на всех парах направляется в сторону кафетерия.
Но вдруг слышит за спиной:
– Сэр!
Обернувшись, он видит нагоняющего его в своих бесшумных кедах Кенни. Джордж ждет, что Кенни спросит, скажем, какую книгу они будут читать на следующем занятии, после чего уйдет. Но нет, тот идет рядом, подстраиваясь под его шаг, и говорит будничным тоном:
– Мне нужно в книжный магазин.
Он не спрашивает, нужно ли Джорджу в книжный, а Джордж не говорит, что туда не собирается.
– Вы когда-нибудь пробовали мескалин, сэр?
– Да, как-то в Нью-Йорке. Лет восемь назад. Тогда не было каких-то ограничений на его продажу. Я просто зашел в аптеку и заказал нужное количество. Они раньше о нем и не слышали, но через несколько дней я получил заказ.
– А у вас были видения – вроде всей этой мистики?
– Нет, видений, как вы это называете, не было. Сначала меня мутило, как от морской болезни. Но не сильно. Так мог чувствовать себя доктор Джекилл, когда впервые принял свое зелье… Потом все вокруг расцвело ярчайшими красками. Но тебя не заботит, почему никто этого не замечает. Помню, я подумал, увидев на столе в ресторане дамскую сумочку немыслимого красного цвета, – что за чудовище! Лица людей превратились в грубые карикатуры, разоблачающие их сущность. Сразу стало ясно, что вот этот – индюк надутый, другой сейчас лопнет от страха, третий напрашивается на драку. Но были и светящиеся красотой лица тех, в ком нет страха или злобы, кто принимает жизнь такой, какая она есть… А потом все вокруг обрело необычайный вес и объемность – шторы, словно вылепленные скульптором, древесина, ставшая объемно-зернистой, словно ожившие цветы. Помню горшок с фиалками – они не двигались, но очевидно, что могли бы. Каждый цветок – словно тянущаяся вверх змейка, замершая на своих кольцах… Затем, на пике воздействия, стены – как и всё вокруг, – казалось, обрели дыхание, а структура дерева – текучесть, словно это жидкость… Потом постепенно все вернулось в норму. И после никакого похмелья. Я распрекрасно себя чувствовал и с удовольствием поужинал.
– И вы больше не принимали его?
– Нет. Оказалось, больше не хочется. Было желание попробовать мескалин на себе. Остальные капсулы я раздал друзьям. Один чувствовал примерно то же, что и я, другой вовсе ничего. Знакомая дама сказала, что в жизни не испытывала подобного ужаса. Я подозреваю, это она из вежливости. Своего рода благодарность за удовольствие…
– У вас больше не осталось этих капсул, сэр?
– Нет, Кенни, больше нет! Но если бы и были, раздавать их студентам я бы не стал. Я бы придумал более забавный повод выкинуть меня отсюда.
Кенни ухмыльнулся.
– Извините, сэр, я просто подумал… Знаете, если мне надо, я всегда найду, где взять. Почти все можно найти прямо в кампусе. Однажды приятель Лоис пробовал его прямо здесь. Он уверяет, что под кайфом видел Бога.
– Ну, он, возможно, и видел. Может, я маловато принял.
Кенни искоса, с очевидным весельем, взглянул на Джорджа.
– Знаете что, сэр? Спорим, если вы увидите Бога, вы нам не скажете.
– Почему вы так думаете?
– Лоис так думает. Что вы себе на уме. Вот как этим утром, например, когда слушали ту чепуху, что мы несли о Хаксли…
– Ну, положим, не вы. Кажется, вы ни разу рта не раскрыли.
– Я наблюдал за вами… Кроме шуток. Думаю, Лоис права! Сначала вы позволяете нам молоть чушь, потом вправляете мозги. Я не говорю, что вы нас ничему не учите, вы рассказываете интереснейшие вещи, но никогда не скажете всего, что знаете…
Джордж чувствует себя удивительно польщенным. Он впервые слышит от Кенни подобное. И ему трудно отказаться от такой соблазнительной роли.
– Что же, может, и так, в некоторой степени. Видите ли, Кенни, есть вещи, о существовании которых не знаешь, пока тебя не спросят.
Они подошли к теннисным кортам. На каждом силуэты движущихся фигур. Джордж молниеносным взглядом знатока определяет, что утренняя пара ушла, а эти игроки физически малопривлекательны. На ближайшем корте немолодой толстяк-преподаватель усиленно сгоняет жир в паре с девицей с волосатыми ногами.
– Чтобы отвечать, – продолжает Джордж многозначительно, – надо, чтобы тебя спрашивали. Вот только нужные вопросы задают редко. Большинство людей мало чем интересуются…
Кенни молчит. Размышляет об услышанном? Собирается о чем-то спросить? Пульс Джорджа учащается в предвкушении.
– Дело не в том, что я предпочитаю быть себе на уме, – говорит он, не поднимая головы и как бы ни к кому не обращаясь. – Знаете, Кенни, часто хочется высказать, обсудить все без утайки. Но в аудитории это невозможно. Всегда кто-нибудь не так поймет…
Молчание. Джордж бросает в его сторону быстрый взгляд. Кенни смотрит, хотя и без особого интереса, на мохноногую девицу. Возможно, он его даже не слышал. Невозможно понять.
– Может, приятель Лоис и не видел Бога, – вдруг говорит Кенни. – То есть, может, он сам себя обманывает. Приняв дозу, он очень быстро отключился. Потом три месяца провел на реабилитации. Он рассказывал Лоис, что в отключке превратился в черта и мог гасить звезды. Да, я серьезно! Что он гасил их по семь штук зараз. Но при этом жутко боялся полиции. Потому что у них есть особое устройство, чтобы ловить и уничтожать чертей. Называется МО-машина. МО – это ОМ[9] наоборот, ну знаете, так индусы называют Бога.
– Если полицейские уничтожают чертей, значит, они ангелы, верно? Что же, в этом есть смысл. Заведение, где полицейские превращаются в ангелов, может быть только сумасшедшим домом.
Кенни смеется над его шуткой. Они входят в книжный магазин. Ему нужна точилка для карандашей. Вот они лежат рядами, в коробочках из разноцветной пластмассы. Красные, зеленые, синие и желтые. Кенни берет красную.
– Что вы хотели купить, сэр?
– В общем-то, ничего.
– Хотите сказать, что пришли сюда просто за компанию?
– Именно. Почему бы нет?
Похоже, Кенни искренне удивлен и польщен.
– Тогда, думаю, вы заслуживаете приз! Выбирайте, сэр. За мой счет.
– О-о, но… ладно, спасибо!
Джордж даже слегка краснеет. Словно ему преподнесли розу. Он берет желтую точилку. Кенни усмехается.
– Я ждал, что вы возьмете синюю.
– Почему?
– Разве не синий цвет духовности?
– А я жажду духовности? И почему вы взяли красную?
– Что означает красный?
– Ярость, похоть.
– Шутите?
Они молчат, улыбаясь почти интимно. Джордж чувствует, даже если двусмысленность – не самый удачный путь к взаимопониманию, все равно, взаимо-непонимание, готовность противоречить – тоже своего рода вид близости. Кенни расплачивается за точилки, мимолетным почтительным жестом прощается:
– Увидимся.
И уходит прочь. Джордж медлит в магазине несколько минут, чтобы не показалось, будто он его преследует.
Если прием пищи считать таинством, тогда столовая кафедры сравнима с самым аскетичным из домов собраний квакеров. Никаких поблажек во имя создания уютной, возбуждающей аппетит обстановки единения. Это антиресторан. Слишком стерильные столы из хрома и пластика, слишком опрятные бурые металлические контейнеры для использованной бумажной посуды и салфеток. А если сравнивать с шумом студенческой столовой, здесь слишком тихо. Тишина тут безжизненная, стеснительная, неуклюжая. Нет даже чего-то подавляющего или впечатляющего, вроде высоких подиумов Оксфорда или Кембриджа, где обедают почтенные знаменитости. Здесь почти все сравнительно молоды; Джордж один из старейших.
Боже, как грустно. Так грустно видеть на их лицах, особенно на молодых, этот мрачный, подавленный взгляд. Они настолько недовольны жизнью? Конечно, им мало платят. Конечно, здесь нет никаких материальных перспектив. И конечно, вероятность сойтись с сильными мира сего равна нулю. Но разве общение со студентами, пока еще на три четверти полными жизни, – не компенсация? Приносить пользу здесь, а не заваливать потребителей грудами ненужного барахла? Неужели принадлежность к одной из немногих не погрязших в продажности профессии в этой стране ровным счетом ничего не значит?
Для этих унылых лиц, очевидно, нет. Многие бы ушли, если бы решились. Но они для этого учились, теперь тянут лямку. Они израсходовали то время, когда надо было учиться врать, хитрить и хапать. Исключили себя из большинства – маклеров, спекулянтов, толкачей, – обретая сухие, сомнительных достоинств знания; сомнительные для маклеров – они без них обходятся. Маклеру подавай материальный результат этих знаний. Какие простаки, профессура эта, скажет он. Какой смысл в знаниях, если из них нельзя делать деньги? И наши унылые коллеги отчасти согласятся с этим, слегка стыдясь того, что не такие крутые и прожженные.
Джордж идет по залу. На стойке выставлены дымящиеся чаны, откуда официантка накладывает жаркое, овощи или суп. Можно взять салат, фруктовый пирог или странное, жутковатого вида желе с изумрудно-зелеными прожилками. Вот на это желеобразное нечто, словно загипнотизированный аквариумной рептилией, глядит Грант Лефану, молодой преподаватель физики, увлекающийся поэзией. Грант не из унылых, не из тех, кто сдается; Джорджу он, пожалуй, нравится. Он невысок и тонок, носит очки; дурная улыбка истинного интеллектуала обнажает крупные зубы. Его легко представить террористом царской России лет сто тому назад. Случись так, он мог бы стать фанатичным борцом за идею, без колебаний применяющим теорию на практике. Полночные речи бледных фанатов, студентов-анархистов с горящими глазами, под чаёк и сигареты при запертых дверях наутро обернутся брошенной бомбой под горделивые лозунги юного идеалиста-практика. А затем его, блаженного, хватают и волокут в застенки, под пули карательного отряда. На лице у Гранта часто блуждает странная, почти смущенная улыбка, когда ему случается излагать свои взгляды необдуманно – как если бы вечный молчун вдруг в отчаянии выкрикнул что-то во весь голос.
Между прочим, недавно Грант совершил небольшой подвиг. Выступил как свидетель защиты в суде по делу одного книготорговца, обвиненного в продаже знаменитой порнографии времен двадцатых годов. Раньше эта продукция была в ходу только в странах романских культур, но теперь, после нескольких пробных попыток, пытается закрепиться и среди американских юнцов. (Джордж не вполне уверен, что именно эту книжку он сам читал в поездке в Париж в юные годы. Но точно помнит, что ее, или подобную, он отправил в мусорный бак на странице с жаркой сценой совокупления. Не по причине недостаточной широты взглядов, – конечно, пусть себе пишут о гетеросексуалах, если хотят, а те, кому надо, пусть это читают. Но все же это смертельно скучно и, откровенно говоря, немного безвкусно. Разве современные авторы не могут писать на такие старые добрые темы, как, например, любовь юношей?)
1
Гор Видал (1925–2012) – писатель, драматург, близкий друг Кристофера Ишервуда. – Примеч. ред.
2
172 см. – Примеч. ред.
3
В то время главным образом среди студенчества существовало такое эпатажное течение, как стрикинг (streaking) – бег в обнаженном виде в общественном месте в знак протеста против условностей. – Примеч. пер.
4
В 1959 году в Кембридже английский писатель, ученый и публицист Чарлз Сноу произнес свою знаменитую речь «Две культуры», в которой противопоставил друг другу традиционную для европейского Запада гуманитарную культуру и новую «научную культуру», порожденную научно-техническим прогрессом. – Примеч. пер.
5
Речь идет о романе О. Хаксли «Через много лет», где эпиграфом стали слова из Теннисона: «Деревьев жизнь пройдет, леса поникнут, / Туман прольется тихою слезою, / И пашня примет пахаря в объятья, / И лебедь через много лет умрет». – Примеч. пер.
6
Праворадикальная политическая группа в США, стоящая на платформе антикоммунизма, ограничения влияния государства, конституционной республики и личных свобод. – Примеч. пер.
7
Кокни (англ. cockney) – один из самых известных типов лондонского просторечия, на котором говорят представители низших социальных слоев населения Лондона. Горбалз (англ. Gorbals) – крайне нереспектабельный район Глазго. – Примеч. пер.
8
Фрэнсис Куóрлс (1592–1644) – английский поэт, хронист Лондона. – Примеч. пер.
9
Ом – в индуистской и ведийской традиции – сакральный звук, «слово силы». Часто интерпретируется как символ божественной триады Брахмы, Вишну и Шивы. – Примеч. ред.