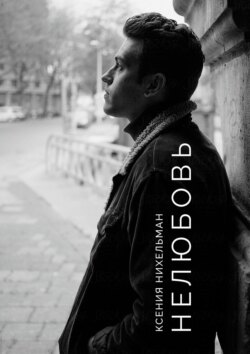Читать книгу Нелюбовь - Ксения Нихельман - Страница 2
ОглавлениеВот бывает же, видишь человека и понимаешь – он твой. Так вот, Он – мой человек. Я сразу это понял, едва увидел Его. Нам было лет по десять – одиннадцать, когда Он с родителями переехали в наш дом. Я спускался со своего четвертого этажа на улицу, во двор, чтобы погонять с местными мальчишками в футбол. На пролете между четвертым и третьим этажами я остановился и прислушался. Невнятные голоса, новый запах. Нет, неверно, запах новых соседей, вот как. Все соседи пахнут по-разному, есть вонючие, а есть вкусные соседи. С этими я еще не определился, но аромат мне нравился, сладкая пудра. Наверное, Его мать пользовалась той же косметикой, что и моя, хотя, может быть, все женщины пользуются одной и той же косметикой, откуда мне знать? Никогда данным вопросом не интересовался.
Я решительно спустился на несколько ступенек вниз, мне было чертовски любопытно. Вся площадка третьего этажа заставлена мебелью, коробками, три больших чемодана. Рядом мужчина с усами, могущественные, надо заметить, усы. Если бы я на тот момент был двумя-тремя годами помладше, то, клянусь, решил бы, что наш новый сосед – Якубович, а в чемоданах и коробках – подарки участников игры. И женщина, очень миловидная, ее черты лица мне сразу же приглянулись. От нее исходило какое-то тепло, в этот миг я представил, как безумцем несусь к ней навстречу и падаю в ее объятия. Очень неловко и стыдно, но, даже видя эту женщину впервые и абсолютно ее не зная, я готов был представить ее в роли своей матери. Она стояла в дверном проеме и тихонько что-то приговаривала; было не разобрать, но по тому, как шевелились ее алые, не накрашенные помадой губы, я прочитал: «Давай, ну же, входи!» Опустив взгляд вниз, я увидел рыжего котенка. Тогда картинка для меня полностью сложилась. Переезд, кот, новая жизнь, новые надежды. Однако мне, десятилетке, стало грустно. Возможно, я уже тогда понимал, что ни новое жилье, ни дурацкие приметы «на удачу» не сделают счастливым. Больше, я разочаровался. Этот дурацкий рыжий кот все испортил, еще одни ненормальные соседи, каких и без них полным-полно в этом доме.
Я сделал еще пару шагов вниз по лестнице, и, наконец, они меня заметили: одновременно подняли головы и отступили назад, освобождая проход. И вот тогда я увидел Его. Такой же десятилетка, как и я, любопытный, задравши нос, пытается уловить запах новичка, подобно хитрому лису, чующему первые нотки грядущей весны. Я замер, не решаясь двинуться вперед, лишь сумев выдавить из себя: здрасьте. «Здравствуй!» – кивнули Его родители, а Он осторожно приподнял правую руку и помахал мне. На лице отразилась робкая, но дружелюбная улыбка. Его волосы, вот что я отметил сразу же, такой пышный волнистый пучок, слегка касающийся тонких плеч; они придавали Ему вид некой загадочности и недосягаемости. В нашем дворе мальчики с такими прическами не ходят, это же надо быть смельчаком, чтобы отпустить волосы чуть ли не до плеч. Во дворе мы все как один – «парикмахер дядя Толик, подстриги меня под нолик», либо острый и несговорчивый «ежик», либо неуместно торчащая челка из-под «ежика»: так ходим мы, так ходят наши отцы и так ходили наши деды. Поговаривали, что наши сыновья будут ходить точно так же, но в десять лет я мало об этом задумывался. В эту минуту я думал о двух вещах: через сколько дней Его побьют за пидорскую прическу и что мне необходимо сделать, чтобы стать Его единственным другом. Я даже поразмыслил, не побить ли мне Его первым? Уж что-что, а драться я умею, это каждый во дворе знает.
– Как тебя зовут? – женщина обращалась ко мне.
Я, неуверенно:
– Марик.
– Марик? – типично женская улыбка умиления тронула ее губы.
– Марк.
– А это наш сын, – она назвала Его имя, – вот здорово, может, вы подружитесь? А, Марк? Как думаешь?
Я растерянно пожал плечами. Мол, не знаю, не знаю, все в этом мире так неустойчиво и неопределенно, хотя на самом деле умирал от желания схватить за руку ее сына и утащить во двор, поставить на ворота и отработать на Нем свои фирменные удары. Мимолетно я глянул на Его ноги, спичками растущие под шортами цвета хаки. Тощие, наверняка слабые. Точно вратарем будет.
– Может быть, – ответил я.
И поплелся вниз. Напоследок я обернулся: по мне скользил точно такой же оценивающий взгляд. Он оценивал меня, выяснял, подружимся ли мы, подхожу ли я Ему? И внезапно, под этим пристальным и колким взглядом, я устыдился. Чего? Вероятнее всего, самого себя, своих неуклюжих рук и ног, своей идиотской короткой стрижки.
Этим же вечером, когда я сидел в своей комнате и листал журнал с картинками крутых автомобилей, до блеска отполированных, скользких, обтекаемых форм, мать из кухни проорала:
– Марик, вынеси мусор!
– Щас, – крикнул я, перелистнув страницу.
– Не «щас», а сейчас же!
– Ага.
– Не «ага», а «да»! Сколько можно тебе это твердить?
Разъяренная она залетела в мою комнату. Уперла руки в бока, нацелила волевой подбородок. Кстати, подбородком я пошел весь в мать, у отца лицо узкое и острое, как хлыст, как ремень, которым можно схлопотать по заднице, если с первого приказа не поднимаешь ее со стула и не тащишь к мусорным бакам. Но у меня, к несчастью, волевой подбородок, и потому я сказал:
– Две странички осталось, мам.
– Мусор надо вынести из дома до шести вечера, иначе деньги в доме водиться не будут!
Я тяжело вздохнул. Если честно, то это уже доконало.
– Ты мне повздыхай еще тут! – она схватила журнал и швырнула его в угол комнаты.
Раздраженно я поднялся, взял в одну руку пакет с мусором, в другую ключи от квартиры.
Спустился на третий этаж и невольно ухом приник к двери новых соседей. Тишина. Интересно, чем они там занимаются? Я принюхался. Нет, никаких признаков приготовления ужина. Выносят ли они мусор до шести? Кто из них это делает, родители или Он? Со слабой надеждой я начал фантазировать: вместе мы идем к мусорным бакам, у каждого пакет в руке, я говорю Ему «привет», Он мне «привет», свободной рукой откидывая нависшие на глаза волосы, и вот мы уже дружим, ходим друг к другу в гости, вместе разглядываем офигенные тачки, строим шалаш и играем в мяч. Стандартный набор для мальчика. Я тряхнул головой и пошел прочь, покрепче ухватив свой раздутый пакет, потому что, по правде говоря, ни о чем таком не думал, ни о мяче, ни о шалаше. Я думал только о Его кудрявых волосах и тощих ногах.
***
– Ну сколько можно говорить?! Марк! Неужели так сложно запомнить: опускать за собой крышку унитаза!
При звуках материного голоса я сжался, сгруппировался в квадратную коробочку, защищая жизненно-важные органы.
– Иди сюда! – скомандовала она. – Быстро!
Послушно я добрался до туалета. Как в тумане, потому что старался глядеть себе под ноги.
– Вот что это? – пальцем она указывала на не опущенную крышку.
– Извини, мам, я забыл.
– Вечно ты забываешь, весь в отца. У того тоже с памятью все плохо. Как пиво лакать с мужиками в гараже, так он помнит, а как дома крышку унитаза опускать – никто не помнит. Смотри сюда, сказала. Раз, и крышка внизу, одно движение! Тебе необходимо запомнить одно-единственное движение! Это необходимо, чтобы денежный поток не уходил… – она сделала размытый жест рукой, типа «вжик», – из дома. Понятно?
Моя мать. Моя мать.
– Да, мама.
– Надеюсь, ты запомнил.
Разумеется, я запомнил! И вообще, не я последним посещал уборную, а отец! Но он уже испарился из дома и спрятался в своем гараже, где, как выразилась мать, лакал пиво.
У моего отца твердая жизненная позиция: мужик – это железо, железо – это мужик. Железный мужик. Если ты проводишь свободное от работы время не в гараже под ржавым днищем своей «пятерки», не под ее капотом, не ласкаешь ее поверхность мягкой ветошью, и у нее не блестит натертый руль, то ты не мужик, а, вероятнее всего, баба без яиц. Твой гараж обязан быть забитым доверху автозапчастями на всякий пожарный случай, потому что только бабы чинят свою машину у «леваков»; настоящий мужик собственными голыми руками проникает в автоорганизм, как опытный и внимательный хирург, чик-чик ножницами и тут же, шить, сестра, но при этом никаких баб! «Чтоб телки ни на метр не приближались к гаражу!» – учил меня он.
Спешно я окинул взглядом мать, уже склонившуюся над маленьким настольным зеркальцем. Сидит на узкой табуретке, поджав одну ногу под себя, сгорбилась, рот открыт, красит черной тушью левый глаз. Затем правый. На черта? На ресницах остаются крохотные черные комочки, ресницы слипаются, когда мать моргает ими, будто намеревается взлететь. Смотрит на себя в зеркало, улыбается. Типа красавица.
– Нечего пялиться на меня, – сказала она, проводя по нижней губе кончиком красной помады, очень яркой. Как дорожный конус в солнечный денек. Железный человек и дорожный конус. – На что ты уставился?
Мать усмехнулась. Тебе нравится помада? – хлопая слипшимися ресницами. Только девочкам нравится косметика, а ты же не девочка, Марик, ты мальчик, потому нечего на меня глазеть с открытым ртом.
Ну да, ну да, куй железо, пока горячо. Я развернулся и пошел прочь, по пути прихватив мячик.
– Можно погулять? – спросил я.
– Увидишь отца и с ним же зайдешь домой, понял? И никаких «можно еще полчасика».
Выйдя из квартиры на лестничную площадку, я наконец-то вздохнул полной грудью. Я еще не понимал, отчего мне так тяжело дышать дома, будто в нем какой-то газ ядовитый разлит по воздуху. Он отравляет меня, душит. Как в нашей «пятерке» – стойкий запах бензина, запах старого металла. Когда мы куда-то едем, меня всегда укачивает или тошнит от него. Когда я не выдерживаю и быстро затыкаю рот ладонями, отец ругается, со скрипом выкручивает руль и останавливается у обочины. Тут же я вылетаю на свежий воздух под брань отца «дверь, бля, попридержи, оторвет же!», и меня выворачивает наизнанку. Я вытираю рот, сажусь обратно, и машина трогается с места. «Ты че, так всю жизнь блевать будешь?» – я вижу недовольный взгляд отца в зеркале заднего вида.
Пробегая мимо третьего этажа и украдкой бросая взор на дверь новых соседей, с досадой я понял, что уже прошло больше двух недель, а мы с Ним так и не познакомились. Нужно принимать срочные меры.
Немного нерешительно я приблизился к двери, потоптался с ноги на ногу и занес руку к звонку. Моя недавняя победа: я стал дотягиваться до дверного звонка. Обычно я умел только стучать в дверь, бам-бам-бам, а такой-то-растакой-то выйдет погулять? Нет, не выйдет, нечего стучать в дверь, пошел отсюда, мальчик!
Я позвонил, очень коротенько. Не «бзззз», а «бз». Трусовато получилось, но я принялся ждать.
Дверь открыла Его мать, в легком платье цвета голубого неба с тонким ремешком на талии. Пару секунд концы ремешка покачивались и успокоились.
– Привет, Марк! – сказала она.
Я растерялся. Это было весьма неожиданно, я даже и думать не смел, что они помнят мое имя. Не Марик, а Марк, прямо как взрослому.
Назвал Его имя, вышло нервозно, из-за чего оно вылетело корявым звуком. А Он выйдет погулять?
Для показушной уверенности я выдвинул вперед себя мяч и легонько стиснул его пальцами. Наверное, даже покраснел как рак. Черт бы побрал мою стеснительность! Я робел перед людьми, которые пытались разговаривать со мной по-нормальному, по-человечески. Порой мне казалось, что я забываю человеческий язык, и слова ворочаются во рту, как неповоротливые булыжники, непослушный язык прилипает к нёбу, а зубы стальными ставнями крепко-накрепко сжимаются.
– Конечно, выйдет! Подожди Его во дворе, – ответила она и улыбнулась. Искренне, тепло, миролюбиво.
Окрыленный надеждой, я выскочил во двор. Был август, последний месяц школьных каникул. В этом году я переходил в пятый класс и слабо надеялся, что Он тоже отныне будет ходить в мою школу. Подумать только, каждое утро мы будем видеться, вместе идти до школы извилистыми дворовыми путями. А если Он попадет в мой класс? На этой мысли у меня поджилки затряслись, и я остановился прямо посредине улицы – ни дать ни взять сама статуя. Ух, сколько всего интересного пророчил бы наступающий школьный год! Грея мысль, я принялся набивать удары мячом то левым, то правым коленом. У меня неплохо выходит подобное, ударов десять на каждую точно приходится, вот бы Он увидел это! Представляю, выходит Он из подъезда, а тут я, бац, бац, бац правым, бац, бац, бац левым, и все без продыху.
– Привет, – раздалось у меня над ухом, отчего я вздрогнул и неуклюже согнул ногу в колене. Мяч лишь мазнул по лодыжке, стукнулся об асфальт и покатился.
– Держи его! – вскрикнул я и бросился за мячом, которому хватило минуты, чтобы закатиться под соседскую машину.
– Блииин! Блииин! Блииин!
В одночасье у меня кончился весь словарный запас. Всем телом я плюхнулся на асфальт, явно не замечая, что содрал кожу на коленях, и потянулся рукой за мячом. Далеко. Надо лезть.
– Давай я, – предложил Он.
Я что, сказал это вслух?
– Я меньше тебя. Может, получится.
И Он полез. Раскорячился на асфальте в своих шортах цвета хаки, в которых был тогда на лестничной площадке, и черной футболке. Тощие ноги, как у неопытного лягушонка в первом плавании, растопырены в стороны, худые и острые лопатки натянули футболку, а волосы на затылке смешно приподнялись. Ловкач, Он дотянулся до мяча и с силой толкнул его кулаком вперед, отправляя из заточения на свободу. Обратно Он выбирался с той же неуклюжей грацией, отчего локтем едва не заехал мне в глаз.
– Вот и все, – Он показал мне свою улыбку с плохо намеченными ямочками на щеках. Будто легкая тень пролегла в уголках губ. Неуловимое, но притягательное, обыкновенное, но волнующее.
Честно говоря, хоть убей, но я не помню, сказал ли Ему спасибо за это? Голова опустела настолько, что я собственное имя позабыл.
– Ох, смотри, ты коленку разбил!
Приподняв и вытянув ногу, я заметил ссадину, небольшую, типичная детская травма: кровь и грязь, и как обычно, все вперемешку. Да и надо признать, на ногах у меня живого места нет. Моя мать говорит, что это все оттого, что я родился не как все нормальные дети головой вперед, а ногами. А отец добавляет, что у меня все через жопу. Я неусидчивый, не могу подолгу стоять на месте, чтобы не запрыгать, не забегать, не вертеться как веретено. Мне нравится, когда мои ноги в движении, несут меня куда я только пожелаю. Наверное, ноги – единственное, что в моей власти, единственное, чем я могу распоряжаться.
Мы подняли мяч и направились к детской площадке, где было типа футбольное, типа хоккейное, типа волейбольное поле. Какие-то две копуши с одинаковыми хвостиками на голове там уже прыгали на скакалках. Семилетки, малявки, короче.
– Свалили отсюда, – уверенно сказал я и скосил на Него глаза, что левый глаз чуть не вывернуло наизнанку.
Девчонки что-то затараторили, одна, самая борзая, даже чуть не накинулась на меня, откинув свои хвостики назад.
– Ты че, мелкая, – начал я, нетерпеливо постукивая пальцами по мячу, тем самым показывая, что время тик-так тикает, а поле до сих пор несвободно. Я чувствовал силу, превосходство. Над кем? Над девчонками, разумеется. Главное, чтобы эту силу видел Он. Он должен знать, с кем теперь дружит, должен радоваться этому обстоятельству. Ну а как иначе?
– Да брось, – неожиданно сказал Он, – тут всем места хватит. Поле большое.
– Что? – не веря собственным ушам.
– Пошли туда, на тот край, а девчонки пусть тут играют.
Серьезно, что ли? Спокойно Он забрал из моих рук мяч и неторопливой походкой поплелся вперед. Нет, вы это слышали? Для кого я тут распинался, а?
– Придурок, – шикнула девчонка с откидными хвостиками.
– Сама такая, – ответил я.
Пока мы добирались до противоположного края поля, я не сводил глаз с Его ног. Под коленками гладкие и загорелые. Я же был смуглым на одну четвертую: когда я раздевался догола, то было хорошо видно, что в шортах и футболке я провел все свое лето. Не выдержав, я отвернулся в сторону.
Он сразу же встал на ворота и кинул мне мяч, не пнул, как подобает, а кинул.
– Ну… Ты это… ловить мяч умеешь? – только и сумел выговорить я.
– Попробую. Если не получится, то ты меня научишь?
Вот же поворот! Неожиданно.
Мы принялись делать первые неумелые шаги в игре, я осторожно подавал, Он принимал. Не знаю, сколько прошло времени, но игра прекратилась только тогда, когда по двору прокатился отцовский крик:
– Марк, домой!
– Вот же, блин, папка из гаража вернулся! – впопыхах я схватил мяч и уже было метнулся в сторону дома, но что-то меня остановило. Он продолжал стоять на воротах, немного уставший, с нависшими на глаза прядями волнистых волос, прижимая ступню левой ноги к ягодицам, как это делают настоящие спортсмены, растягивая мышцы. – Завтра… это… поиграем еще?
– Давай, – ответил Он и слабо улыбнулся.
Я быстро добежал до отца, прямо как пуля, пущенная из самого крутого оружия. Мне было очень жарко, я весь горел, и от этого мне было очень хорошо: не помню, где прочитал, но я был похож на полыхающий лес, который горит, чтобы возродиться заново.
На минутку – всего-то! – я обернулся и поглядел в Его сторону. Он все еще стоял на том же месте и рассеянно озирался по сторонам, как какое-то сонное создание, ну или создание из сна, не уверен, как правильно. И во мне засияло одно крохотное желание, оно осторожно вынуло свою голову из пламени, подталкивая меня поднять руку и помахать Ему, как сделал Он в первый день нашей встречи.
– Кто такой? – вдруг спросил отец, проследив за моим взглядом. От отца пахло бензином и пивом, слишком тошнотворно.
– Новый сосед, с третьего этажа, – очень смущенно ответил я.
Отец хмыкнул:
– Придурочный какой-то. С такой-то прической, как у бабы.
И огонь в душе моей мгновенно погас…
Этим же вечером, лежа в своей постели, в уме я перематывал весь день. О закрытую дверь комнаты бился громкий звук, исходящий от телевизора. Отец смотрел свои фильмы. Пулеметная очередь, взрывы, визг колес и нескончаемое повторение гундлявым мужским голосом «вот же дерьмо!». Я натянул на голову одеяло, чтобы ничего не слышать и сосредоточиться, в конце концов, уже на том, как я себя сегодня повел. Отчасти я был крут, ну, когда разобрался с девчонками и выбил нам место на поле. Да я и отлично подавал штрафные, что тут можно сказать… но… за все время нашей игры я не сказал ни слова. Мы молчали оба, вернее, Он пару раз пытался что-то спросить, а я отмалчивался, стеснялся. «Вот же дерьмо!» – в сотый раз повторил голос. Это точно, выдохнул я и с силой ударил рукой по кровати.
Внезапно звук переменился; с пулеметной очереди на стоны, женские. Вот же дела! Мгновенно я высунул голову из-под одеяла и насторожился, как-то прям нездорово оживился. Громче и громче! В животе мне стало… неприятно, неспокойно. Послышался мамин голос, она заорала на отца, что тот вконец обнаглел, при живой жене-то! Неизвестная женщина из телевизора выпустила свой последний, истошный стон, и пулемет как ни в чем не бывало продолжил свое «тра-та-та-та-та». «Дерьмо» – на этот раз прозвучало как мое спасение.
***
Новость, что Он будет ходить в мою школу, невероятно обрадовала меня; у меня даже не получилось скрыть искренней улыбки. Вот только Он почему-то расстроился.
– Почему? – спросил я, чувствуя, как внутри растекается грусть-тоска смертная.
– Мне нравилась предыдущая школа.
Да – да, я уже был в курсе, что Ему нравились предыдущая школа, предыдущий район и их старенькая тесная квартирка.
– Там было здорово, – сказал Он, – может, как-нибудь съездим туда?
– Одни? – я, честно сказать, испугался.
– Ну да, а что тут такого? Предупредим родителей, это же на самом деле ненадолго, туда и обратно.
Он заметил, что я замешкался, сузил свои глаза под нависшей челкой в неверии. Наверное, думает, что я трус.
– Давай, – промямлил я.
Умру, но никогда не скажу Ему, что за все десять лет жизни не выбирался никуда из своего района, ну чтобы, так сказать, не по делу. Школа, работа, магазин под боком, говорил отец, зачем куда-то еще ходить? Мы даже в центре города не были. Говорят, там есть памятник Ленину, но только я его ни разу вблизи не видел. На «пятерке» мы ездим на наш огород – маленький клочок земли на пустыре, разлинованном, как рубаха в клетку, на точно такие же маленькие клочки. Весной мы мчимся объездными путями, поднимая вверх взбесившуюся пыль с земляных дорог, потому что отец не выносит город с его движением. Одни дебилы там носятся, говорит он. Обычно я сижу на заднем сидении в окружении ящиков с рассадой, на коленях у меня тоже ящик, а ярко-зеленые стебли побегов помидоров лезут мне в нос и глаза. В конце лета, все теми же путями, мы мчимся с ведрами, полными помидоров и огурцов, на коленях у меня ведро с огурцами, в «пятерке» духота, что потеют даже овощи, потому что окна наглухо закрыты: «Куда ты, епта, окно открываешь? Сейчас вся пыль в машине будет!» – орет отец. В начале осени сценарий тот же. Земляные дороги, духота, я на заднем сидении вместе с мешками картошки. Из чего ясно – я просто обожаю зиму.
– Говорят, настоящий зоопарк к нам приезжает, – неопределенно сказал Он, отчего я не до конца понял, это факт или вопрос.
– Настоящий? Как это? – усмехнулся я. – А что, бывает ненастоящий?
– Ну, в смысле большой! Зверей много всяких разных. В прошлом году приезжал другой зоопарк – маленький, всего-то обезьянки и попугаи. Ты же видел его?
Мой фирменный жест: пожатие плечами, мол, может, видел, может, не видел, я вне всех этих формальностей. Разумеется, я не видел, потому что «Ты че, зверей никогда не видел? Да и на кой хрен куда-то идти, чтобы смотреть на каких-то обезьян, если у нас весь подъезд ими заполнен?»
– Сходим в зоопарк до школы? – предложил Он.
Секунду-другую я колебался. Что я скажу родителям? Ведь мне придется просить деньги на билет, а когда они спросят, для чего, что ответить? На обезьян? Скажу правду, то век мне лопатить на огороде, отрабатывать. Черт с ним, была не была.
– Сходим.
Деньги мне дала мать, копейка в копейку.
– Вот на билет, а вот на поездку. И так щедро обошлось! На каких-то обезьян столько денег отвалить, подумать только! Неужели по телевизору их нельзя посмотреть?
Я молча стоял и ждал, пока она отсчитает нужную сумму и передаст мне. Ее густо накрашенные ресницы хлопали со скоростью звука в порыве ярости, а губы морковного цвета устрашали волевой подборок, нацеленный на меня, покусившегося на семейный бюджет. Мать всегда была накрашена, с самого утра до самой поздней ночи. Она типа красавица у нас. Если бы мусор выносил не я, а она, то к мусорным бакам она приходила бы при полном параде.
Наконец она вложила мне в ладонь деньги, и я их крепко сжал. Тысяча страхов прокатилась волной во мне: от страха, что отец узнает, что мать знает и теперь при любом удобном случае будет высказывать, что за мной должок, до страха, до самого главного страха – я иду в зоопарк с Ним.
Я нарядился в свои лучшие шорты и футболку, пригладил ладонью немного отросшие волосы на голове. Совсем чуть-чуть, но из-за этого менялся весь вид в зеркале. Я перестал походить на шпану дворовую. Не знаю, нравилось мне это или нет, но поймал себя на мысли, что любуюсь собой. Впервые. Прямо как девчонка, как мать, которая постоянно смотрится в зеркало, а это неправильно, противоестественно. Я не должен любоваться собой, потому что я же мальчик, будущий мужчина, только девчонки любуются собой.
Пружинкой отпрыгнув от зеркала, в три скачка я оказался у входной двери и, прикрикнув, что уже ухожу, выскочил на площадку. Дверь за мной «щелк», ключ в скважине «чик-чик», и вот они – приключения. Славный день, воистину славный день намечается!
Спустившись на третий этаж, я остановился и сделал глубокий вдох и глубокий выдох. Конечно же, я волновался. Еще бы! Надавил на кнопку звонка – «бззз». Еще не длинный, но уже не такой короткий. Очевидно же, что я стал чертовски смелее.
Дверь открыл Он. При полном параде… Светлые брюки, рубашка с коротким рукавом. Я ощутил, как медленно, словно скрюченная спичка, тускнею на Его фоне.
Спешным шагом мы направились к остановке, влезли в троллейбус и заняли самые высокие места в конце. Я взгромоздился у окна, Он рядом, плечо к плечу, бедро к бедру. Слишком близко, что у меня перехватило дыхание. Я отодвинулся поближе к окну, всего-то на пару сантиметров, но разница была ощутимой и громадной, будто между нами зияет целый метр!
– Смотри, счастливый билет! – вытянув длинную шею, Он глядел в мой билет и широко улыбался.
– Что?
– У тебя счастливый билет!
Господи, только этого мне сейчас не хватало.
– И что? – злобно ответил я.
Обескураженный моей злобой, Он сник. Я прямо увидел, как Его плечи беспомощно опустились вниз, превращая Его в маленького-маленького мальчика.
– Слушай, все эти… ваши приметы, – слово «ваши» я особенно выделил голосом, – коты в новой квартире, счастливые билеты, крышка унитаза…
– Крышка унитаза? – вполголоса переспросил Он, словно я сказал какую-то ерунду.
– Ну да, разве не чушь?
– Хочешь сказать, мой кот – чушь?
– Я ничего не говорил про Твоего кота, я вообще о котах… ну о тех котах, которые удачу приносят. Разве может кот принести удачу?
– Мой – может! – и Он отвернулся от меня. Его волосы на затылке презрительно качнулись, даже сквозь рокот мотора троллейбуса я отчетливо расслышал, как они прошелестели: «Ты, Марик, дрянной мальчишка».
Теперь же мы сидели спина к спине, как враги, нет, хуже. Как лучшие друзья, ставшие врагами. «Ну и дерьмо!» – прозвучало у меня в голове гундлявым голосом. Уныло я стал глядеть в окно, на проезжающие мимо машины, такие крошечные по сравнению с троллейбусом. Неужели мы поссорились навсегда, навеки вечные? А если Он теперь бросит меня и начнет дружить с другими ребятами? Я разозлился. Ну уж нет! Благодаря мне Он живехонек-здоровехонек по двору ходит со своей девчачьей прической, ни один волосок с Его несчастной головы не упал, ни один! А все почему? – правильно, Марк. Марк сказал, что любому, кто сунется, в глаз даст, Марк дал в глаз. Как только сойдем на остановке, решил я, сразу же дам Ему в глаз. Вот так.
Неожиданно Он тронул меня за плечо, отчего я вздрогнул.
– Марик? – позвал Он.
– Чего тебе?
Его глаза, живые, блестящие, наполненные грустью, пробили прямой путь к моему сердцу. «Марик».
– Ты это… короче… извини меня, – выдавил из себя я. Очень сложно говорить «извини меня». Особенно в десять лет, по крайней мере, мне так казалось. – У тебя самый лучший кот. В мире.
Он улыбнулся, и на душе у меня потеплело. Мы снова друзья, лучшие, черт возьми.
– Так что там с крышкой унитаза? – уже спускаясь на нижнюю ступеньку троллейбуса и выпрыгивая на остановку, поинтересовался Он с ехидной улыбочкой, что, краснея и потея во всех местах одновременно, мне пришлось рассказать Ему эту горькую правду.
– Серьезно? – расхохотался Он. – Шутишь?
– Нет, не шучу! – мне как раз смешно не было нисколечко. – Почти каждый раз она заходит после меня в туалет, чтобы проверить крышку! Ну и… проверяет, сколько я использовал туалетной бумаги…
– А это еще зачем?
– Ну типа… денег нет… все такое… Чтобы экономить бумагу.
Мне показалось, Он остолбенел прямо посередине оживленной улицы: глаза расширились, не моргает, все смотрит и смотрит в упор на меня.
– Иди ты… – то ли восторженно, то ли недоверчиво.
– Представь, – с горечью вздохнул я. – «Ну-ка, Марик, давай-ка с тобой посмотрим, что у нас на этот раз: крышка или километр использованной НЕБЕСПЛАТНОЙ бумаги?»
Я поморщился, когда уличный воздух напополам разломили Его громкий смех и голос матери, который я так максимально близко научился имитировать.
– Видишь ли, отец уже купил в этом месяце какую-то дорогую запчасть на «пятерку», а мы и так живем от получки до получки.
«От получки до получки» – материна фраза. И произнес ее, увы, я собственным голосом, а не голосом матери.
– Да-а, – протянул Он, положив ладонь мне на плечо, как это делают лучшие друзья, когда готовы разделить с тобой все что угодно, – не сладко тебе.
Первым, что я увидел, был памятник Ленину. Самый обыкновенный мужик в пальто, ничего особенного. Оказывается, я, собственно, ничего и не терял, когда не видел его. Но самое главное – из-за чего мы проехали половину города, чуть не разругавшись, – находилось под памятником. Клетки, клетки и еще раз клетки. Большие и маленькие фургончики, в которых – либо метались как бешеные, либо будто напичканные снотворным – были животные.
Животных и людей отделяли барьер в виде веревки с накинутой на нее предупреждающей табличкой и железные прутья клетки. Несмотря на все преграды, мне все равно было не по себе. Беспокойный медведь, что ходил туда-сюда в тесной клетке, задевая боками прутья и угрожающе пофыркивая.
– Эта клетка такая же тесная, как и наша старая квартира. Мы втроем в одной комнате.
– Знаю, – сказал я и зачем-то, правда-правда, не знаю зачем, дотронулся до Его руки. Очень слабо, едва ощутимо, но этого стало достаточно, чтобы узнать какой бывает у Него рука в такой волнительный момент. – И Тебе там нравилось.
– Да, – кивнул Он, – только мы втроем, наша маленькая семья. В тесноте, да не в обиде, говорила мама.
И в Его взгляде заискрилось что-то такое, чего на тот момент я не знал, не обладал об этом необходимыми сведениями. Мне хотелось спросить, что Ты сейчас чувствуешь? Поделись со мной, расскажи, вложи в меня свой блеск… Но неожиданный порыв уступил место привычным стыду и робости, коими я был всегда переполнен, отчего я поскорее перевел взгляд в сторону измученных зверей.
Мы видели лису, рыжую и черную, полинявшего верблюда, павлина, уставшего тигра, повернутого к посетителям костлявым хребтом, – сколько времени мы пробыли в зоопарке, столько же времени он лежал на одном боку, так и не показав своей полосатой морды. Енота мы прождали около двадцати минут, а он все сидел в деревянной коробке, которая служила ему убежищем. Кто-то из толпы кинул в клетку какую-то еду, наверное, это был кусочек фрукта или овоща, но выманить зверька все равно не получилось.
– Нет там никакого енота, – крикнули из толпы. – Расходимся.
И толпа постепенно стала рассасываться, разбредаться в разные стороны, позабыв о бедном еноте; какой-то мужчина небрежно скатал шарик из билета и бросил его на землю, под ноги другим недовольным, женщины тащили своих заплаканных детей за руки, бросая гневные взоры на клетки.
В этот миг я почувствовал себя частью… я долго в уме подыскивал подходящее слово, хотя нужное и вертелось постоянно на языке, просто оно мне не сразу понравилось. Я почувствовал себя частью зоопарка, одним из тех несчастных одиноких зверьков, что забился в непроницаемом домике. Уходите, мне хотелось закричать, уходите и не смотрите на меня! Оставьте меня в покое!
Наверное, Он тоже почувствовал что-то такое, раз взял меня за руку. Ему было жаль, что Он привел меня сюда, было жаль, что Он весь такой из себя стоит разряженный посреди этого животного страха и ужаса. Ему было жаль меня.
– Пойдем домой, – сказал Он, и я пошел за Ним. Рука в руке, я смотрел на Его решительный затылок и втайне раскрывал самому себе свой же секрет, что мечтаю, чтобы однажды меня взяли за руку и увели отсюда, мечтаю, чтобы этим кем-то был Он.
– Эй, мальчики, – над нашими десятилетними головами раздался взрослый мужской голос. – С обезьянкой сфотографироваться не желаете?
Маленькая обезьянка с изумрудным мехом проворно прыгнула ко мне на плечо и по-хозяйски принялась трогать мои волосы, уши, нос. Признаться честно, я испугался; прыжок был очень внезапный.
– У меня нет денег для фотографии, – промямлил я.
– Это недорого, – отрезал мужчина, хозяин обезьянки. – Зато только у тебя будет такая фотография. Перед друзьями похвастаешься. Кто это рядом с тобой? Братик или дружок?
Меня оскорбило слово «дружок», отчего я мотнул волевым подбородком и попытался стащить с себя хитрую обезьяну. Но мужчина уже щелкнул фотоаппаратом, и у него в руках появился снимок.
– Я же сказал, что у меня нет денег! Платить не буду! – возмутился я.
– Мамку свою зови, сосунок. Пусть она платит.
– Нет у меня мамки…
Нашу перепалку прервал Его голос:
– Я заплачу, у меня есть деньги.
В троллейбусе, уже на обратном пути, я разглядывал свой снимок: не знаю, кто хуже получился, я или эта чертова обезьяна. Вид у меня был испуганный, что такой фотографией точно не похвастаешься. Вот же гад пронырливый!
– Не расстраивайся. Кто же знал, что он надует нас.
Всю дорогу Он пытался меня приободрить, но выходило у Него скверно. Конечно, не в Его же пышные волосы она вцепилась лапами, не Его уши чуть не оторвала. Я определенно загрустил.
– А Ты говорил, что у меня билет счастливый, – обиженно напомнил я.
В ответ Он лишь рассмеялся.
Дома я показал снимок матери. С минуту-другую она его разглядывала и вернула обратно, пожав плечами. Ну обезьяна и обезьяна, что тут нового? Или тебя я не видела? Тоже мне… На чьи деньги я сделал фотографию, она не уточнила: какая разница на чьи, если она точно знает, что не на ее.
***
В этот раз мать сказала, что мне требуется новый костюм в школу. Я слишком быстро расту, неодобрительно заявила она, с этой школой только деньги на ветер выбрасывать.
Она перебирала вещи в моем шкафу, заставляя меня примерять старые брюки, рубашки, пиджаки.
– Нет, ну посмотри на это! – ее палец строго нацелен на меня. – Все короткое, и штанины, и рукава. Ну это полный капец – новый год, новая форма.
Посоветовавшись, родители решили, что я вырос настолько, что необходимо ехать в магазин за новой школьной формой.
На самом деле в школе нас, учеников, не заставляли носить форму, ибо ее уже к тому моменту отменили; каждый был одет в то, во что одели его родители. Мои родители бессменно наряжали меня в черный костюм и черную рубашку, черный свитер под пиджак когда холодно. По их мнению, это было весьма практично: черное долгое носится, черное стройнит, черное подходит каждому нормальному мужчине, черное носит отец. По правде же говоря, на черном меньше всего видна грязь и со стиркой меньше хлопот.
Рано утром отец пригнал «пятерку» к нашему подъезду. Особый случай – поездка в магазин, не входящий в радиус нашего района. Почти событие для семьи. Отец остался в машине ждать нас с матерью, в открытое окошко попыхивая сигареткой.
С тоской я глядел в кухонное окно, сидя на табуретке в чистой одежде. Мне было жарко, у меня затекла спина, но мать обещала через десять минут собраться. Она докрашивала тушью правый глаз. До этого она дважды перекрасила левый, потому что первый раз – неудачно легла тушь, комочками, второй – она чихнула и все смазалось. Отстой какой-то. Впервые я поймал себя на остром желании оказаться в пропитанной мужским запахом бензина «пятерке», чем сидеть тут и умирать, умирать, умирать, глядя на то, как мать в сотый раз взбивает кудри, подкрепляя их объем лаком для волос. Ну и вонь же, ничем не лучше, чем бензин. Кстати, так же огнеопасно. Я проверял.
– Все, я готова! – пропела она.
Ну слава богу, подумал я, вскакивая с табурета.
Спускаясь через третий этаж, мать быстро кинула взгляд на дверь новых соседей. Она не очень любила общаться с соседями по подъезду, потому я с любопытством навострил уши – вдруг что-нибудь сейчас про них скажет? Я ловил любое слово, любой намек, любой краткий взгляд украдкой в их сторону! На этот раз мать промолчала, так и не подарив мне и доли бездушного счастья.
Наконец мы сели в машину.
– Чего так долго? – проворчал отец.
– Не сахарный, не растаешь! – любовным голоском протянула мать. Она пребывала в отличном настроении.
– Ну все, погнали! А ты, – отец поглядел на меня в зеркало заднего вида, – только попробуй облеваться снова! Высажу – пешком пойдешь!
Через открытое окошко отец смачным плевком запустил окурок. Я покрепче втянул свежего воздуха по самые легкие, надеясь продержаться так до конечной точки, и «пятерка», по-боевому рыча, тронулась с места.
Всю дорогу родители практически молчали, лишь изредка перебрасывались кое-какими фразами, типа асфальт паршивый, на улицах грязно, как в свинарнике, народ унылый. Подобные разговоры меня мало интересовали, потому что я все время находился в ожидании, томился своими скромными желаниями. Я хотел услышать слово, хоть словечко про новых соседей, вызвать недоступные образы из своей головы прямо сюда в «пятерку», на ее тугое скрипучее заднее сидение рядом со мной. Украдкой я рукой погладил пустующее место, как будто оно уже было острой коленкой… От одной этой мысли меня затошнило, и выученной за столько лет привычкой я прижал ладони ко рту, такому отвратительному, такому слабому, такому девчачьему, неспособному любить запах металла и бензина.
– Ну елки-палки! – заорал отец. – Ты че потерпеть даже десяти минут не можешь?
Отчаянно я замотал головой, успевая лишь судорожно сглатывать рвотные позывы.
– Бляяя… Под сидением бутылка с водой есть.
Бутылка действительно валялась под отцовским сидением, но воды в ней было всего пара глотков. Одним глотком я осушил ее, горячую, вонючую, противную.
– Марик, подыши глубже, – вмешалась мать, – носом… да, вот так, носом вдыхай, ртом выдыхай.
– Какой, нахрен, ртом выдыхай? Если он сейчас рот откроет, то загадит мне всю машину! Прижми ладони ко рту, слышишь, Марк?
Через целую вечность мы приехали. Я вспотел, и у меня тряслись ноги. Я кое-как выбрался из машины, мне не хотелось идти в магазин даже за новым костюмом, мне хотелось остаться на свежем воздухе и дышать, дышать, дышать.
– Ну и мужика ты мне родила…
– Из того, что ты мне дал, и родила. Будто я одна участвовала!
Мать обиженно фыркнула, а отец раздраженно выхватил из моих рук пустую бутылку, которую почему-то я до сих пор прижимал к груди, и со злостью швырнул на оживленный тротуар. Родители злились, и произошло это из-за меня. Из-за моей слабости. Мне хотелось убежать куда-нибудь, скрыться в безликой толпе.
В магазине родители шли впереди, они снова не разговаривали, только выискивали отделы с детской одеждой; заглядывали в них и обводили глазами товар со всезнающим видом. Не я выбираю себе костюм, а они мне. Моя задача заключалась в единственном: плестись позади и робко отвечать на заданные вопросы.
– Нравится такой?
– Ничего такой, – мямлил я. На деле же мне не нравилось.
– Нет, хрень какая-то.
– Ну-ка, давай вот этот примерь.
– Нет, снимай, черт знает что.
В последнем отделе мне совершенно случайно приглянулся один костюм, ничего особенного, но чем-то он меня зацепил. Цвет не слишком отличался от черного – темно-серый, но Я захотел его. Я даже как бы ненароком, втайне от родителей потрогал ткань. Мягкая, приятная, теплая. Краткий миг восторга.
Сзади подошла мать, ее взгляд упал на этот костюм, и от неожиданности и предвкушения чего-то несбыточного я задержал дыхание. Пожалуйста, пожалуйста.
Медленно она протянула руку, указательным и средним пальцами сжала ткань; проверка началась. Пожалуйста, молил я.
– Вульгарная дешевка, – заключила мать, – иди лучше вот это примерь.
Только тогда я заметил уже болтающийся на ее левой руке черный костюм. Черные брюки, черный пиджак и черная рубашка. Дома меня уже ждали черные трусы и носки. Наконец, собрав все свои силы в детский кулак, я вскинул волевой подбородок.
– Я хочу вот этот.
Мой палец дрожал, указывая на мечту.
– Ты ценник видел???
– Нет, – честно признался я.
Тут подоспел отец, уже покрасневший и вспотевший от душной магазинной жары. На лбу испарина, на рубашке круги от пота.
– Выбрали?
– Он хочет вот этот! – у матери округлились глаза до размеров отцовых кругов пота под мышками.
– Какой?
И мать показала. Не костюм, а ценник.
– Ты че охренел? Можно же два костюма купить! Да и какая разница, в каком костюме ты будешь жопой школьные стулья обтирать? Берем вот этот, черный, и точка. И так задолбало полдня ходить по магазину, таскаться с этой херней.
В последний день августа мы с матерью ходили в парикмахерскую. Она «ровняла кончики», меня же стригли машинкой.
– Давайте короче, – попросила мать, – а то через месяц уже отрастут. У Марка волос буйный, прям как трава луговая колосится.
Ужасное сравнение.
Я старался не глядеть на себя в зеркало. За июль и август, что махнули на меня рукой, волосы у меня отросли. Когда я проводил по голове ладонью, они не топорщились и не кололи кожу ладони. Волосы стали послушными, я больше не просыпался с утра с «ежиком» на макушке. Сам того не замечая, я пристрастился к новым ощущениям: всегда, когда подыскивался момент, запускал пальцы в шелковистый затылок. Меня это успокаивало. Но как-то за ужином мать спросила, что я все себя наглаживаю? Масла тебе не подлить, чтобы глаже было? Больше волосы я не трогал.
Пока жужжала машинка, а я тонул в пучине полного отчаяния, мать и парикмахерша щебетали. Мать говорила, что к ней в отдел женской косметики привезли новый товар, очень неплохой. Духи, сказала, неплохие есть и дешевенькие. Мать уже давно работала продавцом в отделе косметики, и все женщины с района отоваривались именно у нее.
– Заскочу как-нибудь, – ответила парикмахерша, выключая машинку для стрижки. – Ну вот, Марик, теперь ты на человека похож, а то отрастил лохмы.
Я же старательно не поднимал глаз на свое отражение. Мне не нужно было видеть собственное преображение: все самое страшное я понял по людоедским движениям лезвий и по холодку, гуляющему по почти лысой голове.
– Ой, он у нас связался с каким-то соседским мальчишкой, а тот, ты бы видела, лохматый как чучело. Да и вообще они придурковатые там все, у отца усы такие, знаешь, когда кусочки рагу в них можно прятать.
Обе рассмеялись, видимо, мать очень удачно пошутила.
– А она как мышь серая, ни разу ее накрашенной не видела. Прям святая простота. Вся такая натюрель, а сама бледная-пребледная. Ни грамма женственности.
Больше показушно, чем грациозно мать рукой откинула волосы с «ровными кончиками» назад, за плечи. На этот раз она вдобавок сделала какую-то процедуру на волосах, отчего те стали светлее. С новой помадой, сказала, будет в самый раз.
Когда мы шли домой, я строго держал голову вниз, буравя взглядом носки своих мельтешащих одним за другим ботинок. Кто-то из ребят со мной поздоровался, в ответ я же буркнул быстрое и абсолютно неприветливое «привет». Единственное, на что я был способен в данный момент, бросить все мысли на мольбу – лишь бы не встретить Его, лишь бы Он не увидел этого ужаса.
– Марик, ну что ты загрустил? – мать провела ладонью по моей голове, отчего я брыкнулся в сторону, как недовольный жеребенок. – Посмотри, как тебе хорошо! Красивый мальчик, все аккуратненько, все ровненько…
Дома же, у зеркала в ванной, я разглядел, как все ровненько и аккуратненько… На этот раз было короче обычного, сквозь темные обрубки так называемых волос проглядывала бледная противная кожа, на левой стороне головы я разглядел мерзкого вида родинку… Я заплакал, больше не в силах сдерживаться.
Когда я успокоился, вернее, когда высохли слезы и глаза перестали быть красными, то отпер дверь и под всеобщее молчание вышел из ванной.
– Ты че там так долго делал? – удивленно спросил отец. – Рано тебе еще в ванной запираться, хрен не вырос.
– Ты что такое говоришь? Что за гадость? А? – накинулась мать на отца. – Совсем ку-ку?
– А что такого? Будто у него хрена нет, у меня, значит, он есть, а у него нет… Ты там ревел, что ли?
– Нет, – твердо сказал я.
– Ну-ка, иди сюда.
Отец подался вперед, сползая с дивана. Острый подбородок, узкие глаза-щелки, локти уперлись в коленки. Вид бесспорно устрашающий. И я его боялся.
– Ты ревел?
– Нет, – твердость моя пошатнулась.
– Не ври отцу!
– Нет, – мягче.
– В глаза мне смотри! Вон глаза красные у тебя. Ревел, сука?
– Нет, – еще мягче.
– Мне ремень взять, чтобы правду выбить?
– Да, – с первой слезой.
Вторая мелкой бусиной предательски потекла по щеке.
– Ёперный театр, ну что ты за тряпка, елки-палки! Ноешь и ноешь, как баба сопливая! Говорил тебе, че ты все ноешь, когда его вынашивала, – это уже упрек матери, – нытик весь в тебя. Ты когда в армию пойдешь, станешь рыдать по мамке и папке? Или когда из вас мужиков будут делать, тоже будешь сопли разводить?..
Тут мать хмыкнула:
– Сам же сказал, что у него хрен есть, значит, уже готовый мужик.
– Ну че ты вечно лезешь, когда я сына воспитываю?
– Воспитатель, – она хмыкнула во второй раз.
– Да пошла ты! А ты у меня, – снова мне, – свои сопли будешь отрабатывать на огороде. Дам тебе в руки лопату, чтоб все поле перерыл, всю картошку вырыл, понял? Как тряпка, ей-богу!
На первое сентября я пошел один. Проскользнул мимо третьего этажа, хоть сердце гулко и больно билось в груди. Мне было стыдно, что я не позвонил в Его дверь, я ощущал себя предателем. Мы договорились, что я обязательно зайду за Ним, и вдвоем мы отправимся на наше первое совместное первое сентября. Он сильно волновался: боялся новой школы и нового класса. А я зачем-то соврал Ему, что Он обязательно-преобязательно попадет в мой класс, хороший класс. «Ты уверен?» – неуверенно спросил Он. Конечно, ответил я, ведь в наш класс берут только лучших учеников. Я это придумал на ходу, хотел сказать Ему что-нибудь приятное, доброе. Теперь же я мчался в школу один-одинешенька, было до безобразия тоскливо на душе.
На линейке я занял самое дальнее место, позади самых высоких ребят. Повыше держал букет для учительницы, пряча в его зеленых свежеобрезанных стеблях свое заплаканное с утра лицо. Мне не хотелось, чтобы меня замечали, видели грустное черное пятно с почти лысой головой.
– Марик!
Знакомый радостный возглас где-то сбоку. От испуга я чуть не постарел на несколько лет.
– Марик, ты забыл про меня, да?
– Да, извини, – не глядя на Него.
– А у меня хорошая новость! Я в твоем классе! Родители договорились, чтобы мы были вместе, представляешь?
Перестав созерцать школьный асфальт в трещинку под ногами, я поднял голову. Первое, что увидел, – легкие, волнистые и чуть-чуть укороченные пряди, открывающие Его сияющие глаза. Второе – костюм. Тот самый, что приглянулся мне. Я ненавидел Его. Это была смертельная ненависть, живых не останется. Я толкну Его в лужу, я испачкаю Его спину мелом, напишу на пиджаке «лох», приколю бумажку с идиотскими пошлыми фразочками, я буду доставать Его вечно, пока Он не запросится обратно, в свою старую расчудесную школу… Я больно зажмурился, до темных кругов, стиснул в кулаках бедные стебли цветов. Я не мог пережить позора, я не мог позволить Ему видеть меня уродом.
– Ты не хочешь со мной дружить, да?
– Нет, – со злостью плюнул я, – это Ты не захочешь дружить с таким уродом, как я!
Он долго-долго меня разглядывал, скользил своим оценивающим взглядом с ног до головы… Скрываясь от стыда, я отвернулся. Невыносимо. Лучше умереть, чем вынести это.
– Ты не урод.
– Ага, а кто? Ты видел меня, эту голову?
– Голова как голова, – Он издал слабое подобие смешка.
– Ну вот, Ты уже смеешься надо мной, а дальше что, на спине мне напишешь мелом «лох», да? Сделаешь так, я Тебе в глаз дам, понял?
Вечером кто-то позвонил в дверь. Гостей мы не ждали, отчего родители недовольно переглянулись.
– Кого это черт принес?
– Женщину, – самоуверенно заявила мать.
Дело в том, что за ужином я уронил на пол вилку. Постучи тупым концом по дереву, мгновенно среагировала мать, от страха округляя глаза. Я стукнул три раза. Так было необходимо сделать, чтобы в дом не явилась незваная гостья. Падает маленькая ложка – к ребенку, суповая ложка или вилка – к женщине, нож – к мужчине.
– Да ну тебя, – отмахнулся отец и, встав с дивана, направился к двери.
Через секунду он крикнул, что это ко мне.
– Марк, к тебе!
За полуоткрытой дверью что-то мельтешило. Маленькое и тощее.
Осторожно я выглянул за дверь. Наверное, походил я на круглого дурака, таращась на Него. С точно такой же прической, как у меня.
– Ну Ты и дебил! – завопил я, хватаясь обеими руками за Его лысую голову.
Как Он мог? Кончиками пальцев я искал подтверждение, что это обман какой-то, розыгрыш, что не Его прекрасные волосы, кажущиеся мне неисполнимой мечтой, исчезли с глаз долой… Он убил меня, Его несговорчивая щетина убила меня. В эту минуту я ненавидел Его вдвойне, нет, втройне, да что там, в тысячу раз! И в эту же минуту я любил Его, как никого и никогда в своей жизни.
***
За пять минут до начала первого урока учительница представила Его всему классу. Вдвоем они стояли у школьной доски с одной-единственной записью «Второе сентября». Пока я ждал их появления, то перечитал «Второе сентября» на миллион раз, отчего потеряло смысл и «второе», и «сентября». Сущая околесица, ей-богу.
Когда они вдвоем появились на пороге школьного кабинета, я выпрямился по струнке: ровная спина, плечи назад, волевой подбородок задран вверх. Я разволновался, выискивая взглядом свободные места. Разумеется, сидеть вместе нам бы никогда не позволили; у учительницы имелась строго намеченная стратегия – рассаживать мальчиков с девочками. Впрочем, в классе мальчики имели численное превосходство, аж на целых два мальчика больше, чем девочек. И эти бедняжки сидели по одиночке, вечно пронзительно печальные глаза, поникшие плечики в серых пиджачках и поджатые под стул ноги в застиранных носках… С искренней тоской они глядели на учительницу, которая кивала головой в такт их верных ответов. Хотя с моей соседкой, с которой, между прочим, у меня не находилось ни одного общего интереса, мне тоже было грустно и одиноко. «Привет, Марк!» – обычно говорила она, вытаскивая из рюкзачка с навешанными на него брелоками на парту свои принадлежности. Я смотрел, как изо дня в день, каждое новое занятие, она поправляет конструкцию из своих линейки, ручки, карандаша и ластика. Грустное зрелище. Особенно если коротать с ней весь школьный срок обучения.
Он держался ровно, с миролюбивой полуулыбкой. Именно полуулыбка, это важно. Наши не поймут, если незнакомец в первый же день знакомства будет растягивать губы от уха до уха. Либо ку-ку, либо подлиза. В любом случае можно от кого-нибудь по затылку жеваной бумагой схлопотать. Потому и нужна середина, загадка, так сказать, – полуулыбка. Это я Его этому обучил.
Одобрительным жестом учительница указала Ему на место: средний ряд, вторая парта. Все остальные сдвинулись на парту назад, из чего всем стало понятно – преуспевающий ученик этот новенький. С легким румянцем на щеках Он проследовал до своей парты, бросив в мою сторону радостно-восторженный взгляд. Я же, поймав этот взгляд, заелозил на стуле, так мне стало волнительно, волнительно хорошо, что Он будет рядом, и волнительно, что я впервые тревожусь из-за кого-то другого, не считая себя. Странное ощущение – беспокоиться не за себя, ничего не ожидаешь, но в груди уже будто что-то тревожно шевелится.
Со своего места, третьего ряда, третьей парты, я мог видеть Его спину и затылок, лишенный того, что меня очаровывало. Наверное, этого даже больше чем достаточно, чем сидеть вместе, подумал я в свое утешение. Еще один робкий взгляд через плечо, подхваченный мной, тайна одна на двоих, как игра в футбол в наш с Ним первый день – я бросаю, Он ловит, но сейчас мы поменялись местами. Он бросает, я ловлю. Ни одного не пропущу, зачем-то пообещал я сам себе, и сам же испугался этой внезапности.
С замиранием сердца я следил за минутной стрелкой настенных часов, что висели над школьной доской. Ползет и ползет, медленно, словно назло мне. Я умирал от острого желания вскочить со стула и оказаться рядом с Ним, схватить за плечи и начать заваливать вопросами! Понравилось Ему или нет? Что думает, что чувствует? Он должен поделиться со мной всем, что хранит за нагрудным карманом новенького темно-серого пиджачка!
В последние дни я часто ловил себя на желании задавать Ему именно эти два вопроса: что думаешь и что чувствуешь. Раньше я подобным не интересовался. Есть Я, есть мои размышления и мои чувства, все и без глупых вопросов понятно. Но оказалось – что меня сильно смутило, – я ровным счетом ничего не знал; мои привычные мысли до этой поры меня обманывали. Он, как и я, тоже боялся, стеснялся, стыдился, плакал. Он невероятно огорчился, когда Его волнистые послушные волосы опадали к ногам, когда последние прядки закружились вихрем, подгоняемые беспощадной щеткой. «Зачем же Ты это сделал?» – спросил я, все еще не веря собственным глазам и пальцам, на которых след от старых ощущений сменился новыми, колкими и горькими. В Его глазах блеснул на тот миг далекий мне ответ, который я не сумел распознать. «Тогда что Ты почувствовал?» – с новой надеждой спросил я. И Он ответил: боль и стыд. И душа моя, взлетев выше четвертого этажа, возрадовалась. Я не один, не один такой. Мне нужно с Ним говорить, о себе, о Нем. Да, собственно, без разницы о чем говорить. Опустошить себя и вновь заполнить, вот что важно.
Едва отзвучала счастливая трель школьного звонка и с губ учительницы слетело заветное «отдыхайте», как я уже тряс Его за плечи. Улыбаясь, похлопывал то по правому, то по левому плечу. Особый жест. Чтобы каждый в классе видел – это мой друг, моя территория. Я ручаюсь за Него. Ответ с меня. Только так и поступают настоящие мужчины. Нас окружила толпа из любопытных одноклассников, пытающихся несмело пробить к Нему тропу дружбы или войны. Если воевать, то и со мной тоже, понятно? Для большей уверенности в своих намерениях я уселся на край Его парты, храбро и совсем по-взрослому. В эту минуту я ощущал себя на вершине чего-то необъятного, не из-за того, что я делал что-то правильное или должное, а потому что… не знаю. Знаю, что если бы Он меня наедине спросил «что ты чувствуешь?», то я бы без промедления ответил: гордость.
После школы мы вдвоем неспешно возвращались домой. Второе сентября, начало школьной поры.
Признаться честно, я любил школу, любил учиться, любил показывать себя. Оставаясь застенчивым в простом человеческом общении, где не нужно никому ничего доказывать, угрожая дать в глаз, я иногда совершал немыслимые для себя поступки. Поднять испуганную руку и дать правильный ответ без запинки (но чаще всего заикаясь от страха), получить похвалу.
– Молодец, Марик, – говорила учительница. Она всех называла по имени, ласково и любовно, абсолютно всех.
От похвалы внутри что-то приятно содрогалось. Это были очень редкие моменты, я копил их и изредка вытаскивал из глубин памяти на поверхность. Я любовался собой, как делал это, когда всего три дня назад на голове еще были волосы. Любование собой – моя слабость. И это я презираю в себе… ненавижу быть слабым.
От школы до нашего дома – извилистый путь меж других, полупустых и полуденных высоток, мелких магазинчиков и ларьков с газировкой, мороженым и подтаявшими шоколадками. Время между нами сгустилось, наполнилось, и я искал повода продлить его. Осторожный намек на магазинчик, так, поглядеть на витрины, поглазеть в искушении на блестящие обертки, на манящие пузыри под туго завинченными пробками. Карманы мои были пусты, ни одной лишней копейки, вот, Марик, тебе только на обед в столовке, только вздумай потратить на что-нибудь другое! В Его же карманах шуршали пальцы, Он искал мелочевку на шоколадку.
– Выбирай любую! – не глядя на меня. Я поражался Его способности залезать ко мне в голову и рыться там беспардонно. Откуда Он узнал, что я сейчас хочу? По моим голодным глазам? По моему жадному до общения, ласковости, вкусностей виду?
– Никакую. Я не люблю сладкое. – Солгал я.
Еще чего! Чтобы кто-то мне шоколадки покупал. Сам куплю.
– Точно? – переспросил Он.
– Точно.
Из магазинчика в ларек, к новым витринам. Я водил Его туда-сюда, лишь бы задержать на мгновение, отсрочить появление нашего серенького подъезда с лестницей, где всего какой-то один этаж разделит нас на целые сутки. Даже не представляю, чем мне теперь занять часы до следующего утра?
Он говорил о своей старой школе; все же, как я ни старался, Ему она нравилась больше.
– В ней все так привычно, место было у окна. Я люблю окна, – улыбнулся Он. – Иногда на занятиях я не слушал учителя, а глядел в окно. Ужасно, правда?
В ответ я лишь рассеянно пожал плечами. Я ведь тоже сегодня не всегда слушал учителя, уткнув взгляд в Его спину. Будто околдованный.
Когда перед нами вырос подъезд, мы умолкли, внезапно осознав, что вот он – момент прощания. Конечно, я или Он могли прийти друг к другу в гости… Ладно, признаться честно, Он не мог навещать меня, потому что «Какого хрена этот придурочный будет у нас сидеть? Пусть дома у себя сидит! Еще чего, водить домой всякую шваль, дурно на тебя влияющую!». Как, впрочем, и я не мог позволить себе часто спускаться на третий этаж, потому что «Какого хрена ты будешь сидеть у чужих, этих придурочных? Вон пока тепло на улице, играйте там. Мы в наше время никогда по домам не сидели, с улицы нас было не загнать!». У меня было мало выбора, я целиком и полностью зависел от родителей.
Переминаясь с ноги на ногу, нервными пальцами перебирая ключи, мы прощались, будто навсегда. Пока. Пока. До завтра. До завтра.
Он вставил ключ в замочную скважину, а я уже сделал первый шаг наверх по лестнице с узкими ступеньками. Мать не любит эту лестницу, боится, что каблук соскочит и она кувырком скатится вниз.
– Марик?
Мгновенно я обернулся. Наверное, где-то глубоко в душе ютилось ожидание.
– Хочешь на кота посмотреть?
Мой фирменный жест плечами.
– Если только на минутку.
Он распахнул дверь, выпуская жилой дух наружу. Дух их жизни, неизвестной для всего подъезда семьи. Улавливаемые запахи приятно растекались во мне теплом.
– Он обычно у меня в спальне.
Одновременно скинув обувь и бросив в прихожей свои портфели, мы отправились на поиски кота. Такой силы волнения я вряд ли когда испытывал: чужой дом, чужая мебель, чужие звуки. Это не просторный двор под открытым синим небом, где все равны, это нечто другое, очерченное, острое, где стены словно давят на тебя. Одним словом, чужой дом. Всегда стесняюсь, находясь у кого-то в гостях, будто заранее знаю, что опозорюсь.
Его комнату я толком-то и не разглядел, стараясь вести себя ниже травы тише воды. Наверняка мать, узнав, что я был у придурочных, начала бы расспрашивать, что да как. По какой-то неслышной команде мы оба сели на мягкую поверхность, которая учтиво прогнулась под нашим детским весом. Оба запустили пальцы в рыжую шерсть. Вот оно, несчастно-счастливое, приносящее удачу и отгоняющее злых ночных духов, создание! Рыжий кот! Отъевшееся пузо, по которому методично, полюбовно скользили двадцать пальцев.
– Мы так и не дали ему имя! – немного стыдливо рассмеялся Он, словно я мог осудить Его за это. – Просто Кот.
– Привет, Кот, – сказал я и легонько потрепал довольную морду с прикрытыми от удовольствия глазами. Зависть, честное слово, чистая зависть.
Кот широко зевнул и завернулся в шерстяной клубок, скидывая с себя нашу ласку и нежность. Они ему больше были не нужны, эгоист рыжий. А я… а я не знал, что мне было нужно в этот момент. Слишком трудно в себе разобраться. Хотелось и уйти, и остаться, чтобы долго-долго погружать пальцы в жаркое тельце, робко и мимолетно соприкасаясь с Ним. Но вовремя опомнившись, я твердым, тверже не бывает, тоном сказал, что мне пора. А-то посижу еще немного и совсем сопли распущу. Не дело это.
***
Накануне Нового года в нашей семье случилось несчастье.
Заглохла «пятерка».
Все свободное время отец пребывал либо в гараже, либо в унынии. Но чаще всего все вместе. Пока он чертыхался под капотом, мать приносила домой небольшие косметические наборчики для продажи.
– Для подарков на праздники, – объяснила она.
По вечерам к нам приходили мамины подружки, приятельницы, знакомые и просто покупательницы. В белых ручках с длинными ухоженными ноготками они вертели разноцветные тюбики, обнажали яркую и сочную плоть помад, как призыв, как позыв, как сигнал к действию: без запинки и без зеркала краска ложилась на тонкие или пухлые губы, украшала красивый или некрасивый рот. Пузатые флакончики духов напрягались под настойчивой силой одного или двух пальчиков, «пшик», и комната наполнялась мгновенной сладостью, запахом луговых трав под палящим солнцем или же морской свежестью. Мне нравились сладкие ароматы, потому что я люблю сладости. Шоколад, темный и молочный, с орехами и изюмом, двойной шоколад, с карамелью, горячий шоколад. Изысканные вкусы неземного удовольствия… Думая о сладостях, я понял, что слишком много времени провожу в магазинчиках, разглядывая заманчивые витрины и слишком много времени уделяю прочтению оберток. На самом же деле ничего из перечисленного я не пробовал; не было случая, чтобы родители принесли в дом что-нибудь вкусное. Ничего подобного. Порой мне казалось, что им вовсе не приходило в голову, что в нашей маленькой семье из трех человек кто-нибудь может любить, ну или хотя бы мечтать, о конфетах. А мне бы никогда и не пришло в голову просить их об этом. Глупо бы вышло. Впрочем, иногда меня угощали, например Его родители. Или Он сам. Они протягивали ко мне доверчивые ладони, набитые шоколадными конфетами, леденцами и фруктовой карамелью. Ладонь Его отца была самой огромной, самой насыщенной и самой требовательной, не терпящей отказа. Бери – бери, говорил он. Нет-нет, отвечал я, я сладкого не люблю. Внутри меня все сгорало от стыда, потные ладошки, протянутые навстречу, дрожали как от озноба. Чертова робость, чертова слабость. В эту минуту я стыдился самого себя, свою жалкую натуру, охотливую до сладостей. Его же ладонь и ладонь Его матери были маленькими, аккуратными, но вместо одной они протягивали две. Ей я отказывал с показной твердостью и уверенностью взрослого мужчины, с той долей ленивой снисходительности, с которой опытные джентльмены отказывают дамам в попытках предложить свою бескорыстную, но абсолютно излишнюю помощь. Ему же я отказывал беспрекословно, отвергая Его ладонь, ладно Твои родители, но Ты-то разве не знаешь, что сладкое я не люблю? Принять от Него что-то в дар было превыше всего, это означало неминуемо сдаться Ему, выбросив белый флаг, впасть в подчинение и стать обязанным. Я должен был в Его присутствии сохранить хоть какие-то крохи самообладания и мужского достоинства, я обязан был держать мужское лицо, не скатываясь в бабско-зависимое положение.
Обычно мои мысли прерывал женский смех. Мать и женщины глядели на меня, полусонного от мечтательных грез и зазевавшегося. Их раскрашенные улыбки в этот миг посвящались мне одному, маленькому мужчине в большом женском царстве. Чистый восторг, умиление и обреченное на разочарование влечение: смешанные чувства вихрем проносились по их лицам, и я читал их как раскрытую книгу.
– Хороший у вас мальчик, – сладенько пели они. – Красивенький.
Или:
– Марик у вас красавчик, настоящий жених!
Те, кто посмелее, дотрагивались до моих чуть-чуть отросших волос, похлопывали, поглаживали, пощипывали, словно ручного зверька.
– Все девчонки в школе наверняка по тебе сохнут, да?
– Не успеете глазом моргнуть, как сынок в дом невесту приведет, а там и до внучат недалеко!
– А тебе самому-то кто-нибудь нравится? Невесту себе уже нашел?
Признаться честно, я даже не вникал в суть их высказываний. Треп. Пустой женский треп, как любил повторять отец.
– И чем же ты любишь заниматься? – спросила меня одна материна знакомая.
Я привычно пожал плечами. Почему-то именно этот жест я находил весьма привлекательным. Он давал мне либо пару секунд, чтобы справиться с волнением, либо в редких случаях позволял вообще ничего не отвечать – многих ответ в виде сомнительно вздернутой линии плеч полностью удовлетворял.
– Читать люблю, гулять, в мяч играть, учиться люблю.
– Учиться? – нарисованные черным карандашом бровки взлетели вверх.
– Ну, да, – я рассеянно повел плечом. – Историю люблю.
Это была чистой воды правда. Как в пятом классе мы стали изучать древнюю историю, так затянуло меня болото. С Ним мы стали ходить в школьную библиотеку и брать исторические книги, биографии там всякие, романы, пару раз мне даже разрешили взять учебники за старшие классы. Я увлекся историей, проникся прошлым. Засел за книги, тем самым чуть умерив свою прыть. Да и некое подобие усидчивости, пока я читал, шло мне на пользу: меньше хотелось ввязаться во что-нибудь опасное, я стал более внимательным на уроках. Я мог беспрерывно слушать Его.
– Какой у вас мальчик интересный! – тон женщины мне был не ясен, однако двусмысленность я уловил. – А эта учеба, – уже матери, – ему не помешает? Ку-ку, то есть повернутым на учебниках не станет?
Стеклянным взглядом мать посмотрела в мою сторону. Пусть только попробует, отрезала она. После чего в один из таких женских вечеров отец подозвал меня к себе, к телевизору, где очередной пулемет пробивал очередное «тра-та-та», и, с силой влепив мне оплеуху, заявил: «Еще раз увижу, что рядом с бабами трешься, яйца оторву, и будет у нас не сын Марк, а дочь Мария, понял?» А потом он решил, что полезнее всего мне будет проводить вечера в гараже.
Четверть я закончил хорошистом, а Он – отличником. Благодаря Ему у меня четверка по математике, благодаря мне у Него пятерка по истории. Мы нечто большее, чем просто связанные школьными узами, – налаженная система, хорошо смазанный механизм. Молниеносный поворот головы, вопрос в глазах «Как у тебя дела?». Я весь в напряжении, ловлю каждый Его взгляд, каждое движение шеи, киваю головой, мол, пока все нормально, а у Тебя? Ответное низкое покачивание из стороны в сторону – «нормально». Если Ему трудно, лишь стоит обернуться, я здесь, я рядом.
После занятий мы научились сбавлять темп ходьбы, подстраиваться под скрытые биологические часы, требующие еще и еще сближения, притяжения, отторжения от мира вокруг. Изо дня в день шаг все короче, все медлительнее, мы научились растягивать расстояние между школой и домом, тайно сокращать расстояние между тенями на асфальте. В последний день второй четверти Он остановился прямо посредине пути, незаметно потянул меня за рукав куртки.
– Марик, остановись! – попросил Он.
– А?
– Остановись на минуту.
Тихие пальцы сползли с рукава, ухватились за мою шершавую, потрескавшуюся от мороза ладонь. Варежек я не носил, либо постоянно их где-нибудь забывал, терял, либо же держал руки в карманах. Карман – надежная вещь, только ему и доверяю, не потеряется и не забудется.
Я ждал, не понимая, чего конкретно жду: чтобы Он скорее объяснил, ради чего мы тут застыли на морозе, или же чтобы скорее перестал держать меня за руку. Мне было неприятно, противно от того, как Он это сделал. Выбрав безлюдное место, надежно спрятанное от посторонних глаз, остановил меня, заставил ждать, заставил думать о себе неприлично. Я весь вспыхнул, будто насквозь прожженный, как факел заметный за километр. Его жест, преисполненный нежностью. Телячьи нежности. Его взгляд, наполненный дружбой, от которого внутренности выворачивает наизнанку. Слабость брала верх. Ненавижу.
– Чего Тебе?
Наконец Он освободил мою ладонь, скинул с плеча портфель. Через минуту-другую вынул сверток.
– С Новым годом! – отдавая его мне.
– Что это?
– Мой подарок. Тебе. Дома откроешь.
Только дома, уже избавившись от верхней одежды, тяжелых зимних ботинок и пройдя в свою комнату, я пришел в себя. Очнулся. Как новорожденный сделал свой первый вздох. Я даже не поблагодарил Его. Молча взял сверток и точно так же молча пошел прочь от Него к дому. Лишь сейчас ко мне стали приходить верные мысли: сказать вежливое «спасибо» и отказаться. У нас не принято дарить подарки. Лишние расходы, говорят родители. Я не просил подарков и не дарил их. Я снова вспомнил Его жест, вспомнил то легкое, само собой разумеющееся, прикосновение человека к человеку, когда просят обратить на кого-то внимание. Он просил моего внимания. Он обратил на меня свое внимание, проявил заботу. Почему-то меня затошнило, и я поспешил спрятать сверток на кровати под одеялом, накрыв это пульсирующее животным страхом и первобытным любопытством место подушкой. Так-то лучше.
За ужином отец вспомнил, что сегодня был последний день в школе в этом году.
– Неси дневник! – сказал он. – Посмотрим, чему ты научился.
Послушно я направился в свою комнату, из портфеля вытащил дневник с изображением черной глянцевой машины. Я до сих пор так и не узнал название модели, да и какая разница? За все это время я ни разу не посмотрел в сторону кровати, держался изо всех сил, сгорая от любопытства, сгорая от стыда, – во мне бурлила настоящая война, и я не представлял, что с ней делать.
– Вот, – я протянул отцу дневник.
– Смотри-ка, почти одни пятерки! Четверок всего-то пара штук. Отличником решился заделаться?
Привычно я пожал плечами. Но на этот раз жест вышел больше защитный: вроде как я и сам понятия не имею, откуда у меня столько пятерок, и в то же время, ничего я не заделался отличником.
– Ну, это… наверное, молодец ты! – Хоть отец и произнес эту фразу с глубоким чувством, только я не до конца определил глубину этого чувства: разочарование или гордость? – Может, тогда отметим это дело? По рюмочке?
– Тебе лишь бы что-нибудь сосать из горла, – вяло отозвалась мать.
– Ну сосать это по твоей части, – ответил ей отец, отчего я ничего не понял и вовсе смутился, уже пожалев, что он вспомнил о моих оценках. – А за сына я выпью!
– Подумать только, за сына он выпьет! А ты хоть раз, один-единственный раз, сунул свой нос в дела сына?
– А в кого он, по-твоему, пятерки приносит? В тебя, что ли?
– Нет, в тебя! В рожу твою непросыхающую! Давай-давай, почаще бери его с собой к твоим дружкам в гараже, пусть послушает ваш русский, мать-перемать, чтобы вообще школу с золотой медалью окончить!
– Ну ты глянь-ка, ударница нашлась! И чему ты можешь научить-то? Рожу с утра до вечера красить? Бабе ли об уме говорить?
– Зато у тебя ум отовсюду, я посмотрю, лезет!
– Вы же бабы как? Либо умные и страшные, либо красивые, но тупые! Вот сама и подумай, если найдешь чем думать.
– Главное, что у тебя есть чем думать! Только вот при свете это показать никому нельзя! Вооот такой умишко-то! – мать выставила к отцовскому носу мизинец. – Толку никакого!
– Да заткнись ты, дура! – отец разозлился не на шутку. – Даже такой и тот на тебя не стоит. За столько лет ты даже сосать не научилась! Меня воротит с души от тебя!
Я смотрел на своих родителей, переводил взгляд с одного на второго и никак не мог припомнить, чтобы один из них помогал мне с учебой. Я не хотел быть похожим на отца, на мать. Я хотел быть похожим на самого себя.
Между родителями летали молнии, и я невольно зажмуривался, боясь, что какая-нибудь попадет прямиком мне в сердце. Мне было искренне жаль, что отец вспомнил обо мне и моем дневнике. Я бы с удовольствием перемотал пленку событий назад, но единственное, что я смог сейчас сделать, – это пулей вылететь из-за стола, когда под материнский визг отец швырнул дневник и заорал на меня:
– Ты какого хера сидишь и слушаешь? Уши развесил! А ну пошел отсюда!
Тихонько закрыв за собой дверь в комнату, я бросился на постель. Ужас, стыд-то какой! Почему всегда так происходит, едва родителям стоит вспомнить обо мне? Лицом уткнулся в прохладную подушку, зажал уши ладонями, чтобы не слышать родительских криков. Беспомощность. Слабость.
Интересно, внезапно подумалось мне, слышит ли Он сейчас эти крики? Там на третьем этаже, прямо под нами. Его комната под моей. Стена. Между нами одно препятствие, я гляжу в пол, Он глядит в потолок. Я вниз, Он вверх. Я вдруг всей кожей почувствовал эту страшную разницу между нами, разница эта не стена, молотком не пробьешь. Она где-то внутри, в теле, в голове, в душе. На целый этаж мы выше их, но насколько мы низки? Он всегда будет выше меня, чище, правдивее, я же лишь тяну нас к низу, на самое дно.
Я слышал, как в комнате тикали часы, как вечер сменился ночью. Я слышал, как стих скандал, как наступила тишина. Тишина перемирия? Или же они просто решили не разговаривать друг с другом? В темноте я пролеживал часы напролет…
За стенкой, в родительской спальне, послышалась возня. Скрип кровати, отвратный скрип старых пружин. Скрип-скрип, скрип-скрип. Быстрее, еще быстрее, будто эксперимент на прочность. Хриплый стон отца, материн голос, неловкий смех. Я поднялся с постели, прошелся на цыпочках к двери. Нет, мне не было любопытно, мне было страшно. Приоткрыл дверь, впуская тонкую полоску света, испуганно скользнувшую ко мне в комнату с кухни. Прямо посреди кухни стоял голый отец, одной рукой держа кружку, другой почесывая правый бок. Я уже видел отца обнаженным много раз, он меня никогда не стеснялся, говорил, что мужикам нечего скрывать друг перед другом. Только завидовать, обычно с ехидной усмешкой любил добавлять он. Не знаю, чему там завидовать… Длинные кривоватые ноги, обвисший живот, густые курчавые черные волосы на груди, в низу живота, на ногах. Перестав почесывать правый бок, он опустил руку себе между бедер… Я крепко зажмурил глаза, чтобы прогнать образы, бесшумно затворил дверь, за которой погас свет и с шарканьем удалялись отцовские шаги. Через пару минут он уже храпел, а я же с каким-то ужасом осознал, что спустя много лет подобный сценарий может настигнуть и меня: ночная кухня, поток холодной воды, льющийся в стакан, чтобы утолить жажду, тусклый свет, падающий на мои дряблые ляжки, женщина, ждущая в соседней комнате. И что мне с ней делать? Вообще, правильнее задать другой вопрос: что я делал с ней до того, как вышел попить? Боже правый, да не дай бог… Не хотел я никакой женщины!
Я вернулся в свою одинокую постель, постель уже одиннадцатилетки, нашарил под одеялом сверток. Мне нечего подарить Ему в ответ, ни денег, ни таланта, чтобы сделать что-то своими руками. Сплошное уныние. Развернуть – боязно, что бы там ни было – это часть Его души. Я боюсь прикоснуться к ней. Подарки просто так никогда не дарят, твердили родители, всегда приходится их отрабатывать. Но я уверен, что Он не такой. Он выше меня, это я всегда смотрю вниз, ищу подвох, опасаюсь проявить слабость духа. Он же ничего не боится… Рывком я содрал бумагу. Даже в темноте, наощупь, по особому аромату я догадался, что это. Аккуратные квадратики, соблазнительные дольки под хрупкой шуршащей оберткой. Шоколад.
Делая мне подарок на Новый год, Он прекрасно знал, что от таких подарков не имеют права отказаться.
***
Все зимние каникулы отец с упорством таскал меня за собой в гараж. Мы уходили либо рано утром, возвращаясь к обеду, либо после обеда, возвращаясь к ужину. В общем, еда всегда тянула нас домой. Руку кормящую не кусают.
«Пятерка» с горем пополам чинилась, иногда кряхтела и возмущалась, как старушка, но заводилась. С полным удовлетворением отец поглаживал руль, молодец, приговаривал он, умница, родная, девочка моя. Впрочем, длилось удовольствие недолго, и старенький, потрепанный временем, моторчик снова глох. Ну едрит твою же мать! – ругался отец. С неестественно-естественным интересом я ждал, что отец взорвется от переполняемых его чувств, ударит руками по рулю, хлопнет железной дверью, пнет ногой по колесу, разразится проклятиями, типа «Какого хрена ты, такая-растакая, не работаешь?» Впрочем, нет. На «пятерку» отец жалел нервы, тратил все свое время и не скупился на нежные и ласковые слова. «Ну, пожалуйста, девочка моя, ласточка, давай, как же я буду без тебя?».
Мы заглядывали стоящей на домкратах «пятерке» под брюхо, глядели на неприветливо выпирающие внутренности, от которых по спине пробегал холодок, ныряли под вздернутый капот. Отцу все это дело безмерно нравилось. Аккумулятор, датчики, амортизатор, свечи, фильтр, насос, цилиндр, генератор и прочее, от чего у меня кружилась голова. Мне нравились машины, это правда. Они вызывали трепетный восторг, некую покорность перед их силой, быстротой, неуловимостью. Они подобны диковинным животным, с блестящими, скользкими формами – чистая порода, благородство, обтекаемость, позволяющая лавировать в потоках воздуха на трассе, как будто птица в небе или рыба в воде. Рычащие, урчащие, мурлычущие. Они могут быть надежными и преданными как домашний питомец и могут быть опасными и неуправляемыми как дикие хищники. Я робел перед их неукротимой силой, восхищался красотой, но не более. Для отца же все, что было сказано до моего «но», не имело значения; «не более» – вот она моя истинная сущность для него. Что за мужик, если руки твои не по локоть в мазуте? Что за мужик, если не умеешь свечи заменить? А все эти восхищения, тю-тю, ля-ля, чтоб из башки своей выбросил, понял? Я отчаянно кивал головой, соглашаясь, внимал каждому слову, пытался запомнить все инструкции, повторял и повторял их, словно школьный стишок наизусть, но все тщетно. Чертово «но». Все мимо, все улетучивалось из головы, стоило отвлечься. От беды даже не спасали измазанные черным маслянистым мазутом руки, как напоминание о моей мужественности, о моем настоящем становлении человеком. Безнадежно, роптал на судьбу я, безнадежный я парень, позорище, если бы только отец умел слышать мои мысли, мой позор, моя вина.
Обычно к нам в гараж захаживали точно такие же завсегдатаи гаражного блока. Здоровались по ручке с отцом, со мной. Важно, деловито, будто заседание высокого начальства. Со всех сторон обходили «пятерку», оглядывали, качая головами. Бунтует? Трамблер крутил? Бензонасос смотрел? В ответ отец пожимал плечами, и в этом движении я угадывал свой собственный излюбленный жест, и мне становилось не по себе. На десять – двадцать минут они пропадали под капотом: низко склоненные головы, сгорбленные спины, откляченные задницы. Да ты ее вот так, мать-перемать, туды-сюды покрути, туды-сюды! Иди-ка, Марик, включи зажигание, проверим. Я садился на отцовское место, место водителя, неловко ерзая по сидению, и поворачивал ключ. Дыр-дыр. Дыр-дыр. И тишина. Давай, Марк, еще раз! Дыр-дыр, дыр-дыр. Тишина. Только завеса белого жестяного капота перед глазами, из-под которого выскакивал раздраженный отец. Как ты заводил? – орал он. – Ни хера не умеешь, даже ключом поработать не в состоянии, прямо как баба! Его тяжелая рука подныривала под дугу руля и ловко находила ключ. Поворот. Дыр-дыр. Дыр-дыр. Тишина.
– Ладно, ребята, – смягчался отец. – Перекур.
Мужики рассаживались вкруговую: кто на маленькой, измазанной соляркой, машинным маслом, табуретке, кто на перевернутом вверх дном ведре, кто на корточках, подтянув на бедрах замусоленные штаны. Из карманов доставали пачки сигарет и одновременно закуривали, выпуская облачка сизого дыма. Я и «пятерка» погружались в беспросветный туман.
– А ты, Марк, не затягиваешься? Бросил, что ль? – шутил кто-нибудь из них.
– Так мне всего одиннадцать.
– Одиннадцать, – презрительная усмешка, – я в семь начал, а в одиннадцать уже сиськи живые тискал.
Смешок, облетевший всю мужскую общину.
– Девок-то уже обжимаешь?
Я застеснялся, отрицательно помотав головой и опуская вниз взгляд. В голове всплыл мерзкий образ: этот мужик на кухне голый почесывает бок, скребет заскорузлыми ногтями старую кожу, а в соседней комнате его ждет женщина с сиськами, которые он тискал, как только что мял собственный пах. Вообще-то, я заметил эту пагубную привычку не только за этим отцовским приятелем, а за всеми присутствующими. Абсолютно не стесняясь, они прикасались к своим гениталиям, чесали, поправляли, будто проверяя все ли на месте, не отвалилось, не потерялось ли?
– Ты погляди на него! – общая реплика. – Как девчонка покраснел! Ха-ха! А чем занимаешься-то?
Я было открыл рот, как слово взял отец.
– Он у нас… это… учится хорошо. Почти все пятерки.
Отец произнес фразу безразличным тоном. Ни тепло ни холодно. Я же застыл в ожидании общей реакции. Почему-то именно сейчас, в окружении взрослой мужской компании, я больше всего зависел от их слов. Одобрение или порицание? Неважно. Взрослые мужчины это вам не какие-то слюнявые школьники, которым и потрогать-то у себя нечего! Я почувствовал себя так, будто нахожусь на всеобщем суде, где в сию минуту решается моя судьба, судьба моих увлечений, моего будущего. Ужасное чувство, словно теряешь себя, растворяясь в чужих взглядах.
– Отличник, что ль?
– Почти, – скромно ответил я.
– Как монах целыми днями над книжками сидит, – добавил отец. – Скоро жопу со стул нарастит.
Мужик, что сидел на корточках напротив меня, встал, потряс отсиженными ногами, разгоняя кровь по венам, типа незаметно для всех поправил слипшиеся гениталии. Откашлявшись, выступил:
– Ну, учиться еще Ленин завещал. Как там? Учиться, учиться и еще раз учиться? Только одно дело над книжками трястись, мозг уродовать, а другое дело – быть по жизни умным, со смекалкой. Вон были у нас отличники в школе, умничали, а с ними и потолковать не о чем. Оденут очки-дурачки на нос, в тетрадки уткнутся, бубнят-бубнят, да кому, нахрен, это обосралось?
– Точно, – подтвердили все, отец тоже кивнул. – Были-были такие.
– Так ихние дети такие же! Они же по себе их ростят.
– Да какие, растакая мать, дети?! Они же не соображают, как в бабу сунуть! Думают, там геометрия или физика нужна! Ха-ха! Или учебник какой, как правильно хреном пользоваться!
Все одобрительно рассмеялись.
Под дружный хохот обычно кто-нибудь тихонечко вставал и проскальзывал сквознячком в дверь, возвращаясь с добычей.
– По чуть-чуть?
– Ой, нет, домой надо, жена унюхает – орать будет! Достала корова жирная! Я ей так прямо и сказал, пока не похудеешь, я к тебе вообще не подойду! Ну не стоит у меня на жирных!
Ну, братцы, вздрогнули!
– Моя тоже растолстела, как детей родила. От молодой жены ничегошеньки не осталось, совсем распустила себя. Хоть бы почаще губы свои малевала, что ли? Чтобы, так сказать, интерес во мне пробудить.
Тут голос подал отец:
– А моя вечно размалеванная ходит, худеет, за фигурой следит, но желание во мне с каждым днем гаснет. Дерьмо это – жить с одной бабой всю жизнь. Как мужик я задыхаюсь, весь пыл впустую растрачиваю.
Вздрогнули!
– Точно, все нутро мужское гниет без молодого бабского тела. Мы же хищники, нам природой нужно питаться све-жа-ти-ной! Длинные стройные ножки, задница упругая, грудочки такие тугие, что одно наслаждение. А тут – старая жопа жены целыми днями перед глазами маячит, туды-сюды, туды-сюды… Ну не могу я глядеть на одни и те же сиськи с утра до ночи! От них уже тошнит, а не стоит! Вот бы сейчас сочную девчоночку, молоденькую, чтоб волосы до задницы, чтобы сок из-нее так и сочился…
Вздрогнули!
Вздрогнули!
Вздрогнули!
– Эй, пацан, как там тебя зовут?
– Марк, – слабо отозвался я, лелеявший надежду, что про меня напрочь забыли.
– А, верняк, Марк! Дырку видел уже?
Я чуть было не ответил, что видел. На носках, на штанах, на рубашке, да много где видел.
– Отвали от пацана! Кстати, откуда такое имя? Марк. Заграничное, что ль? Русских имен не нашлось? Или разобрали все, а тебе это говно досталось? Ха-ха!
– Жена назвала, – ответил вместо меня отец. – Хотела Стасом еще назвать. Я ей говорю, только попробуй! Не хватало мне Стасиков-Пидорасиков в семье!
– Антоша-Гондоша туда же.
– Тупые дуры из сыновей педерастов лепят! В юбки свои кутают, в лобик их чмокают, тьфу, блять, а эти потом извращенцами вырастают!
– Истину глаголишь!
Вздрогнули!
Вернулись мы с отцом домой очень поздно. Перед подъездом отец приподнял меня за воротник куртки, потряхивая как щенка за шкирку, и черным от мазута кулаком пригрозил, чтобы рот свой я держал на замке. Хоть слово матери брякнешь, я тебя по стене раскатаю, понял? Понял. И запомни, в следующий раз, когда кто-нибудь взрослый мужской разговор заведет, встанешь и домой уйдешь, понятно? Понятно. Нечего тебе во взрослые дела нос совать, для этого еще твой хрен размером с фигу.
***
Средняя школа, старшие классы. Внезапно время полетело так скоро, что я едва поспевал вертеть головой. А чтобы оборачиваться назад, то свободных минут и вовсе не находилось, потому что я пресекал любые попытки покопаться в прошлом. Прошлое есть прошлое, только ступи в него ногой, как засосет все тело. Мне же хотелось бежать вперед, постоянно.
С будущим я связывал все свои мечты, все пожелания. Будущее – единственное, что волновало меня на данном этапе. Оно не туманное, как у многих, не расплывчатое, как видение, в нем я больше не маленький Марик, а сильный, уверенный, волевой, взрослый мужчина Марк. Разумеется, что будущее может разочаровать. Разочарование, наверное, лучшее, что оно может предложить наивным дурачкам. Тех, кто духом покрепче, оно предает, ставит на колени, наказывает за гордыню. Сколько глупых надежд пустило ростки в будущее, в так называемую зрелость? Сколько гнилых плодов пришлось вкусить после? Но я клянусь, из меня выйдет толк, клянусь.
Вместе с Ним мы строили планы, смотрели друг на друга, ища в бликах глаз подтверждение нашим планам.
– Каким ты меня видишь? – однажды спросил меня Он.
Мы были у Него. В Его комнате, за Его письменным столом, мой правый локоть соприкасался с Его левым локтем то случайно, когда я психовал, неверно решая упражнение по алгебре, то неслучайно. Опасное сближение. Будто стоять на краю пропасти с завязанными глазами.
В растерянности я поднял на Него взгляд.
– В будущем, – пояснил Он.
Теперь я глядел на Него во все глаза, рассматривая каждую черточку Его лица.
Мы изменились. Он изменился. Отросшие волосы небрежно свисали Ему на лоб, закрывая глаза. Когда мы сидели рядом друг с другом, как сейчас, я мог видеть лишь Его смазанный профиль, прикрытый, по обыкновению, ладонью. Привычный наклон головы одновременно влево и вниз. Если же мы находились напротив друг друга, то голову Он склонял иначе: только вниз. Челка падала Ему на глаза, тем самым отдаляя Его от меня. В эти минуты я не понимал, что говорит Его тело, и гадал, что Он скрывает от меня? Я ненавидел Его волосы ровно столько, сколько обожал их. Время от времени ловя себя на остром желании протянуть к Нему руку и смахнуть прядь. Откройся мне! Поговори со мной! Но я молчал. Сглатывал желание, проталкивая глубоко внутрь, откуда ему никогда не подняться на поверхность. Внутри меня уже бездна проглоченных желаний. Сейчас же передо мной прямой взгляд, глаза в глаза, Он ждет от меня ответа, а что мне ответить? Что я так долго ждал душевной близости между нами, что в сию минуту она пугает меня, что теперь я жалею, что мне нечем прикрыть собственный страх, нечем отгородиться от Него?
Уткнувшись в тетрадку, я начал что-то мямлить о лучших качествах Его характера. Слова громоздились на слова, слишком много слов, а, между прочим, всем известно, когда кто-то слишком много болтает, то в его высказываниях не следует искать правды.
– Нет, Марик! Я хочу знать, каким, по-твоему, человеком я стану.
Это еще больше усложнило задачу.
Но я точно знал.
– Хорошим! Лучше меня!
– Почему? Почему ты решил, что хуже меня?
Объясняя, я снова скатился в перечисление: Он добрый, порядочный, умный, честный, искренний… Хотел добавить еще красивый, правда, красивый, но Он вдруг опустил взгляд на мой рот, непрерывно принялся следить за движениями моих губ, и это странно отвлекало. Обычно я стеснялся, когда кто-нибудь так пристально наблюдал за моей пылкой речью, терялся во фразах, мечтая поскорее замолчать. Что скрывать, оратор из меня не лучший. Впрочем, то, что я чувствовал под Его пытливым взглядом, несомненно, отличалось от того стеснительного чувства. Я потерял равновесие, упустил полет мысли. Лишь думал об одном: Он и в самом деле красив или же таков Он исключительно для меня? Ведь никогда я не слышал от других, чтобы Его нарекали взрослеющим дерзким красавцем, разбивателем девичьих сердец. Неужели Его красоту вижу я один?..
Тут на стол прыгнул Кот, обрывая мои мысли на самом раскаленном месте. Мы оба засмеялись, Он искренне, я неловко и фальшиво. Нахально Кот прошелся по учебнику математики и улегся на мою раскрытую тетрадь. Настоящее хамство!
– Намекает, что пора заканчивать с уроками, – попытался пошутить я.
– Или немного передохнуть, – добавил Он.
Встав из-за стола, Он потянулся во весь рост. Затекшее тело после долгого сидения. Тонкая полоска внезапно обнажившегося загорелого прошлым летом живота между задранной футболкой и резинкой шорт. Мы одного роста, может быть, расхождение в нескольких сантиметрах, не имеющих значения. Он плюхнулся на кровать, свесив одну ногу и оставляя место рядом с Ним для меня. Я вдруг замедлил, оставаясь прикованным к жесткому стулу и с намертво застывшими пальцами в рыжей шерсти. Кот недовольно фыркнул и задними лапами лягнул мою руку. Хам.
– Как думаешь, мы женимся?
– Что? – кое-как выговорил я. – В смысле?
Он приподнялся на локте и удивленно изогнул бровь, давая понять, что из нас двоих туплю я.
– Девчонки, свадьба, дети, – Он хохотнул, – внуки, правнуки.
– А-а, – с облегчением протянул я, – да-а!
– Да? – недоверчиво.
– А что, нет? – уже я недоверчиво.
– Ну не знаю, – Он снова откинулся на постель, закидывая руки за голову. – Далеко все это как-то, будто нереально. Вот выпускной – реальный, экзамены – реальные, контрольная завтра по алгебре – реальная, возможно, твоя тройка по ней тоже реальная. А семейная жизнь… точно не со мной случится.
– Зато мы больше не будем противными прыщавыми засранцами, а станем настоящими мужиками.
На мгновение Он прикрыл глаза, как делают, пытаясь промолчать на противоречивую реплику.
– Что? Что не так я сказал? – уточнил я. В этот момент Кот снова позволил себя гладить.
– Станем мужиками… А сейчас мы кто? Почему ты вечно хочешь кем-то стать? Успокойся, ты уже и так мужик. Если не веришь, загляни в трусы.
Почему-то эта фраза меня не просто задела, а обидела. Сам смотри в свои трусы! И нечего мне указывать! Невольно я поглядел на резинку Его шорт. Интересно, какой Он там? Он делает что-нибудь с собой, думая о разном… Отцовского принципа «мужикам нечего стыдиться друг перед другом» я не придерживался, да и Он никогда не позволял себе подобных штук. Как выразилась бы моя мать, мы с Ним святая простота. И все же, что Он думает по данному поводу?
– Можно тебя кое о чем спросить? – не глядя на меня. – Только честно ответь, ладно?
Я кивнул.
– Ты когда-нибудь влюблялся?
– Нет, – совершенно честно ответил я.
– Никогда-никогда?
– Никогда.
– Даже тайно?
– Ни разу.
Его настойчивость начинала меня раздражать. Если я правильно уловил направление Его вопросов, то дело дальше пойдет про любовные дела. Мне похвастаться нечем, да я и не люблю эту возню с чувствами. Только время зря терять, к тому же, говоря откровенно, мне еще ни одна девчонка не нравилась. Ничего такого, чтобы безответно сохнуть. Но что если Он решил поговорить не столько обо мне, а сколько о себе? Вдруг решит поделиться со мной сердечными тайнами, мол, давно влюблен, страдаю, умираю, а она, такая-растакая, даже в сторону мою не глядит. Странно! Как странно я себя ощутил при этой мысли, какое навязчивое раздражение к ней, этой незнакомой девушке. А если Он уже встречается с кем-то? И тайна эта не моя с Ним, а Его с ней. Тайна. Он держит меня в неведении, у Него от меня тайны.
– А ты? – со злостью в голосе спросил я.
Пока я размышлял, то даже не заметил, что теперь Он сидел на кровати, спустив вниз ноги и уперев руки в колени. Поза уныния, поза беспомощности. Челка низко упала на лицо, что я едва мог различить притаившееся выражение в уголках Его сжатого рта. Он влюблен! Боже мой, Он влюблен! Я чуть не задохнулся от накрывшего меня отчаяния!
– Давай заниматься. Я же обещал тебе, что завтра ты не получишь тройку. – Вместо ответа произнес Он и уселся рядом со мной на свой остывший стул. – Показывай, что у тебя получилось, проверять буду.
Жадно я схватил Его за руку. Сам от себя не ожидал, честное слово. Не знаю, что меня больше всего задело: что Он таится от меня или что влюблен. Словно почву из-под ног выбили.
– Ты не ответил!
– Нет, Марк, не влюблялся. Никогда.
Прямо от сердца отлегло. С радостью я выдохнул скопившееся фантомное чувство одиночества, какое бы меня настигло, будь я третьим лишним в этой истории.
– Правильно. С этим можно не торопиться, лучше о будущем думать.
– Ага, – расстроенно и обозленно бросил Он и скрылся за челкой.
На ужин мать варила макароны. В сковороде на раскаленном пенном масле уже жарились котлеты. Отец любит поджаристые, с хрустящей ржавой коркой, нам же с матерью понравились на пару, но кто бы нас спрашивал. Потому один-единственный раз паровые котлеты закончились скандалом: «Навыдумывали модной хрени! Чтобы больше этой безвкусной травы не было в моем доме! Не для того я вкалываю, чтобы мясо на говно переводить!»
Я как раз вышел в кухню попить холодной воды. На тот момент я снова усердно занимался математикой, чтобы завтра не схлопотать тройку за контрольную работу. С цифрами у меня беда. Классная руководительница успокаивает меня, мол, у гуманитариев у всех так, не стоит переживать, близко к сердцу принимать. Знала бы она, что ее слова меня нисколько не утешают, наоборот, я изо всех сил рвусь, чтобы получить достойный аттестат, чтобы вырваться в люди. Не хочу всю жизнь проторчать под капотом в компании мужиков, сбегающих в гараж от своих растолстевших, наскучивших и нежеланных жен и семейных проблем, не хочу слушать их пошлых разговоров, смеяться над похабными шуточками, не хочу! Как-то одноклассник сказал, что приятели его отца больше не впечатляют, не осталось в них больше авторитета, одно старческое нытье на современную жизнь. Уловив эту мысль, я сразу же поделился ею с Ним.
– Подростки, – спокойно, с долей взрослости ответил Он, подойдя к шкафу с книгами и вытащив одну. «Над пропастью во ржи». – В десять лет родители для нас всё, весь мир, задай им любой интересующий вопрос, и они найдут ответ или, в крайнем случае, соврут, скрывая свое невежество. А для подростка все взрослые – кто? Правильно, стариканы, развалюхи, для которых песни Бритни Спирс одно противное завывание.
– Что? Ты слушаешь Бритни Спирс? Не знал… – я искренне расстроился.
– Нет, – рассмеялся Он, – не нравится она мне! Наверное, потому что и в самом деле завывание…
Мы оба рассмеялись. Приятно было с Ним поговорить об этом. Довериться, чуть-чуть приоткрыть дверцу в сердце.
– Я не хочу быть стариканом, – уже на полном серьезе сказал я.
– Знаю, – ответил Он, – я тоже не хочу.
Я налил в стакан воды и с голодной жадностью его осушил. Чертова математика все жизненные соки из меня высосала! Рядом мать схватила в руки две толстые прихватки, намереваясь взяться за большую кастрюлю с макаронами.
– Давай я, – предложил я.
Она молчком пожала плечами и передала мне прихватки. Я часто помогал ей с домашними делами, скорее, брался за то, что умел делать вполне сносно: убирать мою комнату, трясти коврики на улице, особенно в непогоду, мыть пол в прихожей, мыть за собой посуду. Однажды мать застала меня в ванной комнате, стирающим носки. Увидев меня, она застыла в дверном проеме, даже рот слегка приоткрыла от удивления. Я же и вовсе смутился – это был мой первый раз, так сказать. Она первой пришла в себя и шагнула ко мне навстречу, покажи, как стираешь, попросила она. И когда я со всей своей юношеской силой стал тискать бедный носок, чуть ли не растирая ткань между пальцами, она рассмеялась. Очень чисто и звонко, и очень по-доброму, отчего я тоже улыбнулся, правда, смущенно. Так на тебя носков не напасешься, ласково сказала она, полегче, парень, полегче, и показала, как стирать так, чтобы не пришлось штопать протертые дыры после стирки. Это был приятный момент, наполненный именно семейной радостью. После этого случая все свои носки и трусы я начал стирать самостоятельно.
Слив горячую воду в раковину и поставив кастрюлю с желтыми перьями макарон обратно на плиту, я не заметил, как локтем опрокинул солонку на чистую столешницу. На деле, соли рассыпалось совсем ничего, пустяковая щепотка, но в глазах матери засияла ярость, смешанная с отчаянием, возведенным в миллионы раз.
– Извини, мам, – автоматически я маленькой щепоткой соли посыпал свою макушку. Примета такая: так надо, чтобы избежать скандала. Разумеется, к окончанию подросткового возраста я не верил ни в одну примету, кроме одной – мох действительно растет с северной стороны. Но сейчас, видя расстроенную постоянными ссорами с отцом мать, я не мог поступить иначе. – Ничего не случится. Правда!
– Правда – это то, что у тебя руки из жопы растут! Абсолютно ничего нельзя доверить, чтобы не сломал, не рассыпал, не развалил, не разрушил! Ты, как и твой папаша, всю жизнь мне разрушили!
– Из-за какой-то соли… – задетое честолюбие во мне заговорило осмелевшим шепотом.
– Из-за какой-то? – заорала мать. – Из-за какой-то? Ты знаешь, что рассыпать соль к слезам! А ты знаешь, к чьим слезам? Вряд ли к твоим или отцовским! Потому что вам насрать на меня!
И она заплакала. Два соленых ручейка пробивали путь по ее щекам, покрытых нежных пушком и румянами. Мне стало ее жаль. Трудно было устоять перед слезами и всхлипами. Наверное, мне было бы легче, если бы она дала мне пощечину, как сделал бы отец, наотмашь, с оттенком презрения. Ты жалок, ты вечно всех расстраиваешь.
Робея, я шагнул к матери и осторожно обнял за плечи. Она даже не шелохнулась, все так же стояла с опущенной головой, растирая слезы по лицу. С минуту-другую я медлил, а затем во второй раз извинился за свою неуклюжесть и за испорченное ее настроение.
С надменным видом мать отстранилась от меня, очень холодно. Тыльной стороной ладони вытерла последние слезы и размазанную тушь с щек, расправила плечи и вскинула волевой подбородок. Проехали, сказала она. Затем повернулась к плите, и ее глаза округлились до диаметра тарелок. Последовав ее примеру, я тоже обернулся. Из сковороды валил черный дым, а на месте котлет коптились черные кругляши. Схватившись за ручку сковороды, я одним броском отправил ее в раковину.
– Здорова, семья, – раздалось за нашими спинами. – Чем у нас воняет?
В это мгновение отец возвышался над нами с матерью, в тумане гари и вони похожий на мрачный утес. Он появился так неожиданно рано, как в непроглядном горизонте у носа корабля вырастают зубастые скалы. Столкновение неминуемо. Прикрыв глаза, я мысленно приготовился к бедствию.
– Чем воняет? – мать вышла вперед. – Ужином! – запустив руку в раковину, она выудила оттуда «ужин» и швырнула его на обеденный стол, едва обгорелой сковородой не убив отца. – Твой сын точно такой же дебил, как и ты!
После чего разразился скандал.
Ночные звуки, в конце концов, смолкли. В квартире стало тихо, лишь отец храпел на диване в гостиной.
Родители долго решали, кто прав, кто виноват, после чего отец громко хлопнул дверью спальни, и старые пружины дивана грустно заскулили под тяжестью его тела. Из спальни еще минут пять доносились недовольные реплики матери, упреки, оскорбления, на которые отец отвечал точно таким же сквернословием. «Руки из жопы растут! – еще раз с упреком бросила мне мать на кухне. – Надо было в первый раз аборт не делать, может быть, дочь бы родилась, хоть какая-то помощь, а от тебя одни проблемы! Лучше бы на тебе аборт сделала». Ей в ответ орал отец: «Какого черта сын на кухне тебе помогает? Это твоя работа, дура, за кастрюлей следить! Еще раз, нахрен, увижу, что он твою, бабскую, работу делает, эту сковороду тебе на голову натяну, поняла?» Я же пытался что-то сказать, извиниться в сотый раз, но лишь спустя время понял, что этих двоих мое присутствие явно не интересует, сын, мальчик, я, как снаряд, которым они перебрасывались, стараясь сделать друг другу только больнее. А еще в этот момент они вряд ли думали, что по-настоящему больно делают мне.
Наверняка уже поздний час, а сна ни в одном глазу. Высоко взгромоздившаяся в ясном ночном небе луна через окно тускло освещала комнату. Этот свет немного раздражал, то ли ночь, то ли сумерки, хотя раньше, в раннем детстве, я боялся темноты, и лунный свет служил мне спасением, хрупкой соломинкой. Я сел на кровати и спустил ноги. Локти уперты в колени, беспомощно, голову удерживали горячие ладони, безнадежно. Я не знал, что мне делать. Вдруг мне вспомнилось, как сегодня днем Он застыл в точно такой же позе. «Я тоже никогда не влюблялся, Марк». Сказать честно, я не знал, что такое влюбленность, какими могут быть ее симптомы. Вернее, знал из уст других одноклассников, что уже вовсю обжимались на каждом углу, читал в книжках, видел в фильмах, слышал в разговорах взрослых. Но разве можно почувствовать то же самое, что чувствует герой из фильма?
Кроме того, в школе в последнее время все значительно изменилось. Ветер сменил направление, разворачивая корабли к иным берегам. Уже не стеснительные, не озорные мальчишки и девчонки, прожорливо вглядывающиеся в формулы на школьной доске, а подростки, с влажными и беспокойными взглядами, нетерпеливыми юными телами, не способные усидеть на одном месте больше тридцати минут. Пошлость витала вокруг нас, мы чуяли ее повсюду, на скучных уроках и на веселых переменах. Одночлены и многочлены на алгебре заставляли всех ухмыляться, низко опустив голову. Волнующие многих мальчишек девчачьи волосы, касающиеся либо тонких поясниц, либо нежных плеч, короткие юбки и небольшие каблучки сводили с ума. Смелая рука, что украдкой ложилась на манящую коленку, и трепетная ладонь, накрывающая смелую руку. Целый урок эти двое надеются, что никто ничего не замечает, они ослеплены этим первым сильным чувством, отчего десять минут перерыва без тепла друг друга для них хуже смерти. Неловкий смех во время лабораторной по физике, когда всем по очереди пришлось натирать эбонитовую палочку, красные лица, затуманенные взоры, дрожащие неуклюжие пальцы, под которыми зарождалось электричество. «Вот так одно тело притягивает другое тело!» – говорила физичка. Тело притягивает тело, юные наэлектризованные тела, мы притягивали друг друга – сплошная физика. В один миг школа превратилась из храма знаний в рассадник похоти, и я в центре него. Ловлю краткие взгляды, редкие крошки: Он оборачивается на мгновенье и Его профиль застывает у меня перед глазами, Его изгиб шеи влево, худые позвонки, выглядывающие из-под воротника рубашки. В эти секунды я замираю, пораженный безумством своих мыслей, перевожу дыхание, через силу заставляя себя вспомнить о многочленах в уравнении. Мне просто кажется, я все выдумал, твердил я себе, гормоны бушуют, напрасно так распереживался.
Я вытянулся на постели, закрыв веки. В груди что-то скребло, не давая покоя всему телу. Тело. Мимолетно я припомнил, как оголилась полоска Его живота, от которой я с трудом отвел взор. Совсем недавно я осознал, что у Него тоже есть тело. Тело, способное притягивать иное тело, как магнит притягивает все самое желанное. Я опустил руку между ног, успокаивая. Тише, пожалуйста, мысленно умолял я, тише. Моя беда, мой стыд, мой позор. Я уже делал это несколько раз, не понимая, откуда берется это неконтролируемое чувство. Пытался заглушить его, задушить, убить в себе физическими тренировками, убеждениями, мольбами, математическими упражнениями, историческими сюжетами, все напрасно. Яркое и короткое наслаждение, смешанное со стыдом, после которого я не знал, чем погасить в себе приступ вины. Я жалок, слаб, даже не способен усмирить собственную плоть. В ночной тиши я слышал свое дыхание, влажное и прерывистое, будто мне и вовсе нечем было дышать, грудь распирало сердце, гулко и больно колотящееся. Утешающая ладонь напряглась над наливающейся тяжестью – ее от вставшего в виде восклицательного знака члена разделяла ткань трусов. Восклицательный знак! Я усмехнулся, вспоминая это мерзкое сравнение, хоть и не помнил его сказавшего. Подумать только, и в самом деле восклицательный знак – брось весь мир, обрати на меня внимание! Легкое поглаживание. В голове вспышками всплывали настойчивые образы: Его рука, свободно свисавшая с кровати, длинные, переставшие быть тощими, ноги, обтянутые юношескими мышцами, лицо, красоту которого вижу один я. Сонная красота, она еще пока безмятежно спит, готовится к пробуждению, к покорению. Его опасливый взгляд из-под челки и чуть-чуть приоткрытые губы – и с коротким вздохом меня отбросило куда-то в неизвестность, за края здравого смысла…
Я вытер влажную ладонь о живот, все еще находясь в тумане. Я точно знал, когда он рассеется, все вернется на прежние места: я, моя комната, пропахшая подростковыми тайнами и порочными мыслями, чувства стыда и вины. После каждого раза я клялся, что это и есть последний. Больше никогда не притронусь к себе, клянусь. Больше никогда не допущу подобных фантазий, они омерзительны, противны, да что там, мне и самому после таких мыслей к себе отвратительно прикасаться! Отчетливо я слышал обвинительный тон внутреннего голоса: Виновен! Виновен! Виновен! Каюсь, моя вина! Клянусь, что не повторится более!
***
В конце восьмого класса у меня появилась девушка – моя соседка по парте, что по-прежнему раскладывала канцелярские принадлежности, придерживаясь своего строгого правила: линейка, на ней ластик, над линейкой карандаш и много-много, плотно прижатых друг к дружке, ручек. Каждый заголовок в тетради она выводила разноцветной пастой, но больше всего любила фиолетовый с блестками. Ее звали Лиза.
Когда я предложил стать ей моей девушкой, а я именно так и сказал – «Будь моей девушкой!», она то ли удивилась, то ли испугалась. Меня и ее заветный ответ разделял урок русского языка, сорок минут напряжения тела и утомления разума в ожидании. Я попросил у нее ручку, чтобы показать свою заинтересованность. Какой цвет? – шепотом спросила она. Любой, ответил я. Глядя на меня, она вопросительно вскинула темную бровь: тебе безразлично, каким цветом ты будешь писать в тетради? Абсолютно по барабану, хотелось ответить мне, но вместо этого я сказал, что главное не цвет, а то, что эта ручка будет напоминать мне о ней. Вот тогда Лиза просияла и, чуть-чуть поколебавшись, отдала мне свое сердце – фиолетовую с блестками. Я покорил Лизу.
После урока она заявила, что ей необходимо подумать и ответ она сможет дать как минимум на следующий день.
– Конечно, – с важным и понимающим видом заметил я, – конечно.
Лиза подхватила с парты свой набитый учебниками и тетрадями рюкзачок и направилась к выходу, на прощание обернувшись и помахав маленькой ручкой. Хвостик на ее голове раскачивался в такт ее удалявшимся шагам.
В дверях кабинета я столкнулся с Ним. Он первым сдал назад, мол, давай протаскивай свою занудную задницу вперед, чтобы я больше тебя не видел. Очевидно же, что мы поссорились. Ужасно разругались. В пух и прах. Каждый делал вид, что отныне не замечает второго, и, видя раздражение на Его лице, я с предвкушением ликования представлял себе Его реакцию, когда завтра утром появлюсь рука в руке с Лизой, моей девушкой… Подумать только, я пытался хвалиться перед Ним, девчачьи повадки, бабское поведение, видел бы меня сейчас отец, то, вероятнее бы всего, врезал как следует. Я прошел вперед, ощущая спиной Его взгляд.
Поссорились мы раньше, чем я предложил Лизе свои руку и сердце.
Весна в этом году случилась ранняя, теплая. С радостью мы скинули зимнюю одежду, накинув на плечи ветровки; в прихожей нетерпеливо, как боевые кони, поджидали велосипеды, на которые мы одним махом вскакивали, чтобы с порывами ветра умчаться в весеннюю даль. Все как всегда, Он впереди, я позади, дышу в спину. Казалось, что я начал свыкаться с положением, что всегда буду позади, за Ним, и на какое-то время эта мысль приносила мне странное удовлетворение, граничащее с удовольствием. Как будто только так мне спокойно, хорошо. Мы гнались друг за дружкой по длинным мостовым и проспектам, делая короткие остановки, чтобы перевести дух. Приваливались к парапету моста сперва разгоряченными спинами, закидывали головы назад, подставляя бледные, изможденные долгой зимой лица солнцу, затем разворачивались к реке и глядели на ее тихое, размеренное течение, хоть над рекой и дымились производственные трубы, это не мешало нам думать о чем-то грядуще-великом. Перемены – говорил я, лето – смеялся Он. Перемены или лето, неважно, важно было то, что в эти минуты я чувствовал себя как никогда замечательно. И мне не хотелось, чтобы этот миг заканчивался. Вот бы остановить время, думал я, только здесь и сейчас. Только Он и Я. Как Александр и Гефестион, как Ахилл и Патрокл. Мы больше чем друзья, мы соратники под одним плащом, за одним щитом!
Вновь мы оказывались в седле и неистово крутили педали. Я видел, как свежий ветер раздувает Его ветровку, как треплет темные и непослушные волосы, видел, как Его юношеские ноги напрягаются под тонкой тканью брюк и как мелькают у меня перед глазами изящные щиколотки. На крутых виражах Он пригибал спину, словно становясь частью велосипеда, а я тем временем крутил педали и, не переставая, грезил о линиях изгибов Его тела, о той красоте, которая распускается этой весной, о том, что, вероятнее всего, я унесу это едва уловимое чувство с собой на весь вечер и на всю ночь, что после буду отчаянно себя ненавидеть и со злости хлестать по щекам, но в эту минуту я не мог думать о чем-то менее прекрасном, чем о Его летящем силуэте.
Мы остановились неподалеку от нашего двора, в тени полуобнаженных деревьев. Не спешиваясь, Он выбросил вперед ногу и расстегнул ветровку. Его лицо горело свежестью и молодостью, рукой Он сгреб свою треклятую челку назад, открываясь мне. И ни с того ни с сего я спросил:
– Ты делаешь с собой что-нибудь… такое…
Он сощурился:
– Какое такое?
– Ну такое… сам с собой…
Непонимающе Он покачал головой, и я уже тысячу раз пожалел, что сморозил глупость, вот же голова дурная!
– Ладно, забудь.
– Стой-стой, – Он ухватил меня за рукав ветровки, жест нацеленный и любопытный. – Я хочу знать!
– Например, остаешься один в комнате и думаешь о всяком таком, – очень глубокий вздох, – неприличном, и трогаешь себя…
Господибожемой… а я и не подозревал, что говорить о подобных вещах так трудно.
– Где ты себя трогаешь? – спросил Он, и на губах засияла издевательская ухмылка. Вот же гад!
– Да ну Тебя в жопу! – я повернулся к велосипеду и уже перекинул левую ногу, как Он заговорил.
– Да.
– Правда?
Он кивнул, и челка скрыла Его глаза, но вспыхнувшие румянцем щеки выдали смущение. Все мое существо откликнулось на Его короткое «да», как наэлектризованные частицы завертелись-закружились вокруг своей оси, потянулись к Нему. Странное ощущение, от жгучего стыда до острого интереса, от отвращения до возбуждения, будто в голове ураган пронесся. Я желал знать все, до мельчайших подробностей, что, как, когда, почему Он так делает, о чем думает, кого представляет, я желал видеть… Нет-нет, я ничего не хотел видеть, я не знал, почему об этом подумал, господи, я страшно разволновался.
– Ну, о девушках, – вяло поведал Он. – Грудь, лицо, что там еще бывает… ноги, точно, ноги…
– А поподробнее?
– Елки-палки, Марик, ты правда хочешь знать, о ком я фантазирую? – я явно смущал Его еще больше.
– Да, мне очень нужно знать.
– Ну актрисы там разные, певицы…
– Бритни Спирс?
– Нет, – прямо закричал Он, отчего я испустил нервный смешок, – мне не нравятся блондинки.
– Ясно, – протянул я.
Я должен был изначально догадаться, что этот откровенный разговор ни к чему хорошему не приведет. Теперь же я абсолютно точно знал, что со мной что-то не в порядке. Ни актрис, ни певиц, ни телеведущих нет в моих желаниях. Какой потрясающий идиотизм! Меня поразило удивительно постыдное желание по-детски захныкать, пустить слезу бессилья, когда от меня ничего не зависит. Ни единой девушки, женщины ни разу не мелькнуло в моих полуночных фантазиях, одно сплошное распутство. В голове моей бардак, и необходимо что-то с этим делать.
Молчком, не проронив ни слова, я уселся на свой велосипед и с невиданной силой закрутил педали. Впервые я оказался впереди. Я убегал, от себя, от Него, едва поспешавшего за мной, от своих дурацких фантазий. Убегать – в этом мне нет равных.
– Марк! Ты чего? – Он дышал как паровоз. – Я что, обидел тебя?
– Нет. Все нормально.
Он низко опустился ко мне, лицом к лицу, понизил голос до шепота, что подействовало на меня крайне дискомфортно:
– У тебя проблемы… с этим?
– Нет, с чего бы? – я попытался улыбнуться.
– Хочешь, вместе как-нибудь попробуем?
– Что?
– Это… типа помощь, обмен опытом, так сказать.
Дверь подъезда внезапно открылась, и из него вышла молодая девушка. Привлекательная по общественным меркам. Он проследил за ней взглядом, жадным и немного рассеянным, и я понял, как сильно Его ненавижу. Ненавижу за слабость, которую Он вызывает во мне, за слабость, которой рядом с Ним я поддаюсь. Дурное влияние, дурной пример. Ни Александр, ни Ахилл так бы не поступили!
– Хочу! – уверенно сказал я, вздернув волевой подбородок.
Тот роковой день, День Обмена Опытом, как назвали его мы, и стал причиной нашей огромной ссоры. С того дня мы не разговаривали две недели и три дня, мы возвращались домой одной дорогой, но по разные стороны – я по левой, Он по правой, стараясь не глядеть друг на друга. В один из таких дней, после проливного весеннего дождя, Его какая-то машина окатила волной из лужи. Я слышал, как Он громко выругался, а затем обернулся, чтобы взглянуть на масштабы катастрофы, – это был первый раз, когда наши взгляды скрестились, очень не по-доброму. Я шагнул к Нему навстречу, сам не понимая зачем, наверное, мной двигал долг дружбы, товарищеский долг, в общем, потянуло меня к Нему. В ответ Он лишь оскалился, во взгляде блеснула вражда, и Он отчеканил:
– Проваливай!
– Сам пошел! – сквозь зубы процедил я. – Педик!
– Сам такой!
Круто развернувшись, я скорым шагом направился домой. Внутри меня все рокотало от злости и гнева, гаденыш, чтоб Его тысячу раз из лужи облили! Так Ему и надо!!! Со злости я пнул камень с дороги, и еще один, еще, еще…
О том, какой день назначить Днем Обмена Опытом, мы заранее не договаривались; решили, что это должно произойти как-то само собой под случай или, по крайней мере, под настроение. Он выглядел крайне спокойным, я же был на постоянном взводе. Идея эта мне уже не казалась привлекательной, глупость, наиглупейшая глупость! Идиотизм! Чем больше я пытался не думать о предстоящем событии, тем больше всяких мыслей лезло в голову.
После занятий, в пятницу, мы как обычно были у Него: я напряженно решал упражнения, которые с каждой новой темой давались мне адски тяжело, в то время как Он нависал надо мной, с умным видом поглядывая в мою тетрадь. У Него имелись хорошие способности к преподаванию, умел объяснять материал и имел на это много терпения (из равновесия Его не мог вывести даже я, самый худший ученик по математике). Без Его помощи мне никак не одолеть годовую контрольную.
В комнату заглянул Его отец, подмигнул мне, как делал это всегда, вторгаясь в наш круг из двух нервных подростков. Как я полагал, подмигивание – нечто вроде «извините, парни, я на минутку к вам».
– Мы в театр, ужин на плите, – сказал отец. – Не скучайте!
И его голова с усами скрылась из виду.
– Классные у Тебя родители, – сказал я.
– Ага, – ответил Он, заливаясь краской. Интересно, что Его смутило?
Мне захотелось Его развеселить, сказать что-нибудь приятное, и я выдал свой маленький секрет:
– Когда я увидел Твоего отца, то решил, что он Якубович!
Он хихикнул, подсаживаясь ко мне ближе и передвигая тетрадь с упражнениями к себе для проверки.
– Я в детстве тоже думал, что он Якубович. Ну, знаешь, когда отец в командировку уезжал, то думал, что он уезжает на съемки игры.
Мы немного посмеялись, и смех снял напряжение, нарастающее между нами в последние дни. Я почувствовал себя лучше, свободнее, словно перестала затягиваться та веревка у меня на шее, которую я накинул, дав Ему обещание сделать это вдвоем. Вместе с облегчением пришло некое подобие нежности к другу. Невольно я принялся разглядывать Его профиль, легкую горбинку на носу, которую получил Он, ударившись о дверной косяк, будучи совсем маленьким. Наверное, Ему было ужасно больно. Я знал, что в тот день Он сильно плакал, пока врач в травматологическом кабинете осматривал нос; с тех пор чуть-чуть стесняется, старается без необходимости не поворачиваться к собеседнику профилем. Последнего Он мне никогда не рассказывал, потому я либо был прав, либо мне казалось, что я жутко наблюдательный. Его голова склонилась еще ниже к бумажным листам, а губы зашевелились в молчаливом шепоте, перекатывая цифры на языке. В эту секунду во мне что-то щелкнуло, отслоилось, какая-то глубоко упрятанная храбрость проснулась и бросилась грудью на передовую – кончиком пальца я провел по горбинке Его носа.
Не поворачиваясь, Он очень тихо проговорил:
– Ужасно, да. Особенно в профиль.
– Нет, зря Ты так говоришь.
– Ты мой друг, потому и говоришь так.
– Ты красивый, – как в тумане добавил, – очень.
Грустная ухмылка скользнула по Его губам, и тут я понял, как сильно сдерживаю себя, чтобы не повторить трюк, но уже с Его ртом. Мои стыд и позор, мои прилипчивые тени, о чем я только думал? О том, что впервые сожалею, что не умею целоваться, ни разу не чувствовал прикосновение чужих губ на моих губах. Какие они, Его губы? От сделавшейся священной тишины между нами у меня дух захватило, а когда Он несмело и неуклюже прижался щекой к моей щеке, я попросил:
– Давай сейчас.
Тем же вечером я, распластанный, лежал на кровати в своей комнате и не моргая глядел в темный потолок. Сославшись на плохое самочувствие, не вышел ужинать. «Кончай заниматься после школы, – рявкнул отец, – от этой учебы скоро свихнешься, а нам с матерью придется за дурачком горшок таскать!» Хорошо, папа, ответил я и поразился своему бесцветному тону.
Я не мог понять, что же произошло на самом деле, потому что единственным, что я запомнил, когда вышел за дверь Его дома и оказался на пороге собственного, стали – Кот, трущийся о мои ноги, пока я холодными и неподатливыми пальцами пытался зашнуровать ботинки, и та ледяная вежливость, которую мы с Ним проявили друг к другу после случившегося. Все остальное выбило меня из колеи, прямо пинком под дых. Сейчас же, спустя несколько часов, память благодарила меня, возвращала то, что я так неистово пытался забыть… Его ладонь, моя ладонь, как я жалобно и покорно привалился к Нему на плечо, Его пальцы, пробежавшие по моему плечу, как меня шатало, пока я плелся по коридорчику… В груди поднимался рев, истошный крик, слишком тесно им в моей груди, нужно дать им свободу, закричать, заорать, выбраться из этой шкуры! От распираемых чувств обеими руками я закрыл лицо и засучил ногами по кровати: Виновен! Виновен! Виновен! Кайся, кайся, распутник! Мужской позор, пятно грязи, которое не смыть тебе никогда!
Со следующего дня я принялся избегать Его. Лишь короткие и неулыбчивые «привет -пока». Мне было больно смотреть Ему в глаза, больно было представлять, что видит Он, глядя на меня. Невыносимо сидеть полдня позади Него, уставившись взглядом в знакомый затылок, помня Его запах, помня Его взволнованное дыхание, помня Его тяжесть у меня в ладони. Не от математики я сходил с ума, ой, не от математики. Что же за изъян во мне, размышлял я на занятиях, что за червоточина? Где сердцевина пороком пораженная?
Внезапно меня вызвали к доске, решать уравнение. С одинаковым выражением лица – тупое изумление – я смотрел и на доску, и на мел в пальцах. Его пальцы. Какими желанными они оказались вчерашним днем, как на их кончиках, одновременно мягких и плотных подушечках, сосредоточился мой шаткий мир…
– Марк, быстрее, – попросила учительница. – Это легкий пример.
Легкий, я знал. Она бы ни за что не вызвала меня к доске на тяжелый пример, она знала мою наклонность. Слабина.
– Садись, – разочарованно выдохнула она.
Как во сне я прошел по узкому рядку между парт, мимо Него, притихшего и как никогда молчаливого. Изо всех оставшихся сил я старался не поднимать взор на Него, не коснуться случайно.
После занятий мы вдвоем оказались на нашей дороге, я прибавил шагу, Он тоже. Я чувствовал, что на грани дать деру. Марк! – Его ладонь на моем плече, которую я моментально скинул. Не трогай меня! – заорал я. Давай поговорим! – Он откинул челку с глаз раздраженным кивком головы. Не о чем! – снова заорал я, будто чем громче реплика, тем доходчивей доводы. Отвали от меня! Казалось, Он застыл на месте, мои слова как жгучая пощечина по Его красивому лицу, по щекам, к которым я вчера как безумный ластился. От-ва-ли от ме-ня! Ты же сам просил! – тоже заорал Он. Это Ты предложил, – я толкнул Его в грудь, – долбаный обмен опытом, да пошел Ты со своим опытом, извращенец тупой! Теперь Он толкнул меня в ответ: «Это ты целоваться лез, педик! Знал бы, никогда бы тебе не предложил свой опыт!» Пидор! Сам такой! И прическа Твоя пидорская! Зато твоя лысая башка всем нравится!..
В общем, растащила нас какая-то женщина, обозвав малолетними подонками. Прямо средь бела дня драку устроили, мерзавцы, еще с портфелями ходят, школьнички, вот бы в милицию вас сдать, чтобы научились вести себя!
Я задыхался от злости и боли, не в силах даже находиться с Ним на одной улице, да что там, в одной школе!
– Ненавижу Тебя! – сказал я Ему у подъезда.
– Взаимно!
– Меня тошнит от Тебя!
– А я вчера блевал от тебя! Еле отмылся!
Невыносимо. Гнев мой не знал границ.
– Я жалею, что Ты был моим другом! – зло бросил я.
– Взаимно!!! – зло выдавил Он и с грохотом хлопнул дверью.
Чтобы понять свою ошибку, мне понадобилась неделя. Семь дней напряженных размышлений. В засекреченной тетрадке я провел вертикальную линию, мои минусы и плюсы. Они должны были помочь мне докопаться до истины, до той точки отсчета, когда я плюхнулся на дно, потеряв лицо, честь и достоинство.
Я слишком много занимался. Минус мне как молодому парню с гормональным перебоем. Не туда я растрачивал энергию.
Я слишком много читал. Снова минус. Монах, отец совершенно точно подобрал мне определение.
Я не интересовался развлечениями, где задействовано много молодежи, разнообразие лиц и тел. Там, где сплошные физика и химия, там, где тусовались практически все, там, у кого закончился век чистоты и целомудрия…
Я закрыл тетрадь и, разорвав ее на несколько частей, выбросил в мусорное ведро. Девушки, короче, у меня нет. Вот и ответ. Будет девушка, будет все хорошо. Вот так я и предложил Лизе встречаться, стать моей единственной и неповторимой. Моя Лиза, моя соседка по парте, девушка, которую я знал с первого класса, с которой мы бок о бок уже восемь лет. Не каждая семейная пара может похвастаться такими сроками! Прекрасный выбор! Я надеялся, со временем мы лучше узнаем друг друга, познаем внутренние миры и внешние вселенные, станем единым целым, а влюбленность или любовь не за горами, надо только дать время, чуть-чуть подождать!
***
Отныне у меня появились новые обязательства. Например, шесть дней в неделю вставать на полчаса раньше и идти в чужой двор, к чужому дому, к чужому подъезду. Я ждал, переминаясь с ноги на ногу, мою девушку. Вокруг свежее весеннее утро, пропитанное запахом сирени, на небе сиреневые мазки рассвета. Сиреневое утро. Конец весны, середина мая, я носом втягивал лето, наполняя им безжизненное тело. Многие бы отдали все самое ценное, что у них есть, чтобы ежедневно поджидать подружку, чтобы вместе взявшись за руки пробираться по сонному двору, тихому и уютному, чтобы вместе вдыхать сладкие сиреневые нотки первой влюбленности. Но не я…
Появилась Лиза, с улыбкой на губах. С тех пор как мы начали встречаться, она стала пользоваться косметикой, ненавязчиво, слегка. Кстати, ей очень шло: глаза стали мягче и выразительнее, а губы, чуть-чуть подкрашенные блеском, заманчивыми. Но не для меня… Хотя я сразу же заметил в ней перемены и сразу же поспешил с комплиментом; все же мне хотелось сделать для нее что-то приятное, потому что она вроде как и ни в чем не виновата. С куста сирени я сорвал самую красивую веточку, усеянную самыми крупными цветками, и протянул Лизе. Она скромно улыбнулась, приняла «подарок» и вложила свою теплую ладонь в мою, потную и недружелюбную. Стараясь держаться ближе друг к другу – как ни крути, все-таки мы парочка, побрели в школу.
Обычно я молчал, говорила Лиза. О сериалах, фильмах, о «Сабрине – маленькой ведьме», о «Зачарованных», о «Беверли-Хиллз, 90210», о том, что Шеннен Доэрти гораздо круче в «Зачарованных», чем в «Беверли-Хиллз, 90210», что Лиза хочет отрастить волосы такой же длины, как у Шеннен в «Зачарованных», потому что ее собственные волосы жуть какие плохие, секущиеся кончики, тонкая и ломкая структура, нужен не один бальзам, чтобы… Я не желал больше узнавать ее внутренний мир, правда. Впрочем, стоило мне на секунду отвести взгляд в сторону, как ее цепкие пальцы со страшной силой впивались в мои: «Тебе со мной скучно, да?» И глаза такие в этот момент, большие, влажные, слезы так и дрожат в них. Ну как тут не чувствовать себя последним мудаком? Что ты, потеплевшим тоном говорил я, что ты, очень интересно, так что там с Шеннен?
Иногда мы пересекались с Ним, как в худших американских фильмах для подростков. Одиночка-Он на противоположной стороне дороги, с рюкзаком, перекинутым через одно плечо, и мы, типа влюбленные.
– Вы поссорились, да? – осторожно спрашивала Лиза.
– Да, – говорил я, маскируя грусть в голосе. – Так бывает.
– Странно, я думала, что такие, как вы, будете дружить всю жизнь.
На этой фразе мне остро захотелось отпустить руку подружки и перейти на противоположную сторону. К Нему. Ведь я тоже думал, что мы с Ним – навсегда.
По правде говоря, я скучал, нестерпимо и бесконечно. И присутствие Лизы напоминало, что я один в чужом краю; мне не хватало Его, чертовски.
– Хочешь, после занятий послушаем у меня музыку? – предложила Лиза.
– Давай.
– Здорово, – и прильнула ко мне своим трепетным существом.
После занятий мы отправились к Лизе домой. На развилке, где Он повернул в сторону нашего с Ним дома, а мы повернули в сторону ее дома, я оглянулся, метнул в Него взгляд, полный торжества. Видал? Я и моя любимая девушка идем к ней домой и наверняка будем заниматься кое-чем интересным! Наконец-то я стану мужиком, боже мой, наконец-то это случится! И канет в глубокую реку памяти мой черный позор!
Мы поднялись на четвертый этаж; Лиза впереди, я за ней, на ступеньки две-три отставая. Перед глазами открывался вид женской спины, юной, резной, словно вылепленной из глины руками искусного мастера, округлые ягодицы под короткой юбкой при каждом шаге едва заметно напрягались. Я должен был научиться замечать женскую красоту, должен! Нельзя отступать!
Смущенно улыбаясь, она впустила меня в свой дом, свою крепость. Непривычно. По-хозяйски схватив за руку, повела в комнату.
– Ты какую музыку любишь?
Я пожал плечами, веселую. Мне нравятся веселые, жизнерадостные ритмы, но нет каких-либо кумиров абсолютно. Тебе медведь на ухо наступил, говорил Он, посмеиваясь, любивший, между прочим, как и я, зажигательную музыку.
– А я люблю Бритни Спирс, просто обожаю.
Господь всемогущий…
На четвертой песне я прекратил улыбаться и делать вид, что в полном восторге. Пока Лиза с закрытыми глазами слушала любимую музыку, сидя перед проигрывателем на полу, поджав ноги по-турецки и слегка раскачиваясь из стороны в сторону, я разглядывал ее комнату. Женская комната. Я впервые был у девочки в гостях. Весьма необычные ощущения, будто не в своей тарелке. Повсюду расклеенные на стенах плакаты каких-то людей, наверное, музыкантов или актеров. Немного жутко, столько глаз, нацеленных на меня, и как-то совершенно не тянет в их присутствии становиться мужиком. Меня передернуло.
– Однажды я обязательно побываю на ее концерте! – тихо, словно заклинание, прошептала Лиза.
– Конечно.
– Вместе с тобой.
– Эм…
– Нужно найти нашу с тобой песню.
– Что?
– Нашу. Наших отношений…
Она подняла на меня глаза, чуть подаваясь вперед. Отличный момент, чтобы поцеловать ее. Давай, Марк, собери всю волю в кулак, целуй ее! Целуй!!!
– А обязательно выбирать из репертуара Бритни?
– Тебе не нравится?
Я присел к Лизе, не соприкасаясь, держа дистанцию, но определенно близко, чтобы дать понять – границы между нами, дорогая, становятся чересчур размытыми.
– Нравится, очень. Мне нравится все, что нравится тебе.
Как там? Одна рука на грудь, другая на бедро, губы сливаются в нежном поцелуе. Ну же, Марк, действуй! Не будь слабаком, не будь тряпкой! Женщины таких не любят, покажи ей внутреннего мужика, выпусти зверя на волю!
И тут внезапно, так внезапно, что я дар речи потерял, Лиза поцеловала меня. Сама. Обвила руками шею, притянула к себе и прижалась горячими губами к моим губам.
– Ты такой застенчивый, – прошептала она, пряча свое лицо у меня на плече. – Думала, никогда не решишься первым.
– Боялся обидеть, – пролепетал я, когда ко мне вновь вернулась способность дышать.
– Теперь ты.
– Что я?
– Поцелуй меня.
Господи, за что?
Набрав побольше воздуха в легкие, я сделал это. Даже дотронулся до ее крошечной груди, аккуратно положив ладонь на левую – или на правую? – хм, часть? Да я, собственно, не запомнил. Когда вознамерился отнять ладонь назад, она попросила оставить, мол, ей очень приятно, и я повиновался.
Должен заметить, что ее присутствие меня волновало, честно. Некое подобие знакомого возбуждения, напряжение в мышцах и легкое головокружение. Разумеется, подобная близость не остается равнодушной, напротив, это было для меня чем-то необыкновенным, новый, неизведанный доселе, опыт. Любая близость волнительна. И это я прекрасно понимал, оттого, сославшись на срочные дела, извинился и удалился.
– Завтра же утром увидимся, да? – спросила она, сияя.
– Да.
Оказавшись на свежем воздухе, я долго не мог прийти в себя, сделать шаг от чуждого мне дома. Я не мог поверить, нет, отказывался в это верить – то, что случилось минутами ранее, ни шло ни в какое сравнение с тем, что приключилось с Ним в День Обмена Опытом. Я болен, очень болен какой-то плохой, омерзительной болезнью, потому что сейчас меня всеми струнами души тянуло исключительно к Нему и гнало прочь от Лизы. Боже, что же я натворил?
– Кто она?
Мать через обеденный стол уставилась на меня во все глаза.
– Кто?
– Та девчонка, с которой ты каждое утро шляешься. За ручку еще держатся!
Мать усмехнулась, а отец удивленно изогнул густые брови.
– Девчонка? Невеста, что ли?
– Нет, – ответил я, ощущая, как кровь прилила к лицу. – Мы просто… дружим.
– В смысле ты ее тискаешь? – подмигнул отец.
– Что значит тискаешь? У тебя все сводится к пошлости, – надула губы мать.
– Так это же нормально! – Отец удовлетворенно откинулся на спинку стула и потер руки. – Наконец-то сын за ум взялся, девку нашел, перестанет быть монахом и вечно ходить по улице с пацаном.
– С каким пацаном? – мой вопрос вырвался изо рта, словно грабитель из темного угла.
– С каким, спрашивает еще! Дружок твой волосатый! Прям не разлей вода! Что люди-то говорить будут? Так и решат, что вы из этих… пидорасов. На кой хрен нам сплетни нужны? Его родителям-то насрать, что люди подумают, вон какого сына воспитали, прости их душу мать…
– Какого сына воспитали? – металлические крошки зазвенели в моем голосе.
– Ну, давай-давай, защищай своего придурковатого. Один ты не замечаешь, что с дурачком возишься, как будто не видишь, какие взгляды ему родители в башку вбили.
– Какие?
– Свобода, едрить-колотить. Наше поколение воспитывали жестко, в ежовых рукавицах держали, а этим либералам только распущенность и подавай. В армию твой дружок стопудово не пойдет, откосит, типа больной или еще какой убогий. Хотя зачем ему справка, будто по роже не заметно, что убогий!
Мать хохотнула.
– Родину продаст, едва волосню прикажут сбрить с башки.
– Хватит! – сказал я не своим голосом. – Не имеешь права так говорить!
– О, мать, гляди, либерал растет в семье! Про права мне сказки рассказывает! Щас как шарахну кулаком в зубы, что с табурета слетишь и на полу будешь свои права искать, понял? С отцом еще огрызается, щенок, хер не вырос со мной тягаться.
И тут у меня вылетело:
– Да видел я твой хер, ничего особенного.
Отец среагировал молниеносно, и я действительно слетел со стула, ударившись головой о стоящий позади холодильник. Мать закричала то ли на отца, то ли на меня, то ли просто от страха – я не разобрал, в голове шумело, по подбородку текла кровь. Мой первый акт неповиновения. Восстание меньшинства. Революция, и вот он я – валяюсь на полу, сглатывая жгучую боль в носоглотке, зажав пальцами переносицу.
Отец сгреб мои короткие волосы на затылке, приблизил лицо и пристально вгляделся:
– Тявкать еще будешь?
Молчание, только быстрые глотательные хрипы в моем горле.
– Ублюдок, не слышу? Тявкать еще будешь?
– Нет.
– Вот и закрой свой хавальник!
В школе, на следующий день, я появился с отекшим и посиневшим лицом. Упал, понятно? Сам, что ли, не видишь? И что вам всем от меня надо? Отвалите!
Лиза тихонечко тронула меня за руку во время урока истории. Заботливая, серьезная, будто в один момент повзрослевшая женщина.