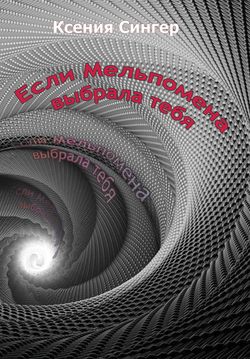Читать книгу Если Мельпомена выбрала тебя - Ксения Сингер - Страница 2
Оглавление1970 год, 22 декабря
Это дата моего рождения.
1973 год
Первые ощущения себя, которые я могла вспомнить: мне два года. Я стою у папы на коленях, одной рукой обняв его за шею, а второй прижав к себе куклу Машку. Только в такой позиции я чувствовала себя комфортно и защищенно. Я очень любила папу, еще я любила бабушку Алину, папину маму, и Машку – куклу, которую сшила мне бабушка. Машка была моим доверенным лицом, моей подругой, моей спутницей ночи. Маму я тоже тогда любила.
1974 год, май
Мне почти три с половиной года. Папа держит меня за руку, а второй рукой я прижимаю к себе Машку, и мы втроем идем по длинной дороге. Там в конце видно, как дорога сходится с небом. Я подаю идею:
– Папа, давай дойдем туда, где небо на дорогу легло, и пойдем дальше по небу. Дойдем до облака и попробуем мягко ли там прыгать.
Папа берет меня на руки и показывает, что теперь, когда я нахожусь выше, место, где небо с землей сходятся, много дальше. Я тут же догадываюсь, что если папа присядет на корточки, то нам будет идти ближе. Он смеется и рассказывает мне про горизонт. Мне нравится горизонт, который играет с нашими глазами в прятки. Мне только непонятно, где же тогда начинается небо.
– Лина-Лин, колокольчик мой, да прямо от земли и начинается.
– Нет, папа, облака плывут по небу, они ведь по земле не ходят.
– Ходить, не ходят, но на землю тоже бывает, что опускаются, и называются они тогда инверсионными. Облака находятся на разной высоте, каждое на той, на какой ему удобнее согласно закону физики.
– Папа, а есть такой закон физики, чтобы мне тоже удобно было летать по небу?
1975 год, январь
Я была, по-видимому, проблемным ребенком от рождения. Вероятно, поэтому мама таскала меня по врачам, хотя папа сердился на нее за это, считая, что я абсолютно адекватна. Но мама упорствовала и наконец торжественно презентовала папе заключение врачей: «синдром сверходаренного ребенка с элементами аутизма». Папа, отодвинув бумаги, которые перед ним положила мама, сказал:
– Чушь, абсолютно нормальный ребенок. Оставь ее, пожалуйста, в покое.
Аномалии у меня действительно были. К примеру, память. Мама говорила, что у меня не память, а копировальный станок. Папа тут же возражал, что это наследственность, и у него была такая же в детстве. Или еще когда я обижалась, то забиралась в плохо досягаемый взрослыми угол, и мне надо было что-нибудь листать. Все знали, что через некоторое время ребенок успокоится и все будет в порядке. Листать было скучно, и я начала рассматривать то, что было на страницах. И установила, что чаще всего там были буквы, которые, объединившись, образовывали слова. Я стала спрашивать у папы, как они это делают. Он мне показал, как можно, называя буквы, читать слова. И довольно скоро это стало моим любимым занятием; теперь я сама читала себе сказки. Собственно, читала все, что попадало под руку, и все запоминалось само собой. Предметом листания могла оказаться как детская книжка, так и толстый том энциклопедии – толщина его выбиралась прямо пропорционально глубине обиды. Но листать одно и то же второй раз я не хотела. После того как я начала читать, папа стал покупать мне книги специально для листания. Как-то мне попали в руки ноты. В шкафу стояла большая коробка, полная тетрадей, исписанных крючками и полосками, которые меня ужасно интриговали. На мой вопрос, как их читать, папа посоветовал мне обратиться за консультацией к бабушке. Оказалось, что это не крючочки вовсе, а ноты, и было их семь сестренок – у каждой было свое имя. Чтобы отличать их, они были рассажены среди полосок, как на этажах, и на каждом этаже каждая на свое место. Имена их можно петь или играть на музыкальном инструменте. Бабушка подвела меня к пианино и показала, если ударить по клавише, она назовет свое имя.
– Если ты запомнишь имена клавиш и будешь следовать порядку опроса и правил, написанных в тетради, получится музыка.
Бабушка села за пианино и начала играть. Это было открытие другого мира. Я, конечно, и раньше слышала музыку, но сейчас меня поразило, что бывает страшно, весело, грустно не только когда читаешь истории и сказки в книгах, но и когда слушаешь музыку. Как хотелось самой читать, также захотелось самой играть. Бабушка стала потихоньку, никому ничего не говоря, обучать меня музыке. Когда я бывала у бабушки, я никогда не обижалась. Мне было у нее всегда хорошо. Не надо было забиваться в угол и что-то листать одной. Мы делали с ней все вместе.
Однажды, дома, после очередного сидения в углу и листания нот, я попробовала воспроизвести на пианино то, что запомнила, стараясь повторять бабушкины движения. Это почему-то произвело впечатление на маму. Она была в восторге. Клавиатура на пианино была мне чуть ниже подбородка. Я наотрез отказывалась садиться на стул, мне надо было играть стоя, чтобы время от времени, изогнувшись, нажимать еле досягаемые педали piano и forte. Это был почти цирковой номер. Мама приглашала к нам гостей. Все меня начинали просить поиграть на пианино. С чувством собственной важности я делала интерпретацию какого-нибудь мною выбранного классического музыкального произведения. После этого, получив порцию похвал и конфет, я удалялась в мою комнату, слыша, как мама начинала рассказывать, что я сверходаренный ребенок, но вот с элементами аутизма – отсюда мои странности. Такие представления всегда бывали в отсутствие папы.
Это все так засело в памяти, по-видимому, в связи с произошедшими для меня трагическими событиями; впервые пережитым чувством утраты очень близкого мне существа.
В этот раз мама наряжала меня особенно тщательно. Мы сменили уже несколько нарядов, пока она, наконец, не сказала:
– Сейчас пойдет. Я очень тебя прошу сегодня себя хорошо вести. Придет главный редактор с женой, будь вежливой с ними. Он мой начальник и от него многое зависит. И без капризов, пожалуйста, – увещевала она меня, причесывая.
Я поняла, что сегодня нужно быть особенно хорошей девочкой и как можно лучше играть на пианино, если попросят. Мы с мамой были уже готовы и ждали гостей. И вот раздался звонок. Мама пошла открывать; я тоже побежала за ней. Через проем двери вошел очень большой дяденька, за ним красивая тетя, а за ними светло-рыжая с длинными висящими ушами и высунутым языком собака. Дядька присел передо мной, придерживая собаку, сказал ей:
– Сидеть. Тебя зовут Лина? А ее Кони. Кони, дай лапку Лине.
Кони не только подала лапу, но и лизнула меня в лицо. В ответ я обняла собаку и поцеловала. Это вызвало полный всеобщий восторг. Дядя был очень доволен и отрекомендовался: «Меня зовут Фолькер, ее зовут Брунхильде» – ткнул он пальцем в свою спутницу.
– Она музыковед и очень любит музыку. Говорят, ты очень хорошо играешь на пианино. Мы пришли послушать, порадуй нас своей игрой.
И хотя мне так не хотелось отрываться от Кони, надо было подчиниться желанию гостей. Тем более, что мама уже строго смотрела на меня. Я надула щеки и важно спросила:
– Что бы вы хотели послушать из Моцарта, Шуберта или Бетховена, или…
Предложение несколько обескуражило гостей, к явному удовольствию мамы. Брунхильде спросила у меня, сюсюкая, как с маленькой:
– Ну и что из Бетховена ты нам можешь сыграть?
– Лунную сонату. Я буду исполнять ее впервые.
Лунная соната завораживала меня не только своим названием, но и той тревогой, с которой клавиши выкрикивали свои имена.
Гости начали снимать пальто, а я побежала в комнату, встала за пианино и начала играть, не оборачиваясь и не интересуясь, слушают они или нет. Я была почти в конце первой части, когда услышала отчаянный крик Машки. Не говоря ни слова, я ринулась в мою комнату, слыша за собой голоса:
– Извините, по-видимому, технические проблемы.
– Сколько ей лет?
– Четыре в конце прошлого месяца исполнилось.
– Бесподобно. Это ее детское восприятие музыки, ее собственная интерпретация. Гениально.
Я же в это время сражалась с Кони за Машку. Это рыжее чудовище, лежа на моей кровати, вымочив слюной мою подругу, раздирала ее на части. Кругом валялись клочья ваты. В кровати было мокро. Пытаясь отобрать Машку, я ухватила ее возле собачьих зубов. Тогда зверюга всей пастью вонзилась мне в руку; в ответ я впилась зубами ей в ухо. Кони разжала челюсти и завизжала. На ее визг прибежали взрослые. Мама стала шлепать меня по лицу, чтобы я отпустила ухо Кони. Увидев на собаке кровь, они стали искать на ней рану. Фолькер сообразил, что источник крови не на Кони, и первым увидел мою прокусанную руку. Я не плакала. Я прижимала к себе все, что осталось от Машки. Встала, пошла и села в угол лицом к стенке. Потом все суетились вокруг меня: обрабатывали и забинтовывали мне руку. Мама забрала у меня Машку под предлогом, что ее надо срочно отправить в больницу. Брунхильде стала мне обещать, что в ближайшие дни они принесут мне новую куклу, которая и говорит, и пьет, и писает, и ходит. Пришлось ей объяснять, что я не играю в куклы, даже если они и умеют все делать, но они все равно не живые и не надо на них тратить зря деньги. А Машка была живая, и теперь она может умереть. Я их простила и пожала им руки, и Кони простила, она не виновата, что такая глупая. Мама перестелила всю мою постель. Я легла, но не было Машки и от кровати пахло Кони.
Забравшись на подоконник, я стала ждать папу. Идет снег. Мне становится совсем грустно. Я смотрела на снежные хлопья и думала о том, что бедная Машка сейчас там, в больнице, одна, и ей, наверное, тоже очень грустно. Хлопнула входная дверь. Во дворе появилась мама. Уличный фонарь и фонарь на доме хорошо освещали ее. В руке у нее была прихваченная газетой Машка, она бросила ее в контейнер для мусора и вывезла контейнер на улицу. Это означало, что завтра рано утром приедет мусорная машина, у которой крутится бак, затягивая все вовнутрь. Этот бак мне казался громадной, все пожирающей пастью чудовища. От сознания того, что он проглотит и Машку, у меня заболело и заплакало все внутри. Мою любимую подругу надо было спасать. Я подождала, пока все стихнет и мама уйдет из кухни в спальню; тихонько выскользнула из своей комнаты, осторожно придерживая дверь, как была: в ночной рубашке и босиком. Если услышит мама, все пропало, она запрет меня в комнате – и тогда мне не спасти Машку. Тихонько прошла по коридору, открыла входную дверь, прикрыла ее так, чтобы она не стукнула. Контейнер для мусора был значительно выше меня. Я не могла открыть его. Надо было на что-то встать. Возле песочницы стоял мой стульчик, весь занесенный снегом, но и этого оказалось мало. На стульчик я поставила перевернутое вверх дном ведерко; встав на него, мне удалось скинуть крышку. Машка лежала наверху среди кухонного мусора. Приподнявшись на цыпочках, перегнувшись через край контейнера, я схватила ее и в этот момент вся конструкция подо мной рухнула. Я оказалась на земле, крепко прижимая к себе все, что осталось от Машки. Машка не пахла больше Машкой, она пахла Кони, рыбой, картошкой и еще чем-то. И я поняла, что Машка умерла, ее больше нет. Мне стало очень больно и одиноко. Я решила умереть вместе с ней. Так и нашел нас папа, вернувшийся поздно с работы. Папа завернул меня в свое пальто и занес в машину, включил двигатель. Сидя у него на коленях, я плакала и рассказывала, как все случилось. Выслушав меня, он тихо сказал:
– Я понимаю, как тебе больно, что умерла Машка. Но с ней произошел несчастный случай. Теперь ты можешь понять, как было бы больно мне и бабушке, маме, если бы умерла ты. Ты ведь не хочешь сделать нам всем так больно.
– Машку надо похоронить по-человечески, как дедушку. Она не должна быть съедена мусорной машиной.
Папа снял меня с коленей, закутал плотно в пальто и сказал, что мы едем к бабушке.
Я, уже засыпая после горячей ванны, услышала, как бабушка уговаривает папу позвонить Биргит – моей маме. Я испугалась и спросила:
– Она не приедет забрать меня?
Утром мы похоронили Машку. Бабушка сделала ей гроб из коробки. Все было так же, как тогда на похоронах у дедушки.
Когда умер дедушка, чувство утраты я осознала через страдания бабушки и папы. Я страдала, видя, как больно им. Машка была моей утратой. И хотя через пару дней рядом с моей кроватью сидела новая кукла, сшитая бабушкой, но я никогда не брала ее в постель и не забирала ее домой, объяснив ей, что это для нее опасно. Ее звали Даша, она была сестрой Машки, но она была другая, и отношения у меня с ней были более официальные.
Потом я лежала в клинике. Я заболела от сильного переохлаждения – мне лечили то легкие, то почки. Жила я теперь у бабушки. Мама получила интересную работу в редакции. Я же теперь должна была часто посещать врача и даже иногда снова ложиться в клинику, которая находилась в Гамбурге. Это все можно было вытерпеть ради того, что я теперь жила у бабушки. Бабушка была архитектором. Мы с ней работали дома или в ее студии, которая находилась в начале следующего квартала за углом. Это был обычный четырехэтажный одноподъездный дом. На двух верхних этажах располагались квартиры, по три на этаже. Самый нижний этаж, как правило, занимали офисы, предоставляющие услуги различного толка. K примеру, такого рода, как: налоговые консультации, составление персонального гороскопа именитым астрологом, исцеление от недугов нетрадиционными методами лечения.
Весь следующий этаж занимала бабушкина архитектурная студия. Она имела четыре бюро и одну большую просторную комнату с большими окнами, в которой мне особенно нравилось находиться. Иногда в середине этой громадной комнаты раскрывали большой стол и на нем делали макет дома или даже города. После того как бабушкины сотрудники уходили домой, бабушка разрешала мне его рассматривать. Я знала, что, когда уйдем и мы, набегут маленькие человечки и заселятся в эти дома. А еще в этой комнате можно было бегать, прыгать на скакалке и даже ездить на велосипеде. Но это все можно было делать, если не было заказов. Когда заказы были, и если меня бабушка все-таки брала с собой, я должна была сидеть в ее бюро. Несмотря на такие неудобства, которые, на мой взгляд, создавали заказы, бабушка напротив очень любила, когда они были. Она становилась какой-то другой: голосом, улыбкой, походкой.
Все остальные комнаты, включая и бюро бабушки, были менее интересны и выглядели они все примерно одинаково. В каждой стояли большой письменный стол и кульман – большая чертежная доска. В бабушкином бюро, кроме этого, стоял еще мой стол, на котором красовалась табличка «Шеф по тишине». Это была моя должность. Моей обязанностью было следить за тишиной, показывая это личным примером.
Дорожка от подъезда дома вела в сквер, который находился напротив, и упиралась бы прямо в скамейку, если бы не громадный куст гортензии перед ней, заслонявший ее. Зимой и осенью бабушка называла эту скамейку поэтической, а весной и летом пристанищем для влюбленных. Мы с бабулей любили на ней отдыхать. А еще я любила, когда мне бабушка читала или что-нибудь рассказывала, хотя я и сама много с удовольствием читала. Бабушка во время чтения или рассказа говорила разными голосами, и от этого было еще интереснее. Но больше всего я любила, когда мне бабушка играла на пианино, тогда нам с ней было вместе печально или весело, страшно или радостно. Сама же я больше не играла. Как только под моими пальцами начинали звучать клавиши, я слышала крик Машки о помощи, но я знала, что Машки больше нет нигде и никогда не будет, и от этого мне делалось совсем грустно и становилось больно внутри.
Иногда нас с бабушкой приглашали на детские праздники, и мне очень нравилось на них бывать. Они обычно случались в связи с днями рождения внуков или детей бабушкиных друзей. Поскольку круг друзей имел очертания, то и детский круг в основном был один и тот же. Бабушка говорила, что в обществе нужно достойно выглядеть, и поэтому мы всегда старались особенно красиво одеться. На одном из таких детских праздников я и познакомилась с моей первой любовью. Этот день хорошо мне запомнился, когда я в него влюбилась. Мне было четыре года, а ему как раз исполнилось двенадцать. Возможно, это случилось из-за того, что остались эмоции не у дел, после гибели Машки. Машки не было со мной уже полгода, но я все еще тосковала о ней. Не поддавшись на уговоры бабушки одеться в легкое светлое платье – соответственно погоде, я пришла на день его рождения в черной траурной одежде; поэтому выделялась на фоне ярко одетых детей и чувствовала себя несколько устраненной из общего круга. Когда я ему вручала подарок, я извинилась за мое печальное настроение. Он спросил о причине моей грусти, и я рассказала о трагической гибели Машки. Он погладил меня по голове и сказал, что память о друге должна оставаться в сердце, но страдать не надо, от этого Машке там, на небе, тоже грустно. Взял меня за руку, и мы пошли к гостям. Мы встречались с ним и на других праздниках. Дани, так звали мальчика, был очень похож на настоящего принца из сказки, которую я недавно прочитала. Он тоже был красивый, стройный и добрый. Я ходила за ним по пятам, а он, умиленный моей привязанностью к нему, уделял мне иногда внимание, еще больше подогревая этим мою влюбленность в него. Но если его не бывало на очередном празднике, для меня праздник проходил в грусти о нем. И я свято верила, что когда-нибудь злой волшебник заколдует меня. А он победит злодея и, поцеловав, освободит меня от колдовства.
1975–1980 годы
Приближался школьный возраст, а это означало, что свободная жизнь кончалась. Меня записали в школу, и первого августа в возрасте пяти лет и неполных восьми месяцев я пришла в первый класс начальной школы. Я была горда, что стала школьницей, но к бабушке я теперь ездила только в гости. В первый же день нам выдали учебники и специальные тетради с заданиями для домашних работ, рассчитанные на полгода. Это было в среду, а в понедельник я торжественно вручила моей учительнице все тетради с выполненными заданиями. И еще заявила, что учебники мне тоже больше не нужны, так как я их уже прочитала. Она начала мне задавать разные вопросы, на которые мне нравилось отвечать. Попросила, чтобы я ей почитала. Когда мама пришла за мной, они долго беседовали, а на следующей неделе я пошла в другой класс, который назывался 2А. Некоторые дети оставались после занятий на продленку. Мне тоже хотелось остаться еще немного поиграть с ними, но за мной приходила младшая сестра мамы Вивита, или как ее все называли Виви, и забирала меня домой. Она появилась неожиданно, как Мэри Поппинс, и теперь жила с нами. Она давным-давно, когда я была еще совсем маленькая, окончила университет с отличием и могла работать учителем гимназии с правом преподавания немецкого языка и литературы, английского, французского, математики и географии. После окончания университета она и начала преподавать в гимназии в Киле, но потом заключила договор и уехала учить детей в одной из школ Новой Зеландии. С Виви было тоже интересно: мы много играли в школу, она мне рассказывала о Новой Зеландии, где прожила три года, об Австралии, о множестве островов вокруг, по которым путешествовала вместе со своим другом. Она так интересно рассказывала, что мне казалось, это я сама там была, все видела своими глазами. Сама, свято в это веря, пересказывала услышанное от первого лица. Виви говорила, что просто влюбилась в эту страну, и не только в нее, но и в друга, которого там себе нашла. Когда закончился срок договора, оказалось, что продлить его было нельзя, и она должна была уезжать или выйти замуж за новозеландского друга. Но его родители были против их женитьбы, и ей пришлось уехать. Мама была несказанно рада ее приезду и постоянно ей твердила:
– Ты можешь жить у нас сколько хочешь. Главное, не спеши. Все хорошо обдумай. Не торопись связывать себя каким-нибудь договором, может, еще все образуется. Он одумается.
Виви, оставшись без своей любимой учительской работы, всю свою энергию, весь свой педагогический азарт направила на меня. Вследствие чего в течение оставшейся части учебного года мы прошли с ней всю программу начальной школы, так что к концу года я сдала экзамен и была зачислена в пятый класс гимназии. Рада и горда была только мама. Мне было все равно. Папа сердился, а бабушка почему-то жалела меня, гладила по спинке и говорила:
«Бедный ты мой ребенок».
Виви так же неожиданно исчезла, как и появилась. В гимназии, где я теперь училась, продленки уже не было. И я после школы шла домой одна. Дома я тоже была одна до тех пор, пока не приезжали с работы папа или мама. В гимназии хоть и было много народа, но мне там было очень одиноко. Ко мне не относились плохо, меня никто не обижал, даже поглядывали на меня иногда с удивлением, но общаться со мной тоже никто не хотел. В пятом-шестом классах некоторые девочки тютькались со мной, как с куклой, но они мне казались ужасно глупыми, а те, которые мне нравились, не обращали на меня никакого внимания. В седьмом классе стало еще хуже. Девочки все резко подросли, начали оформляться, и разница между мной и ими еще ощутимее бросалась в глаза. Ловя их снисходительные взгляды, я стеснялась сама себя – и очень страдала от этого. В отсутствие Виви я не прыгала больше через классы, а шла все с одними и теми же детьми из класса в класс, где все давно привыкли ко мне и, уважая, не замечали меня.
С учебой у меня не было никаких проблем. Исключение составляли уроки физкультуры; для меня они были просто мучением. Я чувствовала, что всем там мешаю. Когда проходили спортивные игры, никто не хотел, чтобы я оказалась в их команде. Преподаватель физкультуры должен был давать мне отдельно задания, это тоже было для него одно неудобство. В конце концов договорились, что я буду посещать спортивные секции, а в завершение каждого полугодия сдавать нормативы с моей возрастной группой. Уроки физкультуры теперь я могла не посещать.
Еще я очень страдала от школьного шума, от резкого школьного звонка, от крика детей, от громких голосов учителей. Дома было хоть тихо. И я пристрастилась к чтению книг. Сначала я читала хаотично, все, что попадало под руку, но потом бабушка стала направлять меня, подсовывая книгу за книгой не только на немецком языке, но и на английском, а часто и на русском. Когда мы оставались с ней одни, бабушка часто в разговоре переходила на русский язык. Она мне говорила, что мы с ней не должны забывать наши русские корни. Ее обучила русскому языку тоже ее бабушка, которая родилась и выросла в России, и звали ее тоже Алина. К бабушке я приезжала теперь на субботу и воскресенье. Если я что-то делала не так, как хотела мама, ее главной угрозой, заставлявшей меня выполнить все ее требования, было: «Не поедешь к бабушке». Неделя для меня разделилась на две части: от понедельника до вечера пятницы и от пятницы вечера до понедельника. Когда же бывали каникулы, жизнь становилась суперрадостная – все каникулы я жила у бабушки. Университет, где работал папа, был недалеко от ее дома, и поэтому папа приходил обедать к ней. После обеда у нас с ним было «беседное время», и мы разговаривали на всевозможные интересные темы. Мне очень хотелось посмотреть, как папа работает; и пару раз он брал меня с собой.
В доме бабушки у меня был настоящий друг и товарищ по играм – Рико. Вообще-то имя у него было Рихард, и все его так и называли даже в самом маленьком возрасте, и только я звала его мною же изобретенным именем, к неудовольствию его родных.
Рико я уважаю, он ходит сразу в две школы: обычную и музыкальную. Он относится к этому философски: «Никуда не денешься, если я так музыкально одарен». Я завидую ему, он всегда живет с мамой, папой, дедушкой и бабушкой. И хотя Рико на два года старше меня, его отводят и приводят в обе школы. Дома у него постоянно кто-то из взрослых. Я очень сочувствую Рико: две школы, два домашних задания, куча всевозможных репетиторов, у него почти нет времени почитать или поиграть.
Когда Рико учился в шестом классе, а я в седьмом, жизнь его резко изменилась. Его мама, известная оперная певица, и папа, музыкант, погибли. Не пережив смерти дочери, умерла и его бабушка. Теперь Рико жил со своим дедушкой Фридрихом, но мы все его называем Фриди, и больше у них никого не было, кроме меня и бабушки Алины. Рико не ходил больше к репетиторам. По математике ему помогала я. Каждое воскресенье мы просматривали на неделю вперед учебник математики и решали задачки по предстоящей теме.
Когда мы играли с Рико в прятки или в спрятанный предмет, я всегда находила очень быстро, а он нет. Он обижался, думая, что я подглядываю, и не хотел больше играть. Это было мне неприятно. Я попробовала разобраться, почему у меня это получается лучше, чем у него, и поняла, что чувствую его волнение, когда приближаюсь к месту, где лежит спрятанный им предмет или спрятался он сам, а он моего не чувствует. Стала экспериментировать дальше, и не только с Рико. Для меня это оказалось полной неожиданностью, когда я поняла, что многие другие люди не чувствуют эмоции рядом находящегося человека, хотя для меня это казалось абсолютно естественным. Как это получается и когда это началось, я сказать не могла, возможно, оттого, что это было всегда. Но что делать дальше со всем этим, я не знала. Папа и бабушка всегда приходили ко мне на помощь, когда мне было или страшно, или грустно, или я чего-то хотела. И им ничего не надо было объяснять. Я знала, они меня любят и хотят, чтобы мне было хорошо. Мама тоже любила меня и беспокоилась обо мне, но она не чувствовала меня, и мне все меньше хотелось с ней общаться.
1981 год, декабрь – 1982 год
Декабрь – мой любимый месяц. Мама называет декабрь месяцем стресса. И всегда добавляет, что зато потом одиннадцать месяцев спокойной жизни. Особенность этого месяца состоит в том, что все члены нашей семьи родились в декабре. В начале месяца день рождения у мамы, потом у папы и у меня прямо перед Рождеством. Дата моего дня рождения мне больше всего нравится тем, что мой день рождения всегда в каникулы и всегда уже стоит рождественская елка.
Я просыпаюсь в приподнятом настроении. У меня сегодня день рождения. Мне исполнилось одиннадцать лет. День начинается, как обычный день рождения. Утром мы празднично завтракаем, я получаю подарки, потом папа везет меня к бабушке. Она всегда печет к моему дню рождения мой любимый торт, и там меня тоже ждут подарки. У мамы какие-то дела, и она остается дома. Днем мы с папой идем кататься на коньках. На катке всегда весело, всегда играет музыка и от этого празднично. Мы с папой едем по кругу, папа хвалит меня за мой прогресс в фигурном катании и улыбается мне, но я чувствую его грусть, так же как и вечером, когда мы идем в театр. Мне сегодня совсем не до Рико, я с ним мало общаюсь, и он даже обижается на меня. Я хочу быть рядом с папой, потому что ему очень грустно. Я чувствую эту грусть, которая исходит от него, хотя он и старается показаться веселым – не хочет испортить мне день рождения.
После всех праздников папа уехал в Америку на полгода. Он хотел и нас с мамой взять, но мама отказалась по той причине, что она не получит отпуск на такой долгий срок, а уволиться и лишиться из-за этого своей работы она не хочет. А меня нельзя одну брать без мамы, так как там ребенок даже моего возраста по закону не должен находиться один дома, хотя я с семи лет была дома одна.
Я очень скучала о папе. Мне приснился сон, что приехал папа. Я услышала по коридору шлепанье папиных тапочек, соскочила, открыла дверь и увидела, как кто-то зашел в туалет, но запах оставшийся после него был не папин и не мамин. Это был очень неприятный запах чужого человека, напомнивший мне запах Кони. Испугавшись, я быстро закрыла дверь и спряталась в шкаф. Я услышала, как кто-то осторожно открывает дверь в мою комнату. От страха я с силой прижалась к задней стенке шкафа и почувствовала, что стенка выгнулась под натиском спины, а нога повисла в пустоте.
– Ты куда, перепугаешь ребенка, – слышен мамин шепот.
– Я в темноте запутался, куда идти.
Потом все стихло. Я снова легла в кровать. Но уснуть еще долго не могла под впечатлением моих открытий.
Из школы я буквально неслась, чтобы скорее начать обследование шкафа. Прочитанные мной недавно научно-фантастические романы о параллельных мирах будили воображение, и я надеялась, что там найду как минимум вход в другое измерение. Эта уверенность подкреплялась еще тем, что, когда мы купили дом, шкаф этот уже стоял. Его не сдвигали, даже когда делали ремонт. Он, занимая всю стену от пола до потолка, выглядел неподъемно массивным. Все боялись, что, если начать его двигать, он может развалиться. Шкаф этот и тот, что стоял по другую сторону стены, аналогично моему, в спальне родителей, очень ценила мама за вместительность. Поэтому их ремонтировали на месте, натирали обновителями, но никогда не двигали. Все эти факты подтверждали мои догадки и гарантировали, что, возможно, уже сегодня я буду контактировать с представителями другой цивилизации. Я вытащила из шкафа вещи, которые висели на плечиках, и увидела, что часть задней стенки можно легко убрать, если повернуть несколько металлических пластиночек, которые ее удерживали на общей стенке. Когда я ее открыла, то обнаружила, что за ней был широкий дверной проем, соединяющий комнаты. Я все прочистила пылесосом от паутины и пыли, просветила фонариком. Хода в другой мир там, к моему великому сожалению, не оказалось. Но не было подобного выхода из шкафа, стоящего в родительской спальне. Идея, что это место можно использовать не только как тайник для хранения каких-нибудь вещей, но и при необходимости можно надежно спрятаться самой, смягчила мое разочарование. Через несколько дней я снова почувствовала у нас дома чужой запах и решила ночевать в моем тайнике. И здесь я сделала новое открытие. В нем было все слышно, что говорилось в спальне, но остаться там надолго было невозможно, поскольку воздух быстро кончался и становилось абсолютно нечем дышать. Я быстро оттуда вылезла, но дверь комнаты забаррикадировала, чем могла. Утром я спросила у мамы, кто к нам приходит по ночам. Она стала вдруг кричать. Из всего крика были понятны только две вещи, что я лгунья и шпионка. Больше я ее ни о чем не спрашивала, но каждый вечер чем-нибудь тяжелым подпирала дверь. После этого инцидента я старалась как можно меньше находиться рядом с мамой. От нее шел поток эмоций, которые я не понимала, – они меня пугали, раздражали, запутывали.
Наконец-то приехал папа. Но между родителями начались скандалы. Они нарастали не только по громкости, но и по продолжительности. С какого-то момента папа хоть и приходил с работы домой, но, когда я ложилась спать, видела из окна моей комнаты, как он шел к машине. У меня сжималось сердце от предчувствия, что все рушится. Я попросила папу поставить мне в дверь замок. Перед летними каникулами папа принес мне в комнату коробку и попросил поставить ее пока куда-нибудь подальше, поскольку в ней очень ценные для него вещи. Завтра он ее заберет. Я показала ему мой тайник. Папа засмеялся и сказал, что из тайника можно ее забрать и после отпуска.
Через день мы с папой вдвоем поехали в Грецию на три недели. Он рассказал мне, что они с мамой теперь живут отдельно. После нашего отпуска он пойдет на восхождение на вершину К2, а когда вернется, будет готовить все бумаги для развода. Он ждет, когда мне исполнится двенадцать лет, чтобы я могла сама решать, с кем из них я хочу остаться жить. Лежа на пляже, мы рассматриваем карту района К2. Красной линией обозначен маршрут, по которому запланировано восхождение, треугольники на ней показывают места ночевок и отдыха альпинистов. Папа много и интересно рассказывает мне о Каракорум. В том районе сходятся границы четырех государств, но К2 принадлежит Пакистану. Мне хочется поехать туда с ним. Папа смеется и говорит, что, по всей видимости, вместе оказаться нам там будет непросто; так как, прежде чем пойти на такую сложную вершину, надо суметь покорить много других вершин. Пока же я дорасту и наберусь опыта, чтобы делать восхождение на К2, ему это может оказаться уже не под силу, поскольку он станет старый.
После нашего с папой отпуска бабушка повезла меня и Рико на неделю в Париж. И еще две недели я, Рико и его дедушка прожили в пансионате у моря.
Забрать нас неожиданно приехала мама, а не бабушка, как обещала. Мама была одета в черное платье, несмотря на жаркий день. Вошла, не улыбаясь, тихонько кивнув. От Фриди вдруг хлынул поток тревоги и болевого страха. Только когда он замер на месте с прижатой рукой к груди, с вопросом, застывшим на открытых губах, я поняла, что случилось что-то страшное. Фриди тихо спросил:
– Ник?
Мама кивнула:
– Сказали, что нашли палатку и его рюкзак, а самого его нет. Но отыскать его в живых шансы нулевые. Это произошло уже больше недели тому назад. Четыре дня была непогода. Теперь уже поиски прекратили.
Мама довезла Фриди и Рико до дома. Я тоже поднялась к бабушке. Мама осталась в машине.
С К2 папа пока не вернулся. Говорят, что он там погиб, но тело его не нашли. Мы с бабушкой знаем, что он вернется, мы никому об этом не говорим, даже друг другу.
1983 год
Жизнь течет в том же русле, что и раньше. Я хожу в школу, как ходила. В пятницу вечером мама довозит меня до бабушкиного дома, но из машины не выходит и к бабушке никогда не поднимается. В понедельник утром бабушка везет меня назад сразу в школу. Все каникулы я провожу у бабушки. Жизнь идет дальше. Только папы нет с нами, но я знаю, что он вернется.
1984 год, июль – декабрь
Кончались летние каникулы. Впереди двенадцатый класс. Все каникулы я провела с бабушкой. В ее отпуск мы ездили в Италию, посвятив нашу поездку исключительно Риму. Мы облазили с ней всю старую часть города. Благодаря бабушкиным друзьям побывали в мрачных удушливых катакомбах с таинственными захоронениями и в подвалах Колизея, где еще сохранились остатки механизмов, с помощью которых создавалась грандиозность тех кровавых спектаклей, разыгрывавшихся здесь. Бабушка очередной раз удивила меня своими знаниями в архитектуре, скульптуре, живописи. Но абсолютно поразила она меня тем, что знала даже имена гладиаторов и то, каким оружием они сражались. Когда она рассказывала о том, как жили люди того времени, мне казалось, что она лично была знакома с некоторыми гражданами Древнего Рима.
До окончания школы оставалось меньше двух лет. Тогда я смогу переехать к бабушке навсегда и на законных основаниях, так как буду учиться в университете. Мы вместе с ней давно уже мечтаем об этом времени.
Оставались считанные дни каникул. Надо было подготовиться к новому учебному году. Мы с мамой поехали покупать мне одежду, обувь, тетради и прочие принадлежности для школьных занятий и шли уже к автомобильной стоянке, увешанные пакетами, как вдруг какой-то мужчина окликнул маму по имени полувопросительным тоном. По всему было видно, что мама была ему очень рада. Его голос показался мне неприятно знакомым. Они говорили уже минут двадцать. Я не выдержала и попросила у мамы ключ от машины.
– Это твоя поросль? Какая большая. И сколько ей сейчас? Уже тринадцать?
Его скользивший по мне взгляд и вылившиеся из него эмоции, казалось, испачкали меня, оставив липкий противный след. Я поскорее ушла и села в машину, приготовившись долго ждать, но мама неожиданно быстро пришла, сказав, что остальное мы купим на днях. Мы вернулись домой, она собралась и уехала. Никакого обещанного ужина, да еще раз придется ехать за покупками. Ну да ладно. Есть чем заняться. Меня ждали книги, привезенные от бабушки. Некоторые романы Достоевского я уже читала. Но в этом было что-то невероятное. Характеры, страсти, философия; залпом, наскоком все переварить было невозможно. Нужны были паузы, обдумать, понять, пережить. Я выключила свет и лежала в кровати, находясь под впечатлением от прочитанного. Когда бабушка подала мне эту книгу, она сказала:
– Для первого знакомства с ней ты уже готова, но ты вернешься к ней еще не раз.
Я очень удивилась, поскольку не читаю книги повторно. Я все помню, что я прочитываю. И она это знает. Название книги царапало в своем тревожном протесте – «Идиот».
Засыпая, услышала, как пришла мама. Она была не одна. Она почему-то все время смеялась. Ее счастливый смех меня коробил.
Крис стал появляться у нас сначала эпизодически, а потом и вообще поселился, эпизодически исчезая. Когда я сталкивалась с ним на кухне, в коридоре, на террасе или где-то еще, внутри меня красной лампочкой включалось чувство надвигающейся опасности. Я ощущала эмоционально: он готовит против меня какую-то гадкую агрессию. В голове рождалась ассоциация: он – охотник, мягко и неслышно крадущийся, а я глупая перепелка, затаившаяся в кустах, зная, что охотник рано или поздно выследит ее. У меня и с мамой было мало тем для общения, а с ее хахалем – тем более. Я старалась с ним не пересекаться. Пораньше поесть, пораньше уйти в школу. Уехать к бабушке и подольше побыть у нее. Бабушка видела, что у нас какие-то изменения, но я молчала – не хотела ее расстраивать, а она не спрашивала. Я чувствовала, что Крис, наоборот, старался встретиться со мной, заговорить. Я же его полностью игнорировала. Что-то толкало меня залезть в шкаф и подслушать, чтобы знать, что против меня замышляется. Это делалось на уровне инстинкта. Я понимала, что это нехорошо, но все равно делала. Я слышала, как он говорил:
– Получается, что я ее выживаю из дома. Почему она вечно где-то пропадает? В нормальных семьях дети должны общаться с родителями. Поверь мне, как опытному детскому психотерапевту, в этом возрасте ребенка нельзя предоставлять самому себе.
С первых же слов я узнала этот голос. Это он приходил тогда к маме, когда папа уезжал на полгода в Америку.
В начале ноября у меня вдруг поднялась температура, начался грипп, который перешел в бронхит; даже после двух недель приема антибиотика кашель сотрясал меня всю. Крис проявлял заботу, усиленно предлагая делать мне массаж. Я наотрез отказывалась от его услуг. Он обижался, высказывая маме свои неудовольствия. Я слышала, как он говорил:
– Не скрою, сначала Лина интересовала меня только с точки зрения детского психотерапевта. Ты знаешь, что я пишу научную работу об особенностях психики тинэйджера. Но чем ты становишься мне ближе, тем большую ответственность я чувствую за нее. Видишь ли, у меня никогда не было детей, и теперь ребенка моей любимой я хотел бы рассматривать как собственного. Я хочу, чтобы у нас была нормальная семья. Меня беспокоит, даже пугает ее враждебность по отношению к окружающим самым близким ей людям. Ну, к примеру, что я плохого ей сделал. За что она меня так ненавидит. За всю мою заботу я получаю от нее только грубости.
Я чувствовала, что мама где-то в глубине души понимала щекотливость положения, но, вынуждаемая им, обрабатывала меня. Я просто отмалчивалась. Но теперь я должна была ужинать вместе с ними.
Бабушка, волновавшаяся за меня, звонила время от времени, чтобы справиться о моем здоровье, и каждый раз предлагала забрать меня на время болезни к себе, чем приводила Криса в бешенство. Я слышала, как он говорил маме:
– Скажи старухе, чтобы она не лезла больше к нам. Скажи ей, что теперь у тебя и Лины другая семья. И ты, и Лина обойдетесь без нее. Ты же видишь, она хочет ее у тебя отобрать. Какая же ты мать, если ты позволишь это сделать.
Я почувствовала себя в западне. Если я сейчас убегу к бабушке, службы по защите прав ребенка вернут меня назад с помощью полиции, да еще и у бабушки будут неприятности. Мне надо продержаться всего полтора года. Да и мама никогда не посмеет сказать бабушке такое.
В четверг за ужином мама мне сказала, что больше я не должна ездить к бабушке, что она уже пожилой человек и ее надо оставить в покое. Она не реагировала на мои бурные протесты. Но в заключение, как бы подводя итог, сказала:
– Если ты нарушишь мой запрет, я подам на нее в суд, что она настраивает тебя против меня. И у нее будут очень большие неприятности.
Мне страшно и больно за бабушку. Ее слова означают, что она сказала бабушке то, что ей велел Крис. Я молча смотрю на нее. И вдруг понимаю, что этот мерзкий тип ей много ближе и дороже, чем я. Я ощутила, что на моем горле затягивается петля.
Внутри меня рождалось абсолютно новое незнакомое чувство презрения, неприязни, брезгливости к ней. У меня не было больше мамы. Да, формально оставалась мать, но которая предала меня. Она стала для меня не просто чужим человеком, а источником зла в этом чужом, окружающем меня мире, где я почувствовала себя такой одинокой. Я никогда не прощу ей слов, сказанных бабушке. Она их сказала в угоду Крису. Неужели она не видит, что он плохой человек. Я написала бабуле письмо, чтобы она простила меня, что я не могу повлиять пока на ситуацию. Но через полтора года мы все равно будем вместе – надо немного потерпеть. Я клянусь ей в этом. Я уговариваю не только бабушку, но и себя.
В субботу и воскресенье я просидела в моей комнате, запершись, не выходя ни к обеду, ни к ужину, ни к завтраку. Я продумывала возможные сценарии побега. Слышу в шкафу, как мать уговаривает Криса отпустить меня к бабушке. И обещает родить ему ребенка. А он смеется и говорит, что в ее возрасте уже не рожают. Он не позволит ей собой рисковать. Говорит:
– Поверь мне, как опытному детскому психотерапевту, у нее сейчас очень сложный возраст. Ребенок сам не знает, что ему надо. Иногда нужна жесткость, чтобы показать ему правильный путь. Она будет потом тебе благодарна за это. Мне это тоже тяжело, как и тебе, но надо выдержать, и вообще ее надо воспитывать, а то как с таким характером ей дальше жить. Вот увидишь, все образуется.
В понедельник я ушла в школу, до того как мать встала. Школа еще закрыта. На улице очень холодно. Рези в животе и голодная тошнота притупились. Болела голова и перед глазами временами появлялись темные пятна. На третьем уроке я потеряла сознание, и на машине скорой помощи меня увезли в больницу. В клинике сразу разобрались, что это был голодный обморок. Я лежала под капельницей. Все, что я только что съела и выпила, вышло из меня фонтаном. Медсестра, поменяв мне простынь, сняв с меня запачканную рубашку, ушла, чтобы принести чистую. В это время появились мать и Крис. Мать, увидев меня, начала рыдать. Я почувствовала похотливые эмоции Криса и увидела его липкий, алчный взгляд, бегающий по моему голому телу. Вот оно что. А она променяла и папу, и бабушку, и меня на него. Я повернулась к ним спиной. Зашла медсестра со свежей рубашкой:
– Ну вот, смутили девочку.
– Мы родители, нам можно.
Я ей говорю:
– Врет, это любовник моей матери.
Сестра надевает на меня рубашку и с сочувствием смотрит на меня. Я понимаю, большего она сделать не может. Но даже в рубашке я не разворачиваюсь к ним, лежу, не отвечая на их вопросы. Наконец они уходят. Я молча плачу, спрятавшись под простыней. В палате, кроме меня, лежит еще одна девочка. У нее очень короткие волосы на голове и большие подвижные глаза. Она постоянно куда-то убегает. Я прикована к постели капельницей. На следующий день, вернувшись перед обедом, она мне сообщает:
– К тебе, наверное, сегодня психотерапевт придет. Ты ей не верь, такая хитрющая баба. Сейчас видела, как она с этим мужиком, что у тебя был, в коридоре смеялась. Точно против тебя подговаривались.
Я лежу и думаю: «Как мне пустынно и больно в этой жизни. Да и жизнь у меня получилась такая короткая, а в конце еще и такая злая. Папа, папа, ты тоже никогда бы не подумал, что моя мать может меня так предать. Папа, я не забыла твоих слов – всегда дать человеку шанс исправить свою ошибку. Я дала ей шанс. Я дала ей время исправить все. Если бы еще сейчас она пришла и сказала, что прогнала его, и мы с ней поедем к бабушке извиниться, я бы ее простила. Но наступает момент, после которого возврата нет. Я выхожу на тропу войны против них, где в неравной схватке я, конечно, проиграю. Я бессильна что-либо изменить. Бабулечка, милая, мне очень жаль тебя, но я не в силах вырваться из этого капкана».
Я плачу молча, беззвучно. Пегги, посмотрев на меня, вздыхает и ложится в кровать. В комнату входит энергичной походкой дама материного возраста. По быстрому взгляду Пегги догадываюсь, что она и есть психотерапевт. Она приветствует нас обеих. Губы у нее улыбаются, а глаза холодные. Сначала она подходит к Пегги, справляется, как у нее дела, за что-то хвалит ее. Потом переключается на меня, но говорит на абсолютно отвлеченные темы. По-видимому, она хороший профессионал и быстро понимает, что душу оголять я перед ней не собираюсь. Я чувствую ее раздражение. Напоследок, явно неудовлетворенная, она спрашивает:
– Хорошо, а почему ты все же не ела?
– Не надо тратить на меня время. Я знаю, что вы не на моей стороне.
– Я слышала, да и вижу, что ты очень умная девочка. Ты должна понимать, что я хочу помочь разобраться в ситуации.
– Я знаю, что вы хотите помочь, но не мне, а тем, кто против меня. Доброго дня вам. До свидания.
И думаю, что теперь всё – Рубикон перейдён. Через день меня выписывают. Мы обнимаемся с Пегги
– Пегги, я так хочу, чтобы у тебя всё наладилось.
Пегги смотрит на меня своими необыкновенными, как две чёрные сливы, глазами и, хотя её губы улыбаются, лицо её грустное.
– Ты знаешь, мне наверно уже немного осталось.
– Ты знаешь, мне ведь, наверно, тоже.
Она стирает своими ладошками слёзы с моих щёк.
– Тогда там и встретимся.
Забирает меня из больницы домой Крис на материной машине. По настоянию Криса, я сижу на переднем сиденье и, не слушая его болтовни, думаю о Пегги, о том, что это мой последний прощальный лучик тепла здесь на земле. Теперь вокруг меня леденящая стужа. Самое главное, чтобы внутри всё покрепче замёрзло, чтобы не было так больно.
Крис очень старается наладить со мной хорошие отношения. В моём присутствии, он постоянно за меня заступается перед матерью. Он предлагает полететь на неделю между Рождеством и Новым годом на Канарские острова. Сидя в шкафу, я снова получаю очень ценную информацию. Оказывается, денег на поездку нет. Крис думал, что они есть у матери. А сам он вложил деньги в издание своей книги. Из их нервной перепалки, я понимаю, мать думает, что у меня с Крисом лучше отношения, чем с ней и это её задевает. Теперь я знаю, как сделать ей больно.
В присутствии матери я изображаю, что с Крисом у меня установились прекрасные отношения: мы с ним непринуждённо болтаем, смеёмся. В общении с матерью у меня в употреблении небольшой словарный запас: «Да, нет, прости, я не слышала, до свидания». От этого она мучается. Иногда впадает в ярость. Начинает кричать мне разные обидные слова. Еще немного и она меня ударит. Мне бы очень хотелось этого. Внешне же выглядит, что на меня это не производит никакого впечатления, как и ее слезы с причитаниями. От этого я получаю удовлетворение. Вижу, что Крис сложившейся ситуацией очень доволен. Я стараюсь с ними поменьше общаться. Я все время думаю, как мне сбежать из дома. Проблема усугубляется папиной коробкой. Я не могу ее здесь бросить. Я знаю, что там для папы очень ценные вещи. Когда папа вернется, они ему будут нужны. Но уйти незамеченной с большой тяжелой коробкой проблематично. А если поймают, то мать и Крис начнут в ней копаться. Все карманные деньги и деньги на обеды в школе я откладываю на побег. Но изредка беру из копилки немного, чтобы позвонить бабушке с телефона-автомата. Я не хочу ее расстраивать и поэтому рассказываю бодрым голосом об учебе и никогда не упоминаю имен матери и Криса. Я знаю, что бабушка понимает все, хотя и не задает никаких вопросов. И когда я кладу трубку, я плачу и знаю, что бабушка сейчас тоже плачет у своего телефона.
По вечерам я занимаю мой наблюдательный, вернее сказать, прослушивающий пункт. Иногда я слышу такое, что приводит меня в полное замешательство. В очередной раз мать упрекает Криса, что он идет у меня на поводу, а ей приходится все время со мной ссориться, и поэтому у меня с ним прекрасные отношения, а ее я ненавижу. Крис отвечает:
– Ты знаешь, я ее очень боюсь. Она мне все время угрожает, что расскажет тебе, что я ее бью и насилую. Я боюсь, это может разлучить меня с тобой. Поэтому делаю все, что она скажет. Я думаю, она ревнует тебя ко мне. В силу своей эгоистичности так себя и ведет.
Далее несколько повеселевший голос матери вещает:
– Неужели ты серьезно думаешь, что я могу ей поверить?
1985 год, февраль – март
В начале февраля у нашего класса экскурсия в Берлине. Мне хочется поехать хотя бы ради того, чтобы пять дней побыть вне дома. Да и сама поездка видится мне интересной. Мы сами будем гидами. Каждый должен приготовить реферат о заранее оговоренной части города, квартале, улице или даже доме и на месте рассказать. Мы едем туда на специально заказанном автобусе. Крис сказал, что до автобуса меня довезет, поскольку тащиться с сумкой пешком неприлично и это плохой стиль. Он все тянул время. Я не люблю опаздывать, поэтому не стала его ждать – и ушла. Мне идти до школы не более пятнадцати минут медленным шагом. Я уже поднималась в автобус, когда он зачем-то подъехал и начал мне раздраженно высказывать претензии, что я ушла. Я не стала его слушать, быстро поднялась и села на первое свободное место. Дверь автобуса закрылась, и мы поехали. Я глянула в окно, Крис стоял у машины, явно раздосадованный. Я услышала, как рядом сидящая спросила меня:
– Это твой отец?
– Нет, любовник моей матери.
– Я так и подумала.
Оказалось, что я сижу рядом с примадонной местного значения, – Жанет. Мной в принципе не интересовался никто из класса. Тем более мне было удивительно слышать вопрос по моему поводу от нее. Она была всегда в центре внимания, не прикладывая для этого никаких усилий. Мне казалось, что все мальчики нашего класса были в нее влюблены. Девочки хотя и завидовали ей, тем не менее старались держаться к ней поближе. Было странным, что возле нее оказалось свободное место, на которое я и приземлилась. Я не рассчитываю, что она будет со мной беседовать, достаю книгу из рюкзака. Пока закрываю рюкзак, книга в руках у Жанет. Она меня снова удивляет:
– Ты тоже любишь Достоевского? Классно, читаешь его по-русски. «Братьев Карамазовых» я не читала. «Идиот» и «Игрок» произвели впечатление.
Жанет всегда говорит кратко и тихо. Учителя сердятся на нее за это, но она внимания на их замечания не обращает и голос не повышает. Выглядит она всегда очень экстравагантно. Ее волосы, которые еще на прошлой неделе имели слегка розовый оттенок, сегодня фиолетовые, губы и ногти тоже фиолетовые.
Я не заметила, как пролетели эти три часа в дороге за беседой с ней, в тихом спокойном обмене мнениями о прочитанных книгах. Наши восприятия событий и героев книг были различны, но мы без проблем понимали друг друга. Я почувствовала, что ее анализ глубже моего. Вероятно, оттого, что палитра чувств, пережитых ею, много обширнее моей.
В Берлине для нас была забронирована гостиница «Приют для молодежи». Не очень комфортная, зато дешевая. Когда автобус остановился у гостиницы, все заспешили, чтобы скорее поселиться и как можно быстрее пойти шататься по городу, так как сегодня свободный день от общих мероприятий. Мы с Жанет вышли из автобуса последними. Постояли за углом гостиницы, пока она выкурила сигарету. Когда мы подошли к ресепшн, женщина, сидевшая за стойкой, уставившись на нас, сказала, что мест для девочек больше нет, поскольку в каждой комнате по четыре двухэтажных кровати и восемь девочек она уже поселила, а еще две комнаты для мальчиков. Она послала за нашими учителями. Оказалось, что в комнатах для мальчиков есть еще два места. Нашим обоим учителям мужского пола после горячих споров со служительницей гостиницы пришлось перебираться в комнаты мальчиков. Мы же с Жанет, не проронившие за все время дискуссий ни слова, поселились в двухместном номере, предназначенном для учителей. Бросили сумки и пошли побродить по городу и поесть. С первого же встретившегося телефона-автомата Жанет кому-то коротко позвонила.
Мне казалось, что мы бесцельно бредем по улицам Берлина. Жанет рассказывает мне о жизни Марлен Дитрих. О том, как она вместе с воюющей американской армией шла по фронтам, сражаясь своим искусством; как вернулась в Берлин, надеясь, что коричневая чума ушла и освобожденная Германия оценит по достоинству ее как борца и освободителя, но общество встретило ее очень сдержанно. Многие, в головах которых еще сидела эта глубоко вбитая льстящая националистическая идеология, не приняли ее. Она умерла в Париже. Нужны поколения, чтобы полностью освободить душу от фашистской заразы.
Потом мы садимся, как мне подумалось, в первый попавшийся автобус, проезжаем пару остановок и снова не спеша бредем по улице. Доходим до Potsdamer Platz. Жанет останавливается у двери шикарного ресторана и берется за ручку. Я поспешно говорю:
– А у нас хватит денег заплатить за обед здесь?
– За таких красивых девушек, как мы с тобой, всегда найдутся те, кто с удовольствием заплатит.
Она смело заходит, и я вижу, как мужчина встает из-за столика ей навстречу. Жанет вся преображается. На губах появляется игривая улыбка. Походка становится легкая, как у кошки. В глазах как будто включаются лампочки. Она подходит к мужчине так близко, что касается его грудью. Мужчина млеет от ее прикосновений и поцелуя в губы. Такого нежного нараспев голоса я еще у Жанет не слышала:
– Ах, Герхард, мы всю дорогу так спешили, так торопились, но опоздали немного. Я надеюсь, ты не очень скучал. Позволь тебе представить мою маленькую подружку. Она очень хорошенькая и очень умненькая, но еще слишком юная. Она действительно слишком юная.
Она делает ударение на слове «действительно», грозит пальцем Герхарду и говорит несколько капризным тоном:
– Мы страшно голодные. Чем ты нас будешь угощать?
Герхард протягивает нам меню. Уже от цен на первой странице мой аппетит тут же улетучивается. Я шепчу:
– Жанет, я не знаю, что я могу заказать.
– Я тебе закажу.
Жанет разговаривает с официантом очень уверенно:
– Пожалуйста, два Fricassee с Gratin dauphinoisе и на десерт Le Pastis gascon. Ребенку воду, мне бокал Chablis.
После «ребенку воду» у официанта не появляется идеи спросить, сколько ей лет.
Герхард довозит нас до гостиницы. Я выхожу, Жанет остается. Я выполняю то, что она меня попросила сделать: снять с защелок пожарную дверь в торце коридора, находящуюся рядом с нашей комнатой. Расправляю обе кровати. На одну кладу куртку и закрываю ее одеялом; выглядит так, что на кровати лежит человек, закрывшийся с головой. Натягиваю пижаму. Выключаю свет. Официально отбой в десять. Это означает, что к этому времени все должны быть в гостинице. В районе половины одиннадцатого стук в дверь. Не включая света, приоткрываю дверь настолько, чтобы было видно, что я уже в пижаме. Говорю шепотом, что мы уже спим, и смущаюсь оттого, что стою перед учителем в неглиже и так беззастенчиво вру. В ответ он смущается тоже, истолковав мое смущение по-своему, извиняется и говорит, что завтрак в лобби с восьми до полдевятого, после завтрака мы сразу выходим, и ретируется.
Я не сплю, жду Жанет. Услышав у пожарного выхода шорох, встаю и приоткрываю дверь в нашу комнату. Жанет бесшумно закрывает ее за собой; прислонившись спиной к двери, сползает на пол. Я пугаюсь и подбегаю к ней:
– Жанет, что с тобой?
– Ужасно устала. Он был сегодня, как бешеный. Ему все было мало. Наверное, наглотался чего-то. Не хотел меня отпускать. Просил, чтобы я с ним прямо сейчас осталась. Я бы и осталась. Отчим поднимет шум. Он мной пользуется. Я это все из-за мамы терплю. Не хочу ей последние месяцы жизни отравлять.
У нее по щекам текут слезы, и я спонтанно обнимаю ее. Она прижимает меня одной рукой к себе. Потом мы лежим с ней в одной кровати и рассказываем друг другу, каждая свою еще короткую, но уже наполненную страданиями жизнь. Мы не просто рассказываем, а в силу своего небольшого опыта анализируем себя и окружающих. Я изредка задаю вопросы, она нет, поскольку понимает все с полуслова. Я знаю, теперь у меня есть старшая сестра. Я не одинока в этом мире.
– С Герхардом мы познакомились прошлым летом в Греции. Мамина тетя ехала со своей внучкой отдыхать туда и пригласила меня. Мама была рада, а отчим возражал. Он относится с некоторым презрением к маминым родственникам, поскольку они все живут во Франции. Мы с мамой для него тоже люди низшего сословия. У нас с ней хоть и немецкое гражданство, но все равно мы француженки. Сам отчим примитивный и жестокий. У него в жизни может быть только одна проблема – пиво теплое. Я все время сочувствовала маме. Она оказалась в финансовой зависимости от него. Но она все терпела, думая, что отчим обеспечивает мне нормальную жизнь. Меньше года назад ей диагностировали рак. За это время она перенесла три операции. Сейчас она снова делает химиотерапию. На все эти мучения она идет ради меня. Ей страшно оставить меня одну. Мама надеется, что дотянет до конца этого учебного года. А потом, она хочет, чтобы я уехала к ее кузине в Орсей. Но я там никому не нужна. У отчима, хоть вместо извилин в мозгу одна прямая, он нашел правильный момент. Он меня изнасиловал в тот день, когда маме сделали операцию. Заявив мне, что не собирается зря меня кормить и я должна отработать хотя бы так. Увидев, что у меня была уже с кем-то связь, избил меня. На следующее утро я пошла в институт судебной экспертизы. Справку взяла, но заявление о возбуждении дела подавать не стала. Правда, копию справки на видное место положила. Больше не бьет и после этого деньги дает. Уйти я сейчас не могу, не могу маму бросить. Ей уже и так немного осталось.
Я рассказываю ей о себе. Она все понимает, мне очень сочувствует и говорит:
– Я сразу заметила, когда Крис к автобусу подъехал, что он паук. Он, похоже, планировал тебя сегодня увезти, но сорвалось, потому что ты с ним в машину не села.
Она посмотрела на меня:
– Тебя я увидела совсем по-новому в начале этого года, когда я рядом с тобой на уроке математики оказалась. У меня задание было не сделано, а меня спросили. Ты мне тихонько, чтобы никто не заметил, свою тетрадь пододвинула. А после, в отличие от других, ничего тебе от меня и не надо было, на меня даже и не взглянула. Зато я на тебя обратила внимание. Увидела, как ты за лето повзрослела и похорошела и как ты не похожа на других. В автобусе я специально для тебя место держала.
Все хорошее кончается много быстрее, чем хочется. Эти пять дней пролетели, как дуновение теплого ветра.
В гимназии мы теперь с Жанет всегда вместе. Вдвоем мы менее уязвимы. У ее мамы дела совсем плохи. Жанет принесла ко мне сумку и потихоньку заполняет ее, притаскивая из дома вещи, чтобы не заметил отчим. Сумка стоит в моем тайнике. Мы с ней уже все спланировали. Она уедет в день похорон своей мамы. Я приеду к ней в летние каникулы. К этому времени ей исполнится уже восемнадцать. За неделю до конца марта я посадила Жанет на поезд до Гамбурга. Сразу после похорон мы зашли ко мне за сумкой. Я хотела, чтобы она переночевала у бабушки, но она отказалась, поскольку через полчаса по прибытии на центральный вокзал Гамбурга с соседних путей уходил поезд на Берлин. Как только она уехала, мне снова стало нестерпимо одиноко.
Сегодня у меня приподнятое настроение. Пришел из дорожной полиции не просто штраф, а с фотографией, где Крис за рулем, я сижу рядом. Это он, когда из больницы меня вез, въехал в тридцатикилометровую зону на скорости семьдесят. А машина была материна. У полиции возникли дополнительные вопросы. Это вывело Криса из себя. Я думала, он всех покусает, побьет или убьет. Я не понимаю, как может настолько вывести из себя такой пустяк.
Апрель – май
С начала апреля в университете в Гамбурге для старших школьников будет читаться раз в неделю специальный курс лекций. Курс рассчитан на десять лекций. Их читают аспиранты и студенты. Они будут рассказывать о проблемах, над которыми сейчас работают ученые в разных областях науки. Мне очень хочется их посещать. Во-первых, интересно. Во-вторых, я собираюсь там учиться. И главное, там работал папа. Правда, далеко ездить. Но Крис вызывается меня возить. Я сопротивляюсь, помня наставления Жанет, не садиться к нему в машину. Можно спокойно ездить на поезде. Однако мать ставит мне ультиматум: или на машине, или никаких лекций. Они не хотят, чтобы я заходила к бабушке. После лекции Крис завозит меня в кафе. Я не понимаю, зачем на это тратить время. Мне надо еще делать домашнее задание. Да и вообще нет никакого желания с ним здесь сидеть. На третью лекцию мы приезжаем слишком рано. Крис сказал, что в туннеле под Эльбой начинаются ремонтные работы и придется наверняка стоять в пробке. Но никакого ремонта и никакой пробки не оказалось. На лекцию мы приезжаем очень рано, чтобы скоротать время, заходим в кафе. Крис не заказывает у официанта сок, а сам идет купить его к бару. Споткнувшись обо что-то, выливает оба стакана на меня. В таком виде на лекцию идти нельзя. Надо ехать домой. Я очень расстроена. Крису неудобно. Он извиняется через каждое слово. Потом смотрит на часы и говорит:
– У нас есть еще почти полчаса. Мы успеем за это время привести тебя в порядок. Давай только быстро.
Мы садимся в машину, через десять минут останавливаемся у многоквартирного дома. Я чувствую волнение и фальшь, исходящие от Криса, но сегодня лекция по физике и мне очень хочется на нее попасть. Выходим, поднимаемся на второй этаж. Крис открывает дверь квартиры и говорит:
– Бегом в душ.
Я стою под душем, Крис заходит, собирает мои вещи и говорит, что закинет их прямо сейчас в стирку, через пятнадцать минут будет все готово. Помывшись, я оглядываюсь, полотенца нигде нет, кричу:
– Крис, мне нужно полотенце.
Появляется Крис, сам в махровом халате с большим развернутым полотенцем в руках. Я отворачиваюсь. Он обворачивает меня полотенцем, хватает на руки и несет. Я брыкаюсь, но он держит крепко. Кладет меня на кровать и прижимает собой. Руки у меня спеленаты полотенцем. Я абсолютно беспомощна. Его лицо близко к моему лицу.
Я умоляю:
– Отпусти меня.
– Ну уж нет. Я больше чем полгода ждал этого момента. Ты и сама этого хотела. Многие начинают в твоем возрасте. Ты увидишь, тебе это понравится.
Я понимаю, что попалась, глупая перепелка. Слезы текут из глаз. Собственно, я знаю все, что сейчас произойдет. Из-за спеленатых рук у меня начинается атака страха. Я кричу:
– Освободи мне руки.
Он смотрит настороженно и удивленно, но освобождает только ноги. Он начинает меня целовать и облизывать, пытаясь затолкать свой язык мне в рот. Это так омерзительно. Меня рвет. Он водит языком по всем местам. Он делает это, наверное, профессионально. Почти как показывают в кино. От него нестерпимо пахнет. Этот запах очень похож на запах Кони. Он начинает действия, которые приносят мне нестерпимую боль и омерзение. Я вижу его мутные глаза, вижу его экстаз. И вижу через слезы на полуопущенных ресницах объектив кинокамеры, стоящей на шкафу. Я закрываю глаза и стараюсь не смотреть в ту сторону.
Наконец-то Крис переваливается на спину. Лежит некоторое время рядом. От него непередаваемо тошнотворно воняет.
Затем снова навалившись на меня, начинает мне делать нестерпимо больно, зажав мне ладонью рот. Он говорит, что, если я не буду ласковой и послушной девочкой, будет еще больнее, а потом он сдаст меня в психбольницу, где из меня сделают идиотку. Потом встает, я слышу щелчок, наверное, выключил камеру. Наконец я могу высвободить руки.
Он сидит на стуле за столом. Я, закутавшись в то же самое полотенце, подхожу к нему и прошу:
– Крис, пожалуйста, не говори никому о том, что между нами произошло. Если ты расскажешь, я убью себя.
Он разворачивается и смотрит на меня торжествующе, цинично, с долей удивления. У меня по щекам текут слезы. Я закрываю глаза, чтобы не видеть его противного лица, осклабившегося в омерзительной улыбке. Я слышу его ненавистный голос:
– Все зависит от того, как ты себя будешь вести. Пойди на кухню и возьми свои вещи из стиралки. Они, наверное, уже готовы. Одевайся.
Я достаю мою одежду из стиральной машины, но она мокрая, хочу сказать об этом Крису, выхожу из кухни и в отражении стеклянной двери комнаты вижу, что он стоит на столе, подняв потолок шифоньера, достает оттуда коробки с кинопленками. Я быстро исчезаю на кухне и стараюсь натянуть еще мокрую одежду. Появляется Крис с пакетом в руках и с раздражением спрашивает:
– Ты что так долго копаешься?
– Одежда влажная, плохо натягивается.
– Ничего. Пока едем – высохнет. Поспеши. Мне надо еще к одному приятелю заехать.
Крис останавливается возле телефона-автомата. Пока он звонил, я приоткрыла окно в крыше машины, потому что в машине чем-то неприятно пахнет.
На одной из улиц, притормозив у обочины, Крис вылезает и стоит у машины, озираясь по сторонам. К нему подходит его приятель под стать по омерзительности Крису. Крис протягивает ему пакет; взамен получает конверт, открывает и заглядывает в него. Он что-то считает. В это время его подельник пялится на меня через окно машины. Спрашивает, тыча в меня пальцем, но проезжающий мимо грузовик заглушает часть вопроса, и я слышу только:
– А эта у тебя почем? Когда…
Крис с мерзопакостной улыбкой отвечает:
– Сам еще не наигрался.
В следующую среду мы, минуя университет, едем сразу на квартиру к Крису. Я чувствую в нем агрессивность и как бы между прочим весело говорю:
– Ты обратил внимание на Надин? Ну они от нас по левому ряду на VW ехали. Я думала, она шею свернет, когда тебя рассматривала. Хорошо мама ее аварию не сделала, а тоже на тебя пялилась.
Вижу, что это его озадачивает. Он раздраженно приказывает:
– Раздевайся
Потом больно, с жестокостью, которая ему доставляет наслаждение, меня насилует. Кончив, бьет меня по лицу. У меня из носу течет кровь. Он спешит. Я все терплю: и боль, и омерзение. Он везет меня в университет и говорит:
– Пусть тебя назад подруга захватит.
Я возвращаюсь поездом, поскольку подруги никакой и не было. Я это придумала.
Крис исчезает на четыре недели. Я езжу на лекции поездом. Но к бабушке я не захожу, мне стыдно к ней идти после того, что произошло. И еще, и это главное, она все сразу поймет и, конечно, начнет самоотверженно меня защищать, а эти двое сделают ей что-нибудь очень плохое.
В пятницу, придя из школы, я застаю дома Криса. Отступать поздно, уже не убежать. Он очень доволен, относится ко мне, можно даже сказать, ласково и начинает меня раздевать. Все происходит на моей кровати, которая не рассчитана на большой вес и вот-вот развалится. Я снова все терплю: и боль, и омерзение, и этот непереносимый запах, который исходит от него. Крис требует, чтобы я быстро привела себя в порядок и сварила кофе. Мы сидим на кухне, пьем кофе. Вот-вот должна вернуться с работы мать. Крис меня уведомляет, что в начале июня он уезжает на два месяца. Я должна поехать с ним, но матери об этом говорить нельзя. Мы уедем тайком. Я киваю. Хлопнула калитка, идет мать. Он успевает сказать, что у нас еще будет время оговорить детали. Он кидается к зашедшей матери, обнимает ее, целует. Я ухожу в мою комнату. Обдумываю новую ситуацию. До начала июня я, по-видимому, доживу, но четко осознаю, что поездка означает мой конец. Все должно решиться раньше.
В следующую среду, сначала проделав все свои гнусности надо мной, от которых мне так больно и противно, лежа рядом, он излагает план нашей поездки. Я осторожно напоминаю, что занятия в школе у нас до последней недели июня и раньше меня никто не отпустит.
– Вот именно. Я уезжаю в начале июня, а в конце третьей недели июня мы встретимся на юге Германии, а дальше на мотоцикле через Италию, Грецию, Турцию до Индии.
Я снова киваю. Он, наверное, думает, что я знаю географию так же плохо, как он, но молчу.
– Билет я куплю. Матери твоей я сказал, что купил тебе путевку в лагерь скаутов. Ты туда очень хочешь, так как туда едут твои друзья по университетскому курсу. К поездке нам надо подготовиться. Что для скаутов, собирай дома, а что для поездки со мной – здесь. Брать минимум. Мы в следующую среду сходим в магазин и все купим.
Потом сел, глядя на меня в упор, поминутно требуя, чтобы я повторяла за ним, стал назидательно говорить:
– Путевка в лагерь начинается с двадцать третьего июня. Вас везут организованно из Гамбурга на автобусах от железнодорожного вокзала в десять часов. Это значит, что двадцать третьего июня ты должна приехать до десяти часов в Гамбург с рюкзаком, в котором лежат вещи для лагеря, и прийти сюда, по дороге выбросив рюкзак, где-нибудь в контейнер. Здесь переоденешься. Одежду, в которой приехала, тоже потом выбросишь в мусорный контейнер. Вещи сложишь вот в эту сумку. И ничего больше.
Сумка меньше моего школьного рюкзака. Это не выглядит багажом для такого дальнего путешествия.
– В кармане этой сумки будут лежать билет и деньги на всякий случай. В Ульме выйдешь из вокзала с центрального выхода, повернешь налево, до первого перекрестка и еще раз налево. Там я буду тебя ждать.
В среду, которая, я очень надеюсь, последняя, мы едем, как обычно, в Гамбург. Крис настроен благодушно и всю дорогу возбужденно говорит без умолку. Он явно доволен собой в какой-то сделке. Весело мне сообщает, что сегодня обязательно мы должны купить все необходимое для поездки. Сначала заедем все купим, а потом домой. Но потом передумал и поехал к себе на квартиру. Он грубо бросил меня на кровать и начал сдирать с меня одежду. Зазвонил телефон. Он не хотел отвечать на звонок, но звонящий начал говорить на автоответчик. И тогда Крис соскочил и схватил трубку. Разговор между ними шел по-французски: об оплате и продаже. И что-то там не состыковывалось. Кто-то сбежал или что-то в этом роде. Я слышу их обоих, и все записывается на автоответчик. Не заметив этого, Крис положил трубку. Он явно был сильно раздражен. Я вся сжалось. Он глянул на меня, усмехнулся и начал одеваться. Бросил на стол сто марок, ключ и сказал:
– Пойди сейчас и купи, что надо к поездке, и занеси сюда. Ключ возьмешь с собой. Я еще заскочу к вам. Если не сумею, увидимся двадцать третьего июня в Ульме в двадцать часов.
Он притянул меня к себе, поцеловал меня в губы и ушел. Выключила красную лампочку на автоответчике, тщательно вымыла губы и прополоскала водой рот. Но и после этого противный запах и привкус после Криса все равно оставались. Пошла купила одежду. Выполнив все приказы Криса, я вернулась домой намного раньше обычного. На кровати у меня лежали новый красивый красный рюкзак, новая модная куртка красно-серого цвета, новые джинсы и еще кое-что по мелочам. Мать готовила меня в лагерь скаутов, не подозревая, что не существует никакой путевки вообще, да и лагеря-то этого, возможно, и в природе нет. Так что в этих обновках меня только в гроб положат, и то если труп мой найдут.
Июнь
Петля, наброшенная на меня Крисом, все стремительнее и туже затягивалась. Я сама не понимала, как оказалась в этой ситуации, на которую не могу никак повлиять, не могу ничего изменить. Все было подчинено Крису: и я, и мать, и обстоятельства, и даже события вокруг. Я не знала, как мне выбраться из этой ямы, которую для меня вырыл Крис, и я по собственной глупости сама прыгнула в нее. Я больше не могла так жить. Мысль, что пора уйти из этого мира, все настойчивее буравила мне голову. Оставалось немного – решиться на это. Но исполнить только самой. Мне представлялось, как Крис, замучив, прикончит меня и обезобразит мое тело, чтобы меня никто не узнал. Мне становилось от этого жутко. Или продаст в публичный дом. Я была одна во всем этом мире, и заступиться за меня было некому. Я бы давно это уже сделала, но где-то далеко, как в космосе, светлым пятнышком была бабушка, которой от этого было бы очень больно. Если бы я сейчас приехала к ней, она бы все поняла, постаралась помочь найти выход. Я это знала, и еще я знала, что эти двое накинулись бы на нее, оболгали, натравили бы на нее полицию, суд. А меня насильно вернули бы к ним назад. Да и после всего, что случилось, я не могла к ней поехать. Это был стыд и перед ней, и перед папой. Тогда бы мать никогда не понесла наказания за свое предательство. Я продолжала жить как жила: ходить в школу, учить уроки, хотя четко осознавала, что жизнь моя подошла к концу и у нее не может быть продолжения.
В тот день, когда я была совсем близка к тому, чтобы это выполнить, раздался звонок у входной двери, который своим звуком буквально пронзил меня всю. Дома, кроме меня, никого не было. Да и я только что пришла из школы. Открыв дверь, я увидела молодую женщину крепкого телосложения, у нее были сильно загорелые лицо и кисти рук. Она спросила на ярко выраженном южном диалекте мои имя и фамилию. Я, ни секунды не раздумывая, сказала, что мое имя Алина, и назвала папину фамилию. Так ко мне всегда обращались только бабушка и папа, когда он хотел сказать мне что-то важное или призвать меня к порядку. В школе и дома для всех я была Лина и носила фамилию матери. Так стояло в моем свидетельстве о рождении. Мама моей матери была датчанка, и для моей матери не было другого варианта – ее дочь должна носить фамилию матери. Папа, собственно, тоже должен был носить согласно их традициям ее фамилию, но к тому времени, когда они женились, он был уже известен в научных кругах и поэтому оставил свою.
– Тогда тебе я привезла письмо, которое я нашла в очень необычном месте, на высоте почти восемь тысяч метров. Оно лежало у отвесной скалы, прижатое камнем.
Незнакомка произнесла это, сделав ударение на слове «тебе».
– Вы были на К2?
Она пристально посмотрела на меня:
– Да. Я вернулась оттуда месяц назад. Так ты знаешь от кого это письмо?
– От папы.
– Как его имя?
Я сказала. Она замерла, а потом стала как бы оправдываться:
– Я не могла сразу привезти его. Конечно, можно было бы послать письмо по почте, но на нем под адресом стоит «Передать лично в руки», и я подумала, что, наверное, это важно, чтобы оно не попало кому-то другому.
Я уже готова была отобрать у нее письмо, но она сама подала мне его. Я буквально выхватила его. Почерк был папин. Я прижала его к себе. Я не хотела, я не могла читать его при ней. Она продолжала стоять.
– Мне трудно выразить, как я вам благодарна.
Она кивнула.
– Ну ладно, мне пора.
И пошла. Как только за ней закрылась калитка, я бросилась в мою комнату и заперла дверь.
Я осторожно распечатала конверт. Казалось, от него пахло снегом, так же как и от листа, который я вынула. Лист был исписан с двух сторон простым графитовым карандашом убористым папиным почерком. Пространство между строчек выглядело сизым, как тень того, что стояло за строчками. От этого казалось, что письмо состояло из двух матриц, наложенных друг на друга. Чтение верхней, состоящей из слов в строчках, отпирало, как ключом, вход туда, что было за ней, во второй матрице, раскрывавшей смысл всего письма, но недоступной не посвященному человеку.
Я прочитала письмо уже пять раз. По мере того как я читала и перечитывала, зияющая пустота в пространстве, оставшаяся после того, как не стало папы, будто снова стала им заполняться с бестелесной, едва осязаемой плотностью. Я ощущала его присутствие. Мне стало очевидным, что я должна жить. Мне стало ясным, как я должна жить дальше, как и что я должна делать. Обычные строчки, обычные слова, написанные два года назад, в первой матрице магически преломлялись во второй матрице, высвечивая их смысл. Суть их основывалась на актуальных событиях, произошедших максимум два месяца назад. Значит, и написаны они могли быть только совсем недавно.
– «Здравствуй, мой милый, мой бесценный ребенок, мой колокольчик Лина-Лин. Мне бесконечно жаль, что я не сказал тебе очень важное, не поговорил с тобой, не сумел предостеречь тебя. И вот теперь, когда жизни осталось совсем немного, четко осознаешь, что же в ней для тебя было главным. Кого и что трудно покинуть, чем ты жил, а что было совсем неважным, а ты тратил на это столько сил и времени, обкрадывая себя, отнимая себя у тех, кто любил тебя; отнимая от себя тех, кто был тебе бесконечно дорог. Но сейчас я должен спешить. Самое главное на свете – это дети. Для меня главным человеком на земле была всегда ты. Дети – это самое весомое, что ты оставляешь на земле после себя. Дети и есть твое счастье. Помни это всегда. Стремись к этому счастью и дорожи им. И еще. Человек, который будет за тебя всегда, что бы с тобой ни случилось, – это твоя бабушка, моя мама. Она необыкновенный человек. Я ее очень люблю. Береги ее. Будь рядом с ней. Прости свою мать, она не хочет тебе зла. Она встанет на твою сторону. Стало вдруг очень жарко. Я боюсь, вдруг растает ледник, а я должен еще отнести письмо на почту. Доченька моя, прости, что я не смог защитить тебя в этом мире. Продержись еще немного. Может быть, оттуда, из другого мира, где для меня уже открывают ворота, это будет сделать проще. Мне невыносимо больно, что я больше никогда не прижму тебя к моей груди. Хоть бы взглянуть на тебя. Услышать твой голос. Сказать тебе то, что не успел. Все думал, пусть подрастет. Ты должна быть сильной. Ты и только ты сама должна определять свою жизнь, не позволяй никому этого делать за тебя. Моей работе я посвятил больше всего сил и времени. У меня были хорошие друзья, но не было соратников. Мои наработки, мои идеи в тетрадях, которые лежат в коробке, оставленной мной в твоем тайнике. Мне их некому завещать, кроме тебя. Становится жарче и жарче, хотя я снял уже и куртку, и свитер. Мне надо спешить, чтобы успеть отправить письмо, пока есть оказия. Надеюсь увидеть тебя. Целую, папа».
Хлопнула входная дверь. Это Крис. Я слышу, как он обходит все помещения. Убеждается, что матери нет дома. Останавливается у двери моей комнаты. Дергает за ручку. Стучит. Все внутри у меня сжимается и ощетинивается. Я молчу. Я знаю, что я этого больше не допущу.
– Лина, открой. Я знаю, что ты дома. Я сегодня ночью уезжаю. Не будь злой и жестокой девочкой.
– Я не могу сегодня; у меня болит живот и голова.
– Открой, я посмотрю, вдруг что-то серьезное. Может, надо срочно к врачу.
– Нет, это обычные боли раз в месяц. Я тебе сказала, что сегодня не могу. Мы увидимся, как договорились, через две недели. Счастливого пути.
Он с еще большей энергией дергает за ручку и трясет дверь. Я готовлю на всякий случай отступление через окно и вижу, что идет мать. Его я об этом не уведомляю. Надо убрать письмо в папину коробку в шкатулку. И слышу слова, заставившие сжаться всему, что есть у меня внутри:
– Ты забыла, что будет, если ты не будешь ласковой и послушной девочкой.
Заходя в дом, мать слышит этот грохот, и я очень надеюсь, что последние слова Криса тоже. Раздается ее голос:
– Что здесь происходит?
– У Лины в комнате заклинило дверь, вот пытаемся открыть.
Я открываю дверь. Мать смотрит на меня вопросительно и растерянно, но язык у нее не поворачивается спросить меня о том, что она вдруг понимает. Она только спрашивает:
– Ты почему такая бледная?
Повторяю причины моих болей и прошу оставить меня в покое, потому что я приняла обезболивающее и очень хочу спать. Захожу в комнату, закрываю дверь и окно. Не включая света, обдумываю актуальный план действий и план на оставшуюся жизнь. Правда, в плане очень много дырок и знаков вопроса. Я вижу единственную возможность – оставить папину коробку у Рико, а самой поехать к Жанет в Берлин.
Из школы ухожу после первого урока, сославшись на головную боль. Захожу домой. Беру большую сумку, в нее кидаю несколько вещей, которые обычно ношу. Еще мне нужно лезвие или скальпель. В поисках забредаю в материну ванную комнату. Никто, кроме нее, не имеет права ею пользоваться. На глаза попадается пробирка с жидкостью, стоящая на подоконнике. Рядом лежит коробка, на которой написано «Тест на беременность». Внутри нее лежит еще одна такая же неиспользованная. Читаю инструкцию, писаю в пробирку и ставлю рядом с первой. Нахожу скальпель и кладу в карман.
В квартире у Криса на столе лежит веселое письмо, оставленное им для меня. Меня оно не интересует. Вытаскиваю кассету из автоответчика и кладу ее в сумку. Туда же перегружаю все кассеты с видеозаписями из двойного потолка шкафа. Там еще лежат две увесистые папки с бумагами, кладу их тоже в сумку. На одной из этих кассет заснято, как он это совершал надо мной. Я не знаю, на которой из них, но если бы даже знала, все равно забрала бы все, потому что на других другие жертвы, другие дети. Это не воровство, это экспроприация. Было бы правильнее, если бы это сделала полиция, но жестокие СМИ во главе с политиками, полицией, правосудием ославят и сотрут в порошок остатки и без того немилосердно измочаленной жизни. Лучше от них всех держаться подальше. Вещи и сумку, приготовленные для путешествия, кладу поверх кассет.
Закончив процедуру изъятия, режу скальпелем ладошки. Кровь льется ручьем. Ладошками оставляю вокруг пятна крови на шкафах, на постели, на одежде, на стенах; капаю на пол в ванной комнате, на кухне. Мою одежду, принесенную сейчас, тоже перемазываю кровью и раскидываю вокруг. Уже достаточно, а кровь не останавливается, заматываю раны полотенцами. В этом деянии, безусловно, присутствует элемент мести, поскольку я порчу здесь вещи с удовольствием. Основная же цель – защита других детей, которых этот паук будет выслеживать. Я хочу показать, что здесь, в этой квартире, творятся преступления, и даю большой шанс полиции поймать преступника. Я не знаю еще, что я буду делать с видеокассетами, но оставлять их здесь нельзя. Я сжигаю письмо Криса прямо на столе, здесь же оставляя пепел от него. Помыла ключ, чтобы не осталось отпечатков моих пальцев, и бросила его на стол. Теперь надо быстрее уносить отсюда ноги. Дверь оставляю полуоткрытой.
Сумка достаточно тяжелая. Наконец-то добираюсь до дому. Мать сидит на кухне, перед ней стоят обе пробирки.
– Крис?
Я киваю головой. У нее по щекам текут слезы. У меня нет. У меня внутри лед или камень, а может, и то и другое.
– Почему ты мне раньше не сказала?
– Ты была за него. И мне бы все равно не поверила.
– Что в этой сумке?
– Он записывал на видео, как меня и других детей насиловал. Я экспроприировала. Да еще билет и кое-какие вещи для побега с ним. Через две недели мы должны были встретиться на вокзале в Ульме, а дальше на его мотоцикле до Индии.
Она закрыла лицо руками, сгибаясь все сильнее, как будто громадная тяжесть пригнула ее к столу. Когда она подняла голову, лицо ее было белым, как бумага, и голос был чужой, хриплый:
– За такое не прощают, но я прошу, прости меня.
Я подхожу к ней вплотную. Долго смотрю ей в глаза. Но удовлетворения от ее раскаяния нет. Есть только жалость к себе и к ней. Я думаю: «Две глупые, безмозглые перепелки».
Но вслух произношу:
– Давай как можно быстрее уедем отсюда. Он может вернуться в любой момент.
– Возьми, что тебе особенно дорого. Также все письма, номера телефонов, адреса и все фотографии, ни одной не должно остаться. Я думаю, часа на сборы нам хватит. Нам надо спешить, ты права.
У меня все готово. Я собралась еще ночью. Собственно, и собирать было нечего. Папина коробка и так собрана. Я ставлю ее в сумку, чтобы было удобнее нести. Новый рюкзак с парой футболок, бельем и тремя громадными, толстыми книгами. Два тома из них называются «Полный курс физики», где мелким шрифтом внизу титульного листа напечатано «Рекомендовано для физических факультетов университетов», и третий – «Справочник по математике». Это были папины книги. Мать, недавно прибирая в книжном шкафу, отправила их в макулатуру. Я их оттуда вытащила и поставила в мой шкаф. Письмо бабушке, написанное ночью, отправила еще по дороге в школу. Быстро переодеваюсь в новую одежду, купленную мне матерью для лагеря скаутов. Мы еще раз обходим все комнаты, внимательно осматриваем все, не осталась ли какая-нибудь информация о ком-нибудь из близких нам людей и какие-либо фотографии.
Через час мы уже в машине. Заезжаем в школу. Мать идет выпрашивать мой годовой табель за двенадцатый класс. Табели должны быть готовы только через неделю, но ей выдают. Я не знаю, как она сумела их убедить, я ждала ее в машине.
Мы едем в сторону Гамбурга, но куда, каков наш конечный пункт, я не знаю и не спрашиваю. Это неважно. Важно, что все пока идет в соответствии с моим желанием, как можно быстрее уехать отсюда. Где-то в районе Альтоны-балкона мать высаживает меня вместе с вещами на уютной скамейке, проронив: «Ты должна меня здесь подождать. Возможно, это будет долго», – и уезжает. Я удобно устраиваюсь, достаю первый том по физике и начинаю его читать. Часа через четыре мать подъезжает на такси. Я не задаю никаких вопросов. Через несколько минут мы на вокзале Альтона. К нашим вещам добавляется еще пакет. Из него вкусно пахнет свежими булочками. Из этого же пакета мать достает и подает мне темные очки и кепи, чтобы я надела. Я выполняю все, что она говорит.
Через сорок минут мы уже едем в поезде, который везет нас на север. Не доехав немного до Фленсбурга, мы единственные, кто выходит на этой небольшой станции. Уже поздно и совсем темно. Мы ждем, пока пройдет поезд. По деревянному настилу переходим через железнодорожные пути к зданию вокзала. Но остаемся стоять снаружи в тени. Ставим сумки на пятачок, освещенный фонарем. Мать оглядывается по сторонам. Она явно кого-то ждет. Из темноты появляется фигура, которая обнимается с матерью, потом поворачивается ко мне, и я вскрикиваю от радости, узнав Виви.
Мы едем в темноту по узкой дороге. Виви лихо ведет машину, объезжая только ей видимые препятствия. Она уже в курсе всех наших событий, скорее всего, они с матерью общались по телефону. Мать рассказывает Виви, что свою машину она продала в автосалоне возле аэропорта. Отчаянно торговалась с продавцом за каждую марку. Рассказала ему, что через четыре часа она с больным ребенком улетает в Южную Америку, поэтому ей очень нужны деньги прямо сейчас.
– Я даже билетом перед его носом потрясла. Вот увидишь, он начнет искать нас. И в первую очередь возьмет в визир машину. Он очень коварный, и поэтому надо быть все время начеку. Он будет гоняться не столько за нами, сколько за этим видеоматериалом.
Виви была с ней полностью согласна. Меня стало укачивать. Я задремала. Мне трудно сказать, сколько мы ехали: четверть часа, а может быть, два. Я проснулась от слов Виви:
– Вот мы почти и прибыли.
Мы въехали то ли в ворота, то ли просто в проем каменной стены. Виви как бы извиняется:
– Две недели как из ведра лило и теперь вместо дороги у дома озеро. Здесь повыше, поэтому и дорога здесь почти сухая, но придется немного пройтись.
Дальше мы идем через старинное кладбище мимо замшелых надгробных каменных крестов и глыб по неровной каменной дорожке, освещаемой луной. Справа едва различимые в темноте руины церкви. Я тащу сумку, в которой папина коробка. Она тяжелая, но я не хочу ее отдать ни матери, ни Виви. Виви смеется:
– У тебя там что, драгоценности, золото, бриллианты?
Я молчу, я знаю, что папину коробку я не могу и не имею права доверить никому даже на секунду.
Поминутно спотыкаясь, идем дальше.
– Уже дошли.
Мы стоим между двумя глухими каменными стенами. Я наконец-то идентифицировала шелест, сопровождавший нас все время, пока мы шли, который первоначально показался мне шумом листвы, но вокруг не было видно ни единого деревца. В потоке воздуха, сквозившего между каменными стенами, улавливался запах отдаленного моря.
– Здесь должна быть где-то потайная калитка. Ах да, вот она. Попробуй найди в темноте, под которым из камней в стене спрятана эта защелка. Наконец-то, нашла.
Женщины проходят вперед. Эта узкая калитка в стене пропускает нас в небольшой сад. Я аккуратно ставлю защелку назад на место. Темным утесом высится дом. Наш вояж, похоже, подошел к концу. Оказалось, что нас здесь ждут. Мы еще не подошли к двери дома, а она уже широко открылась, освещая нам путь. Включился фонарь. Нас встречает пожилая женщина. Ее хорошо видно в свете фонаря и на фоне освещенного дверного проема. Она кажется мне не по годам статной. Одета она в очень простое темное длинное платье. Загорелое лицо ее, покрытое вязью морщин, дышит спокойствием. Она искренне рада матери и Виви. Наконец, мать представляет меня. Я подхожу к ней. Ни слова не говоря, она прижимает меня к своей груди, целуя в темя, и я погружаюсь в то спокойствие, которым дышит ее грудь.
Мы сидим в узкой длинной комнате с высоким небольшим окном в торце, в которое на нас смотрит темнота с улицы. Длинный, ничем не покрытый, тщательно вымытый стол, жесткие стулья, на которых мы сидим, да открытые деревянные полки с посудой вдоль стены составляют органичное убранство комнаты. Я не знаю диалекта, на котором беседуют женщины, но чем дольше вслушиваюсь, тем легче экстраполирую слова и начинаю потихоньку улавливать смысл беседы. Из открытой двери соседней комнаты доносятся запахи, дразнящие пустой желудок. В комнату входит большой пожилой мужчина. На нем джинсы и черный свитер ручной вязки, из круглого ворота которого выглядывает воротник фланелевой клетчатой рубашки. Борода в половину лица, аккуратно причесанная и подстриженная полукругом, делает его лицо длиннее. Виви рапортует ему:
– Батюшка, все четыре ведьмы в сборе, ждем тебя.
Он хмурит брови, грозит ей пальцем, а глаза смеются. Я встаю, потому что мне удобнее стоять в его присутствии. Остальные тоже встают. Марта для того, чтобы принести еду, Виви и мать, чтобы подойти к нему поздороваться. Но он подходит сначала ко мне, целует меня в лоб и тепло произносит:
– Добро пожаловать, дитя мое. Меня зовут Юрген, я брат твоего деда, то есть тоже в какой-то степени твой дед. А твое имя, как я понимаю, Лина?
Я отрицательно кручу головой. Он удивленно смотрит на меня, как и все присутствующие, и я твердым голосом сообщаю:
– Меня зовут Алина.
И я почувствовала себя вдруг в его присутствии защищенной и уверенной в том, что все образуется и я буду сама определять мою жизнь. После ужина мы долго сидим за столом. Разговор идет о том о сем. Иногда какими-то полусловами, полунамеками. Я вижу, все всё понимают, кроме меня. Потом разговор заходит обо мне. Мать вперемежку с плачем поведала, что мне остался всего год учебы для того, чтобы закончить абитур. С такими способностями надо идти в университет.
За весь вечер я не произнесла ни слова. И не стремилась. Мое молчание за столом никого не тяготило, включая и меня.
На следующее утро я не хочу выходить из выделенной мне комнаты. Она очень уютная, и кажется, что в ней я надежно защищена. Здесь есть все, что мне нужно, и ничего лишнего: узкая кровать, маленький стол и стул, деревянная полка на стене и рядом с ней два крючка. На полку я водрузила два тома. Третий, который начала читать, положила на стол.
Решив не ходить на завтрак, поскольку еще не проголодалась после вчерашнего ужина, стала рассматривать кассеты экспроприированные вчера. На каждой стояла надпись. Чаще это было имя. На одной было написано «Лина». Ее отличал от других большой жирный красный крест. Эту кассету я переложила в папину коробку на самый низ.
Я только села за стол, решив дочитать главу, которую не закончила вчера на Альтона-балконе, когда в дверь постучали. После моего «да-да» входит Юрген. Я пододвигаю ему стул, сама пересаживаюсь на кровать. У него в руках стопка книг. Прежде чем сесть, он трогает стену у кровати, чтобы удостовериться, что она теплая. Ночью это было для меня приятным сюрпризом. Он спрашивает заботливо:
– Как спалось?
Дома я ненавидела мою кровать – от нее всегда пахло Кони, хотя даже саму кровать сменили уже дважды, но запах оставался. Потом с ним смешался запах Криса. Это было непереносимо тошнотворно. Сегодня от кровати пахло морем. Мне так хорошо спалось в ней. Я абсолютно искренне отвечаю:
– Впервые за долгое-долгое время очень хорошо.
– А это что ты за такую большую и толстую книгу читаешь, похожую на Библию?
– Да это и есть Библия, только для физиков. Это университетский учебник. Папин еще. Пока ничего другого нет, я и решила этим позаниматься.
Он разглядывает меня с любопытством, и, я чувствую, даже с некоторым уважением.
– Я тебе вот тоже кое-какие книжки принес, посмотри, может быть, сгодятся. Меня беспокоит, что ты бледная очень. Как ты себя чувствуешь? Голова кружится? Тошнит?
На мой кивок он пересел рядом на кровать, обнял меня, прижав к своему плечу.
– Я хочу, чтобы ты знала, пока я жив, всегда на твоей стороне буду. Никому тебя в обиду не дам. Я, сколько могу, любого ребенка, который в этом нуждается, стараюсь защитить, а уж за родную-то душу, за тебя, голову готов положить. Я ведь первый был, кто тебя в этом мире на руки принял. Мать твоя непутевая мне всю историю поведала. Но мне надо, чтобы ты все сама мне рассказала. Все высказала, выплеснула, не дала в душе застрять. На это надо смотреть как на несчастный случай. Шел человек, поскользнулся, упал и сломал ногу. Бывает, но теперь надо постараться, чтобы нога правильно срослась. Или бешеную собаку встретил…
– Да дело не в бешеной собаке, а когда тебя родная мать предает в угоду бешеной собаке, которая тебя всю обгрызла, что и срастаться уже нечему.
– Алина, можно я спрошу? Ты откуда узнала, что ты беременная?
– А я и не узнала. А я… я что, беременная?
– Ты же в одну из пробирок написала. Обе пробирки и показали беременность. Мы, конечно, еще проверим.
– Это я хотела ей знак оставить на случай, если он вернется и прибьет меня, когда я у него видеокассеты, изымать буду. На них он записал, как он надо мной и другими это совершал. Значит, и она тоже беременная?
– Что делать-то будем?
– С видеокассетами? Кроме них, там еще какие-то бумаги были, я их тоже экспроприировала. Да еще кассету из автоответчика. Мать и Виви правы, что он меня за эти материалы из-под земли достанет.
– Ты мне позволишь это все посмотреть?
– Ты лучше понимаешь, что с этим всем делать, конечно, бери. Я только кассету, на которой надпись «Лина» стоит, убрала оттуда. Я не хочу, чтобы это кто-нибудь видел.
Я рассказываю ему, как я производила изъятие, потом о Пегги, о предательстве матери, о бабушке, которую они мне постоянно грозили засадить в тюрьму, и о злой бешеной собаке Крисе. И вдруг меня осенила простая мысль, которую я тут же выкладываю; что если он меня сейчас найдет и убьет, то убьет и ту маленькую жизнь, которая теперь живет во мне. Эта жизнь вообще ни в чем не виновата. Что же теперь делать? Он обнял меня за плечи еще крепче.
– Сейчас-то мы тебя здесь спрячем. Но тебе учиться надо. Ты, наверное, хотела бы стать физиком, как твой отец был? Мы с Виви тут посоветовались, чем бы мы могли тебе помочь, и у нас такая идея. Послушай. Это наши предложения. Решать, конечно, тебе. Фамилию и имя поменяем. В этом я тебе попробую помочь. Есть у меня один канал. Тринадцатый класс ты можешь заочно закончить. Ты в состоянии самостоятельно пройти курс. Виви тебе и программу найдет, и учебниками обеспечит, и договорится, чтобы ты сдала абитур экстерном в гимназии, где она сейчас работает. Вот с университетом как быть? Куда бы нам тебя подальше отправить?
– Учиться я буду в Гамбурге, а жить – у бабушки.
– Это очень рискованно.
– Я буду жить у бабушки. Только где мы с матерью рожать будем? Это будет сенсация. Рожает четырнадцатилетняя. Да мне может быть пятнадцать к тому времени уже исполнится. Газеты будут пестреть заголовками: пятнадцатилетняя рожает одновременно со своей матерью. А когда он придет убить нас всех четверых, никто за нас не заступится, все в это время в другую сторону смотреть будут. А когда дело будет сделано, еще громче кричать начнут, как они за права детей борются.
Юрген грустно смотрел на меня. Наверное, возразить мне трудно.
– За это ты не переживай. Ты будешь здесь, в этом доме, рожать. А роды я буду принимать и Марта.
– Классно. А мать тоже здесь рожать будет?
– Твоя мать вообще рожать не хочет.
– А как это? Что значит не хочет?
– Она говорит, что ей не поднять еще одного ребенка. И еще потому, что от него. И поэтому хочет от ребенка избавиться. И ее не пугает даже то, что она может оказаться в тюрьме, если сделает аборт.
– Где она? Мы должны сейчас все вместе поговорить.
Я бегу через весь дом, заглядывая в каждую комнату. На кухне нахожу всех трех женщин, они что-то готовят из теста. Мать плачет и говорит, говорит, говорит. Две другие слушают, иногда смахивая слезы. Я вплотную подхожу к ней и, глядя ей в глаза, хочу сказать, но вместо этого из одеревеневшего вдруг горла вырываются хрип и с трудом выговариваемые слова:
– Ты не убьешь его? Он ведь ни в чем не виноват. Ты почти убила меня, сейчас хочешь убить еще одного. Я не позволю тебе этого сделать. Я перейму обоих детей. Только не убивай больше никого.
Образовавшаяся вдруг темнота обволокла всех и меня. Когда я снова вернулась, я лежала у себя в комнате на кровати, от которой пахло морем. Пахнет еще чем-то пряным. Когда умер дедушка и когда погиб папа, у бабушки в комнате был очень похожий запах. Кто-то здесь, наверное, тоже умер. Кто? Может быть, я? Юрген сидит на стуле возле кровати, положив голову на руки, опертые локтями в колени, глубоко задумавшись. Я на всякий случай трогаю его за колено:
– Юрген, все в порядке? Все живы?
Он смотрит на меня и улыбается:
– Все будут живы и все здоровы. А сейчас давай-ка вот творожок с булочкой поешь. Не хочу – нет теперь такого слова. Ты теперь не одна, а второй, может быть, хочет есть, и ему нужны для роста витамины и кальций, и вообще регулярное питание. А еще ему нужны каждый день прогулки на свежем воздухе. Так ты лучше в саду за домом гуляй. Там спокойнее и забор повыше, чтобы не вызывать у посторонних напрасного любопытства.
– Юрген, забери эту сумку с кассетами. Вон та, синяя. Ты знаешь, я очень за бабушку переживаю, он найдет ее и сделает ей что-нибудь плохое. Я должна к ней съездить. Ее надо предупредить и защитить. Я ей письмо написала, но все о себе, а ей ведь угрожает большая опасность, чем мне. Про тебя он ничего не знает, если ему мать не сказала. А про бабушку он знает, что идти мне, кроме нее, некуда. Мы хотя и забрали все фото и адреса, найти ее все равно можно.
– Правильно ты мыслишь. Можешь ты ее на чей-нибудь телефон пригласить, чтобы она не из своей квартиры разговаривала? Эти предосторожности может быть и чересчур, но кто его знает.
– Можно позвонить Рико. Он ее к ним позовет.
– Прекрасно, но ты не должна ей говорить, где ты находишься.
Прерываю излияния Рико по поводу того, что я наконец-то появилась и что он так рад. Прошу его, чтобы он сходил к бабушке и позвал ее к ним. Через пятнадцать минут на наш звонок отвечает бабушка.
– Бабуля, у меня сейчас уже все в порядке, а у тебя из-за меня могут быть большие проблемы. Я боюсь за тебя. Я отдаю трубку деду. Ты его, пожалуйста, слушайся.
Юрген берет у меня трубку и договаривается с ней о встрече на завтра.
Потом мы сидим с Юргеном у меня в комнате. По его просьбе я рассказываю ему, где живет бабушка, где работает. Я подробно описываю, что это за дома и кто там еще проживает, и на кого можно было бы еще положиться. К нам присоединяются Марта и Виви, но я не хочу, чтобы участвовала мать. Меня удивляет быстрый ум Марты. У нас выстраивается план действий. Я уверена, что Рико и Фриди справятся с отведенными им ролями.
Июль – август
День за днем уходил в прошлое, оставляя свои следы в реалиях, которые хоть и подвержены воздействию времени, но не столь скоротечны. Я обрастала кипами учебников благодаря энергии Виви. Была уже и договоренность с гимназией, и программа лежала на моем столе, и легенда моя, которую не один раз на «общем совете стаи», по определению Виви, прокрутили и отточили, была запущена все той же Виви. Мой живот рос тоже. Все лето моя жизнь, собственно, протекала в саду за домом.
Исключением были дни, когда приходили рабочие подштукатуривать и побелить в комнатах наверху. Там, на втором этаже, еще четыре комнаты. Они большие и светлые. Но в них долго никто не жил, и теперь их ремонтировали, чтобы к появлению детей они были в порядке. Пока маляры работали, я сидела у себя, не выходя. В один из таких дней мне вдруг постучали с внутренней стенки живота. Это означало, что там действительно кто-то живет. А сейчас он подает сигнал, что хочет со мной общаться. В этот вечер мы по обыкновению ужинали втроем. Мать больше жила у сестры, снимавшей небольшую квартиру в одном из ближайших городков. Виви преподавала там в гимназии, заменяя коллегу, ушедшую в отпуск по уходу за ребенком.
Беременность очень изменила мать внешне. Она располнела, коротко подстригла волосы и перекрасила их в ярко-рыжий цвет. Я считала, что эти изменения никак не улучшили ее внешний вид, но, по ее словам, знакомые ее не узнавали.
Как только я появилась к ужину, Юрген, в полглаза глянув на меня, спросил:
– Ну что, стучит?
– Стучит.
Марта, глядя на мою расплывающуюся от уха до уха улыбку, тоже улыбнулась:
– Теперь у тебя есть собеседник.
Я очень любила эти ужины втроем. Точнее сказать, беседы обо всем после ужина. Юрген время от времени начинал меня экзаменовать по пройденным темам, и, если я чего-то не знала, он примирительно говорил:
– Я понимаю, скорее всего, этого нет ни в программе, ни в учебнике, но образованный человек это знать обязан. И начинал рассказывать, причем рассказ по фундаментальности больше был похож на университетскую лекцию. Особенно меня восхищали его лекции-беседы по биологии и химии. В моих учебниках такого не было. В его изложении скудные абстрактные таблицы биологических или химических систем становились органичным отражением научной мысли.
Мы много спорили, особенно на темы истории, оценивая иногда очень по-разному события прошлых веков, но всегда приходили к консенсусу. Политические оценки нашего времени были у нас подчас диаметрально противоположны. Из учебника было ясно, что наше государство правовое, демократичное и свободное; и что свободная пресса тому один из гарантов. Я разделяла это мнение. Однако, меня ставили в тупик его заявления такого рода:
– Да, действительно пресса у нас свободная, но свободная она только от совести и от собственного мнения. Но ты учи, что там стоит в учебнике, тебе сдавать, потом разберешься, что почем. А то ляпнешь на экзамене не то, что в учебнике, и останешься без абитура. Вот тебе и свобода мнений будет. Да и понимать должна, что двойная мораль – основной принцип наших политиков.
– Неужели в нашем государстве нет честных людей?
– Есть. Только их к микрофону те из власти не допускают. Они ведь определяют, кто его получит. Для этого журналист должен экзамен сдать на отсутствие собственного мнения и умение сказать то, что от него ждут те, кто у кормила власти. Сама понимаешь кормило не только руль, но и кормушка.
Такого рода дискуссии меня пугали и запутывали.
Его же рассказы об истории меня завораживали, но не той истории, которая скаредно и схематично изложена в учебниках. А истории, складывающейся из дней жизни отдельных личностей. Их судьбы, причудливо переплетаясь, вливались в единый поток времени, обезличивающий, уносящий всех стремительно в прошлое от происходящего сиюминутного. И сам этот момент, как и последующие, обречен мчаться в мутном потоке истории назад.
Ничуть не меньше меня захватывали рассказы Юргена о времени и событиях, участником которых он был, и как события эти повлияли на судьбы наших с ним родных.
Он был младшим братом отца Виви и моей матери, врач по профессии. А брат его Лукас, дед мой, будучи еще совсем молодым священником, в одной из своих проповедей сказал, что Иисус Христос призывал любить своего ближнего – человека, и неважно какого он происхождения и какой он национальности. Один прихожанин донес в гестапо. Моего будущего деда должны были отправить в концентрационный лагерь, но дело было уже в начале 1945 года, поэтому заменили отправкой на Восточный фронт. Только Восточный фронт был уже в Германии, так что далеко он не уехал, был ранен в Берлине. Конец войны застал его в госпитале. После госпиталя оказался на несколько месяцев в лагере. Когда вышел, вдруг выяснилось, что Германию поделили на демаркационные зоны. Он оказался в восточной ее части. Добрался до Берлина и оттуда перебрался в английскую зону, не то чтобы по политическим убеждениям, это его и не интересовало, а чтобы оказаться поближе к дому.
Вместо дома и церкви нашел одни руины и ни души вокруг. Только бомбы неразорвавшиеся торчали. Есть хотелось. Пошел к морю, там что-нибудь съестное найти вероятность все же больше. Издалека увидел лежащую на песке фигуру. Сначала подумал – погибший ребенок. Решил похоронить хоть в песке. Подошел, оказалось, девушка, еще живая. У него последний сухарь на самый черный день в заплечном мешке был. Он еще в Берлине свой золотой крестик с груди выменял у одного американского солдата на пачку сухарей и на коробок спичек. Он ей сухарик отдал, к себе прижал, отогрел. Так вместе и остались. Двое – не один. Постепенно и люди стали появляться. Лукас стал рыбу ловить и продавать. Дом построили, хоть и маленький, дочка родилась. Школу организовал для ребятишек. Биргит, как солнышко, только начала лепетать, а уже второй в животе ногой бил. Жизнь потихоньку стала налаживаться. Но однажды уплыл Лукас на баркасе в море со своими товарищами по рыбной артели, а назад никто не вернулся. Виви родилась через два месяца после гибели отца. Для Беате и девочек началось тяжелое полуголодное время. Трудно сказать, как бы все вышло. К счастью, Юрген случайно встретил земляка, и тот рассказал ему о брате и его семье.
Юрген хотя к этому времени еще не кончил учебу в университете, но семью брата поддерживал, как мог. Предлагал Беате с девочками в Гамбург переехать, вместе все же легче выживать, но она отказалась – ждала, вдруг Лукас вернется, а в доме никого. Пришлось Юргену в тех краях после окончания учебы поселиться. Нашел место, где их дом стоял. Этот дом построил еще его прапрадед. Дом был разрушен в Первую мировую войну и после заново отстроен. Во время Второй мировой войны весь поселок полностью был сметен с лица земли бомбардировками. Англичане бомбили систематически, каждую ночь сбрасывая бомбы, когда летели бомбить Гамбург, так и на обратном пути, все, что оставалось, выбрасывали сюда же. Не то что не оставив ни единого дома, но и руины сравняли с землей.
Юрген начал дом отстраивать. Нет-нет да всплывет неразорвавшаяся бомба и очень много фосфора вокруг.
Поселок построили ближе к морю те, кто после войны уцелел, но пришла большая волна и смыла все рыбацкое поселение; после этого дом Юргена стоял долго изолированным от всего мира. Последнее время дома стали расти в округе как грибы после дождя и уже все ближе и ближе подходили к дому Юргена.
Юрген для девчонок вместо отца стал. Помогал не только материально, но и уму-разуму учил. Отправил учиться и поддерживал, чтобы обе окончили университет.
Еще Юрген рассказывал о временах рецессии, о приходе к власти фашистов, о машине пропаганды, которая сбила множеству людей мозги набекрень, разучив их думать. О войне. О том как он будучи контуженным и раненым, еще мальчиком вместе с отцом, которому оторвало руку по локоть, в самом конце сорок второго года уехал в Аргентину. Затем они перебрались в Бразилию и открыли там дело по добыче полудрагоценных камней, и дело хорошо пошло. Когда война закончилась, отец настоял, чтобы Юрген вернулся в Германию учиться на врача. Как учился, как участвовал в движении шестидесятников, как схлестнулся с неонацистами.
– Да, официально считалось, что их победили, но на деле они пользовались поддержкой этих же самых официальных. Вот и пришлось бежать назад в Бразилию. Наци тогда меня крепко со всех сторон обложили. Уйти мне помог Ник – отец твой. Очень рисковал. Тебе тогда только-только два года исполнилось. Я потом перебрался в Аргентину. Так и прожил больше двенадцати лет в Южной Америке.
– Юрген, отчего же ты не обратился в полицию. Она же обязана была тебя защищать. Это же в Конституции нашего государства записано.
– А ты знаешь, у нас есть в государственной структуре организация «Конституционная защита». Эта организация финансово поддерживает наци. Вот и не верь. Делают они очень просто. Выбирают из рядов наци каких-нибудь, которым платят как своим агентам. На самом же деле информацией агенты их не снабжают, а денежки идут на нужды националистов. Так что вот так на самом-то деле, а ты говоришь про то, чтобы защитить.
Я сомневаюсь в словах Юргена. Может быть, раньше так и было. Он недавно вернулся и не знает, что сейчас все иначе.
Осень
Уже несколько дней подряд светит яркое, но совсем не жаркое осеннее солнце. Мы с Мартой выдергали лук и чеснок. Все хорошо подсохло, и сейчас я сижу на скамейке за домом и плету из чеснока косу, чтобы было удобно его хранить зимой. Рядом сидит Юрген. Он мне только что прочитал лекцию об эмбрионах. По биологии я уже тоже полностью готова – могу идти сдавать экзамен хоть завтра.
– Когда ты мне сейчас рассказывал, я чувствовала себя студенткой медицинского факультета.
Юрген удивленно смотрит на меня:
– Я действительно читал курс лекций по эмбриологии на биологическом факультете в Буэнос-Айресе почти десять лет и практиковал в частной клинике моего друга. Мой друг был необыкновенным человеком, он самоотверженно боролся за сохранение лесов Амазонки. Мы стали самостоятельно вести расследования, как американские фирмы искореняют не только лес, животных, но вместе с ними и местных жителей. Друг мой погиб при невыясненных обстоятельствах, а мне пришлось уехать.
Мне так хорошо, так спокойно, так защищенно, сидя рядом с ним, слушать его сильного и смелого.
– Юрген, почему я раньше о тебе ничего не знала? Я бы могла к тебе убежать от этих двоих.
– Почему ты не поговорила с матерью, не попыталась ей рассказать?
– Это было бесполезно. Она доверяла только ему. Мне она не верила, как и я ей не доверяю даже сейчас. Это она в его отсутствие все понимает. При нем еще неизвестно, на чью сторону она встанет.
Я рассказываю ему про шкаф, благодаря которому я была информирована, по крайней мере, частично, хотя мне очень стыдно признаваться, что я подслушивала.
1986 год, зима
Прошел мой день рождения, прошло Рождество, прошел Новый год. Я очень хорошо продвинулась по программе и была уверена, что все успеваю с большим запасом; начала уже почитывать университетские учебники. Сама я была, как мне казалось, похожа на тумбочку и серьезно опасалась, что живот может лопнуть. Мать теперь тоже сидела дома. Они с Мартой готовили одежки для малышей. Стирали, гладили, что-то шили.
Юрген уже с начала недели бросал на меня тревожные взгляды. Пальпировал живот. Проверял, как лежит тот, который там живет, правильно или нет. Говорил, как себя вести, когда дойдет до дела. И вот он констатировал:
– Начал спускаться.
Это звучало как призыв к началу проведения строго расписанной церемонии. Сказал Марте, что можно начинать кипятить воду. Живот мне уже изрядно поднадоел, но то, что это должно не сегодня завтра произойти, как-то не укладывалось у меня в голове. Хотя я и мылась сама накануне, Марта помыла меня еще раз и уложила в верхней комнате на белоснежные простыни, под которыми что-то шуршало. Пришел Юрген. В руках у него было устройство, отдаленно напоминавшее штангенциркуль. Из кармана он достал трубку с двумя воронками, расположенными на ее концах. Одну воронку он приставлял к моему животу, другую – к своему уху и очень внимательно и напряженно слушал, кивая время от времени головой. Мне казалось, что тот, который жил в животе, что-то ему рассказывает. Мне все время хотелось спросить Юргена: «Что он тебе сказал?». Но он был так сосредоточен на своих ритуальных действиях по прощупыванию живота и измерениям на животе и местах, прилегающих к нему, что я не решалась мешать ему своими вопросами. Юрген спросил сам:
– Боишься?
– Нет, чего мне бояться, когда ты рядом.
– Абсолютно правильно. Меня слушаться беспрекословно, все делать так, как я скажу. С этого момента ты можешь только ходить или лежать, если сядешь, ты будешь сидеть на его голове. Я сейчас пойду, мне надо приготовиться самому и еще кое-что на всякий случай приготовить. Время у нас еще, по-видимому, есть, но, если что, кричи, дверь оставим открытой.
Не было ни страха, ни волнения. Я знала, Юрген за меня и папа нам поможет, а боли, которые время от времени накатывали, были естественными, их надо было терпеть.
Лежать стало невмоготу. Встала, решив дойти до туалета. Поток жидкости полился на мои ноги. Мне показалось, что я сделала какую-то непростительную ошибку. Я закричала, зовя Юргена. Дальше мое мироощущение было отделено от процесса, в котором я участвовала. Как через пелену тумана я воспринимала команды Юргена. Через его ободряющие возгласы до меня вдруг донесся голос Марты: «Мальчик, да хороший какой», а потом плач ребенка. Я дернулась навстречу этому крику и услышала голос Юргена:
– Тихо. Спокойно. Все в порядке. Его сначала искупают. А сейчас держись, будет очень больно, но сделать это необходимо.
И он с силой несколько раз нажал мне на живот. В голове, как молния, промелькнуло: «Зачем же он делает мне так больно».
Когда я открыла глаза, увидела Юргена, сидящего в кресле у моей кровати. Я тронула его рукой и спросила:
– Где он?
– Молодцы. Оба хорошо поспали.
Улыбнувшись, вытащил из колыбельки, стоящей у моей головы, сверточек. Помог мне приподняться и положил мне его на руки. Не запеленатым было только маленькое красненькое личико. Он был похож на папу как две капли воды. Я представила их друг другу:
– Юрген, знакомься, это Ник. Ник, это Юрген, твой прадед.
– Он будет носить имя своего деда. Молодец, что так его назвала. Ник был замечательный мужик.
К всеобщему удивлению, у меня появилось молоко, сначала совсем немного, а потом его было достаточно не только для Ника, но и для Лары, родившейся у матери через две недели после Ника. У нее все прошло драматично: и роды были сложные, и молоко, не успев появиться, исчезло. Она планировала вскармливать обоих сама. Тогда я относилась к этому равнодушно. Но сейчас, когда смотрела, как старательно сосут молоко из моей груди эти маленькие существа, я чувствовала нашу взаимосвязь, нашу взаимозависимость. Необыкновенные чувства нежности и любви к ним, рожденные вместе с ними, захватывали меня всю. Я их любила одинаково. Ни разу у нас не было произнесено по отношению к ним «мой – твой». Они были просто наши.
Малыши подрастали, становясь забавными. Я стояла теперь перед постоянным выбором: поиграть с детьми или идти заниматься. Но чувство ответственности и неодобрительные взгляды Юргена отправляли меня вниз, в комнату, набитую учебниками. Время от времени Юрген заходил ко мне ненадолго посмотреть, как у меня продвигаются занятия, и дать наставления.
– Ты этих двух сорок, мать и тетку, не слушай, у них мозги куриные. Учись сама соображать. Ситуация может враз измениться. Ты должна в этом году закончить абитур и поступить в университет, как планировала. А с пацанятами еще наиграешься. Чует мое сердце – тебе их поднимать. Да и жизнь ждет тебя нелегкая оттого, что ты не похожа на других. Так что спеши учиться, пока эта возможность есть. А бабушке твоей в Гамбурге дай бог здоровья.
Я не согласна с Юргеном по поводу Виви. Она меня не отвлекает, а наоборот очень помогает с английским и французским языками, а Юрген сам контролирует мою латынь.
Весна
Приближались экзамены. Как было оговорено с гимназией, сначала я сдаю экзамены за тринадцатый класс по всем предметам и, в случае успеха, мне будет позволено сдавать экзамены за абитур. В общем и целом я была готова. Могли, конечно, случиться какие-то непредвиденности, но чтобы все пошло вкривь и вкось; этого я не могла себе представить. Однако одна проблема была, и как с ней справиться, я не знала. Это наводило на меня страх. Детей я кормила теперь через каждые четыре часа. Но уже меньше чем через три часа груди разбухали, и молоко начинало течь; блузка промокала, образовывались ручейки, которые стекали на пол. Молоко надо было срочно сцеживать. И как бы это выглядело на экзамене. Тем более, что факт рождения мною ребенка мы хотели скрыть. Верх изобретательности проявила мать. Она не только смоделировала, но и сшила бюстгальтер с полиэтиленовыми мешками, которые кончались на поясе. Виви на всякий случай запустила легенду о моих проблемах с мочевым пузырем. В день экзамена с утра я не пила и не ела и видела спасение в том, что должна очень быстро работать. На отлично написанные мной письменные экзамены давали свои результаты в виде позитивного приговора, что ребенок очень способный, но, к сожалению, такой больной, не надо ему создавать лишние проблемы.
Лето и осень
Я не сообщила бабушке, когда к ней точно приеду. Эту поездку я все откладывала под разными предлогами, поскольку мой отъезд означал изъятие груди из рациона детей. Они уже давно получали детское питание, но на десерт с удовольствием чмокали у меня на коленях. Все удивлялись, говорили, что так не бывает, называя их обжорами, и сердились на меня.
– Ты на себя посмотри в зеркало. Они тебя съели. Ты стала уже даже не двумерная, а одномерная, – увещевал меня Юрген
Это была последняя неделя до окончания срока подачи документов в университет. В Гамбург я приехала, когда уже смеркалось. Жила бабушка теперь в бывшей своей студии. На мой звонок у подъезда никто в квартире не отозвался. Это была катастрофа. Со скамейки в скверике у дома мне была видна дверь подъезда, а меня скрывал куст. Я подумала, что здесь в худшем случае можно и переночевать. С благодарностью вспомнила Марту, засунувшую мне почти насильно в рюкзак булочку с сыром. Только откусила от нее кусочек, как тут же на скамейку рядом со мной уселся песик, с жадностью глядя на мою булочку и сглатывая слюни.
– Ах ты, бедолага. Ты тоже хочешь есть и тебе тоже негде ночевать?
Я оторвала ему половинку от булочки, и, как мне показалось, он с жадностью накинулся на еду. Я уже подумала, не оставить ли ему и вторую половинку. Хотела его погладить. Рука споткнулась об ошейник. Барбос, съев сыр, даже и не подумал есть булочку.
– Так ты только прикинулся бездомным. Сейчас выйдет твоя хозяйка и позовет тебя в теплую квартиру, накормит, напоит, на мягкую постельку уложит. А меня никто не позовет, и я буду ночевать на этой скамейке. Ужасно тебе завидую. Ногами не вставай на булочку, может, мне ее с голодухи доедать придется.
И вдруг над самым ухом раздается:
– Тоби, Алина, домой.
Из-за куста, закрывавшего дорожку, появляется бабушка. Я обнимаю ее и реву в голос. Вся боль, вся горечь, весь стресс, все напряжение прошедших месяцев выливаются на бабушкину грудь. Я знаю, что теперь наконец-то мы будем вместе.
Нам есть о чем поговорить. Юрген, конечно же, что-то ей рассказал. Мне неважно что, я хочу рассказать все и сама, но не знаю, с чего начать. Вернее, язык у меня не поворачивается или психика не хочет еще раз это все переживать. Бабушка меня ни о чем и не спрашивает, рассказывает сама, как нашла Тоби через пару дней после Рождества на той же скамейке, где сегодня Тоби нашел меня:
– Он лежал в коробке совсем маленький и почти совсем замерзший. Три месяца я его выхаживала. Сейчас мы очень большие друзья.
Бабушка отвернулась и смахнула слезы.
– Давай я сейчас тебе ванну приготовлю, а пока ты ее принимаешь, я ужин соберу. Комната для тебя уже давно готова. Будешь в моем бывшем бюро теперь жить.
– Нет, ты не уходи от меня. Давай все вместе. Сначала ванну, посиди со мной, а потом ужин вместе.
Совсем как раньше, даже слова как в детстве. Бабуля садится на ту самую скамеечку из детства. Я начинаю стягивать с себя одежду, по ходу комментируя весь маскарад, в который я была одета. Цель: достичь неузнаваемости. Кепи, потертые джинсы, линялая футболка и джинсовая курточка. Заодно и кратко рассказываю причину. Ей и не надо подробно, она понимает все с полуслова. Дохожу до тугой повязки на груди, которая выполняет двойную функцию: чтобы больше походить на мальчика и главное, чтобы не бежало молоко так интенсивно. Из-за этого и не пила, и не ела со вчерашнего вечера. А впрочем, оно и так уже пошло на убыль. Бабушка шепотом со страхом спрашивает:
– Где сейчас ребенок?
Рассказываю уже подробно, что Юрген и Марта принимали роды, про абитур и почему детей двое, Ник и Лара, и про то, что обязательно их заберу после окончания университета, поселившись возле бабули. Теперь она уже улыбается и говорит:
– Умничка ты моя.
Но когда она видит мой скелет, одетый в тонкую голую кожу, прикрывает глаза.
У меня и не было никого больше на свете, кто бы мне был ближе и роднее бабушки, на чью поддержку я могла не задумываясь рассчитывать. Конечно, еще был Юрген. Но он сам меня настойчиво приучал к мысли о своей временности.
Проснулась утром с мыслями о детях, как и вчера, уснула с заботами о них. Ну да, там же Юрген и Марта, значит, все будет хорошо. Вытащила из сумки папину шкатулку и поставила на стол. Достала конверт, вынула из него письмо. Хотела развернуть, но это оказались два листочка по половинке формата папиного письма. Было видно, что кто-то аккуратно разорвал лист пополам. У меня задрожали руки так, что стало трудно читать. На первом листке в первой строчке я прочитала:
– «Мама моя необыкновенная, моя любимая мама. Прости меня».
Я не должна была дальше читать. Письмо было не мне. Но я видела слова Алина и Тедди – в нем тоже шла речь обо мне. Осознавая, что делаю нехорошо, я, как прикованная к нему, дочитала до конца.
– «Мама, моя необыкновенная, моя любимая мама. Прости меня, что я причинил тебе столько боли моим уходом. Мои мысли теперь только о тебе и об Алине. Я знаю, что ты сделаешь для нее все, что в твоих силах, и даже больше. Прощай, мамочка. Алина непременно придет к тебе.
Это несчастье произошло, наверное, оттого, что я не взял мой талисман, моего Тедди, которого ты сшила мне и с которым мне всегда везло. Я разгадал его тайну, отчего мне с ним всегда было тепло, спокойно и всегда удачно; в него ты зашила кусочек твоей души, чтобы твой ангел-хранитель мог меня найти и защитить. Мой Тедди был со мной всегда, сколько я себя помню. Он сопровождал меня повсюду. Мне его так не достает теперь.
В нижнем ящике моего письменного стола лежит жестяная коробка. Там две сберкнижки, обе на твое имя: одна – для тебя, другая – для Алины. Я напишу ей тоже, но это так трудно. Осталось совсем мало сил. Прощай, моя лучшая в мире мама. Не плачь и не тоскуй обо мне. Я оставляю тебе Алину. Целую тебя много-много раз. Твой сын Ник».
Во втором письме папа обращался к кому-то по имени Рени. Кто она, я даже не предполагала и поэтому прочитала эти несколько строк, из которых состояло письмо. Но в письме не было никаких указаний, кто она и где можно ее отыскать.
Я не могла понять, откуда взялись эти письма в конверте и где папино письмо мне. Я еще раз заглянула в конверт. Он был пуст. Не было письма и в шкатулке. Не могло же мое письмо трансформироваться в эти два. По спине снова поползли мурашки. Я закрыла лицо руками, чтобы в деталях восстановить, как я его убирала. «Дверь ходит ходуном. Из-за двери доносится мерзкий голос бешеной собаки Криса. Я с письмом в руках хочу убежать через окно. Вижу, идет мать. Это меняет дело. Теперь можно быть спокойнее. Мне хочется быстрее убрать письмо в шкатулку, которая находится в коробке. Не вытаскивая шкатулку из коробки, отыскиваю кнопку сбоку. Крышка открывается, быстро кладу конверт в шкатулку и захлопываю ее. Вставая, опираюсь рукой о крышку шкатулки, она открывается. Хочу закрыть ее, но вижу, что осталось само письмо. Уже слышу голос матери. Я быстро кладу письмо, не убирая в конверт, на какие-то пестрые бумажки, захлопываю крышку. Закрываю стенку шкафа и шкаф. Иду к двери».
Стоп. В шкатулке не лежат никакие пестрые бумажки. И когда открылась крышка второй раз, я не нажимала кнопку. Понятно, скорее всего, крышка двойная. Захлопываю шкатулку. Нажимаю на крышку рукой – никакого результата. Смещаю руку. Снова нулевой эффект. Закрываю глаза. Крышка тогда открылась на меня. Разворачиваю шкатулку и, как тогда, сначала опираюсь ладонью, а потом пальцами. Открылась верхняя часть крышки. Письмо для меня лежало сверху пестрых бумажек – денежных купюр и на них записка «Можно взять в экстренном случае». Забираю письмо. Крышку закрываю. Еще бы понять, как я могла не заметить в конверте два других письма. Это казалось невероятным. У меня была уверенность, что, кроме моего письма, тогда в конверте больше ничего не было.
Я слышу, как открывается замок входной двери. Бабушка и Тоби прошли по коридору, чем-то тихонечко шурша. Потом бабушка с кем-то говорила по телефону:
– Я ей скажу, чтобы она сначала к тебе зашла. Нет, я не знаю, какой у нее балл. Вечером заходи к нам, обсудим.
Дождавшись, когда она закончит разговор, я вошла в зал с конвертом в руках, где лежало письмо для нее и письмо для меня.
– Алина, дружочек мой, как спалось?
Посмотрев на меня, на конверт в моих руках, бабушка остановилась на полуслове, хлопнула ладошкой возле себя по дивану, приглашая сесть. Я достала из конверта оба письма и протянула то, которое было адресовано ей. У меня уже текли слезы, я понимала, как ей тяжело будет это прочитать. Рука с письмом опустилась на колени. Прочитав его, она очень побледнела. Ей не хватало воздуха. Я принесла стакан с водой и ее капли.
– Бабулечка, родная моя, ты поплачь, будет легче.
Я встала коленями на диван и прижала ее голову к моей груди.
– Бабулечка, милая, мы теперь вдвоем, мы теперь вместе, и мы сумеем справиться со всем этим.
– Как попало к тебе это письмо?
Я рассказала о всей мистике его появления.
– Ты меня прости. Я прочитала его.
Помедлив, я протянула письмо, адресованное мне. Потом мы сидели обнявшись и плакали.
– Обедать впору, мы же еще не завтракали. У нас с тобой на сегодня еще так много дел.
После завтрака мой внешний вид подвергся тщательной ревизии. Волосы, которые за это время хорошо отросли, были тщательно гладко зачесаны и собраны на затылке в узел. На нос водружены громадные очки, и назывались они «хамелеон», так как могли менять степень затемнения в зависимости от освещенности. Потом бабушка, сняв с меня всяческие мерки, пошла купить мне, по ее выражению, одежку, в которой можно показаться в университете, оставив мне задание подготовиться к разговору с Ларсом и подготовить все документы.
– На всякий случай возьми все, что у тебя есть.
После того как все экзамены были позади, я досконально изучила содержимое папиной коробки. В одной из тетрадей я встречала имя Ларс. Да и вообще это имя мне было знакомо, я слышала его не один раз от папы. Только обладателя имени представляла себе нечетко. Тетрадей в коробке было много, и мне они казались особенно ценными, наверное, оттого, что были исписаны папиным почерком. Все тетради за один раз я привезти с собой не могла. Я стала перебирать все в сумке, так как не знала, взяла ли я эту. Я ее хорошо запомнила. Все тетради были формата А4. Их твердые корочки были в основном красного или синего цвета. У этой же корочка была в серо-белый ромбик. В ней тоже были формулы, расчеты, разъяснения. Но в середине тетради, где листок легко выдергивался, было письмо. Я его и не прочитала тогда, только первую строчку:
– «Привет, Ларс. Я не успел с тобой поговорить до отъезда».
Тетрадь была в сумке. В коробке она лежала рядом со шкатулкой, скорее всего, поэтому я ее и взяла. Быстро нашла нужные страницы. Я читала, не веря собственным глазам; и снова ощущала запах снега и мистику. Это было письмо, так необходимое мне сейчас. Я аккуратно выдернула его из тетради и положила с документами, которые нужно было представить в приемную комиссию. Они были у меня все давно подготовлены и сложены в папку. Я была во всеоружии и, ожидая возвращения бабушки, листала тетради. Это была целая концепция, новая теория, задуманная папой. Я еще не поняла ее, но четко осознала: я должна продолжить эту работу и посвятить себя ей.
Радостно заскуливший Тоби ринулся к двери. Я пошла за ним. Открыв дверь, мы с ним ждали, пока бабушка поднимется на лифте. Мне казалось, что Тоби не переживет этого ожидания. Столько эмоций в нем бурлило. Казалось, от радости он вылезет из собственной шкурки.
Бабушка очень постаралась меня красиво одеть; сама я ни за что бы так не вынарядилась. И блейзер, и штаны, и блузка, и туфли, и к ним сумка – все очень красиво сочеталось. Но было все слишком нарядно и необычно. Мне казалось все это не моим и не для меня, а для взрослой мадам. Но бабушка была очень довольна. Она велела мне прокрутиться; придирчиво оглядела меня и с удовлетворением сказала:
– Для конспирации важно не выделяться из общей массы в своем слое ни в ту, ни в другую сторону. По-моему, мы тебя очень хорошо преобразили.
Это уж было точно. Я в зеркале сама себя с трудом узнавала. Но в такой шикарной одежде затеряться в толпе мне казалось невозможным. Правильность одежды я оценила уже на подходе к университету. Многие были одеты примерно так же, как я, но в большинстве своем были пышноволосые и выглядели лохматыми. Бабушка предупредила, что Ларс ждет меня. И сначала я должна зайти к нему.
Ларс, с любопытством разглядывая меня, предложил сесть:
– Нун, с чего же мы начнем?
– Прежде всего я должна передать письмо, которое папа написал вам.
Я вытащила из сумки папку с документами, где сверху лежало письмо, и подала его ему. Я смотрела на его лицо, пока он читал. Брови у него сдвинулись, и между ними образовалась глубокая складка, создавая как бы одну линию с переносицей. Он часто кивал головой. Прочитав письмо, он молча протянул руку. Я поняла, ему нужны мои документы, и подала ему всю папку. Первым лежал аттестат. Он стал его просматривать. Если при прочтении письма голова его качалась сверху вниз, то при разглядывании аттестата – справа налево. Он с явным удивлением уставился на меня:
– В чем состоит проблема?
– В следующем документе, вернее, в его отсутствии. Мне пятнадцать лет и поэтому отсутствует идентификационный документ. Я боюсь, что меня из-за этого могут не взять. Есть только свидетельство о рождении. Я понимаю, вы очень заняты, а я тут со своими проблемками к вам пристаю.
Он грозно сдвинул брови и сурово с подавленным смешком произнес:
– Ты у меня сейчас договоришься, что я тебя выпорю. Запомни, ты мне теперь обязана докладывать о всех своих проблемках. У меня теперь все полномочия твоего отца. И чтобы никаких выканий я больше не слышал. Пошли, а то приемная комиссия закончит на сегодня работу, она до четырех.
Мне показалось, что Ларса распирает от гордости за мой аттестат. Он даже с некоторой заносчивостью показывал его:
– Представляете, средний балл один – круглый один, а ей только еще пятнадцать лет. Вы ее прямо сейчас оформите, чтобы ее в другое место не сманили, а недостающие документы она принесет потом.
Нам объясняют, что документы было положено посылать по почте. Они должны быть сначала зарегистрированы, а потом уже поступить в приемную комиссию с регистрационным номером для рассмотрения. Но Ларс обращается к одной из дам:
– Габильхен, сокровище, сделай это для меня, пожалуйста. Сходи к ним, зарегистрируй.
Как ни крути, официальный результат должен был быть не раньше чем через четыре недели. Потом Ларс провел меня по кафедре, показал, где работал папа, куда поставят папин стол – и это будет мое постоянное место в лаборатории. Для меня было очень важно и приятно, что он поддержал меня в моем желании начать с первых же дней учебы в университете заниматься научной работой и не абстрактной, а конкретной по папиной тематике. Потом Ларс представил меня коллегам, попросив одну женщину по имени Ренате опекать меня на первых порах, поскольку сам он будет в командировке.
Через день утром бабушка посадила меня на поезд. А потом еще больше двух километров я шла пешком. Хотя поначалу сумка с подарками для детей от бабушки не казалась тяжелой, при подходе к дому она буквально вываливалась из рук. Юрген не просто отчитал меня за мой необдуманный поступок, а дал собственно установку на подход к жизни:
– Так безрассудно тратят силы только недалекие люди. А всего-то надо было позвонить и сказать, на каком поезде приезжаешь. Чрезмерная твоя щепетильность, граничащая с дуростью, неуместна. Ты должна научиться жить рационально и организованно. И всегда просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед. Все сделать идеально невозможно, надо уметь выбирать главное для тебя, и делать его как можно лучше. В этом будет залог твоего успеха или провала. Без продуманной тактики и стратегии твоей жизни все эти благие желания и намерения ничего не стоят. Должна быть цель, а не прожект. Конечно, вся моя нотация звучит менторски, но когда-нибудь ты скажешь: «А занудливый старикан был прав».
После этого случая Юрген всегда встречал меня у поезда. И зашелестели дни в своем монотонном разнообразии, побежали, как по накатанным рельсам.
1987 год
Так продолжалось до середины июня. Мать позвонила и сказала, что живет с детьми теперь у Виви. Приедешь, узнаешь почему. Виви тебя на автобусной остановке встретит.
На автобусной остановке никого не было. Из подъехавшей машины вышел молодой человек с явной претензией на близкий контакт. Он обнял меня за талию и притянул к себе. Я приготовилась к обороне, но услышала шепот Виви:
– Это я.
Мы сели в машину. Поездив по сельским дорогам, мы вернулись в город с другой стороны. Виви рассказала, что материал, экспроприированный мной у Криса, оказался ужасающим по своему содержанию, но очень ценным для разоблачения сети педофилов. Крис с немецкой педантичностью записывал имена и педофилов, тех, которым он поставлял бедных детей, и имена жертв, и откуда он их получал, то есть имена подельников с номерами телефонов и адресами. Юрген закончил всю систематику, и прежде чем это запустить в дело, он решил нас всех обезопасить, так что всем нам пришлось переехать. В доме Юргена никто не живет – даже он сам оттуда выехал.
Июль и две первых недели августа мы вчетвером: малыши, бабушка и я жили в пансионате на берегу Северного моря. В начале сентября мы с Фриди отвезли детей к маме. Она сняла дом. Места было теперь много и детям было удобно. Только Виви уехала, поскольку коллега, которую она замещала, вышла из отпуска по уходу за ребенком. Виви нашла новую работу и жила теперь на юге Германии.
1988 год, октябрь
Нику и Ларе было два года и девять месяцев, когда мать «подняла нас по тревоге», сказав, что на горизонте появился Крис и детей надо срочно забрать. Причем вывезти их необходимо сегодня ночью.
– Ты же знаешь, какой он коварный. Он отберет их у нас. Он пытается выследить тебя. В твоей школе уже наводил о тебе справки. Ты сама знаешь, он на все способен. Будь предельно осторожна, – шептала она в трубку возбужденно. – Мою машину я в центре на стоянке оставила. Вы сразу же в гараж въезжайте и перед въездом на мою улицу номер заклейте, – давала она инструкции.
Поздно ночью я, бабушка и Фриди перевезли детей к нам. Это был для меня удар. От срока, отведенного мне на образование, оставалось еще более двух лет. Но рисковать детьми я не могла. Многие предметы я сдавала досрочно, поэтому солидная часть программы была уже позади. Но как теперь быть? Не оставишь же их одних. Мне было грустно оттого, что завтра контрольная работа для меня не состоится. А я так надеялась благодаря ей получить необходимые пункты для досрочной сдачи экзамена.
За окнами машины глубокая ночь. Малыши спокойно спят в своих креслицах, иногда почмокивая сосками-пустышками. Тоже проблема. Надо их как-то отучать – большие уже. Бабушка оборачивается и тихонько говорит:
– Спи. Не выспавшись, как будешь завтра контрольную работу писать.
– А их куда?
– Пока я с ними останусь. А там что-нибудь придумаем.
– Но тебе тоже завтра на работу.
– Спи.
1989 год
Через три месяца наши малыши отправились в детский садик благодаря поддержке знакомых Ларса. Ночью дети спали в моей комнате. Я сама их укладывала, читала на ночь сказки, вставала по ночам, когда были проблемы. Иногда забирала их из садика. Но в основном отводила, забирала и занималась ими бабушка. У нас установился определенный ритм жизни. Времени стало намного больше, чем раньше, когда каждую пятницу, чтобы добраться до них, мне надо было после занятий сломя голову нестись на поезд и переживать, если вдруг поезд задержится, я не попадаю на последний автобус. И в воскресенье назад. Не ездить каждую неделю я не могла. Как это ни парадоксально звучит, я не могла полностью доверить детей матери.
К началу шестого семестра я почти кончила писать и диплом, и диссертацию, но еще не все экзамены были сданы. Некоторые преподаватели не позволяли сдачу экзаменов экстерном, требуя, чтобы их курс обязательно был полностью прослушан. Для защиты диссертации мне были нужны публикации и участие в конференциях. Если с публикациями было все более или менее в порядке, поехать на конференцию было для меня проблематично. Оставлять бабушку одну с малышами не позволяла совесть.
Март
В середине марта проходила главная конференция нашего комьюнити в Париже, которая случалась раз в два года. И Ларс, занимавший одну из ведущих позиций в организационном комитете, выбил мне сразу два устных доклада. Один был в первый день на пленарной сессии, второй на заседании рабочей группы на следующий день. На третий день у меня было три постера на трех сессиях, что означало целый день «на манеже». А вечером Diner. Все было компактно и, проигнорировав следующие два дня конференции, я могла уехать домой.
На конференциях, а тем более таких больших я еще не только не выступала, но и не участвовала в них. Все было незнакомо и ужасно страшно. Да и страх этот был тоже мне новым. Я не помнила ни единой строчки из моего доклада, когда на негнущихся от страха и волнения ногах поднималась на сцену. Мне казалось, что самое время сейчас повернуть назад, но по инерции продолжала двигаться вперед под слова председательствующего Ларса:
– Дорогие коллеги, сейчас я с удовольствием хотел бы дать слово самой молодой участнице нашего симпозиума, она студентка шестого семестра, но представила уже диссертацию…
Далее следуют пара похвал, мое имя и название доклада, и, как бы подводя итог, он объявляет:
– Итак, слово имеет памперс лига.
После такого анонса ситуация изменилась для меня кардинальным образом. Я была настолько возмущена последними словами Ларса, что вместо трясущегося зайца на сцену поднялась оскалившаяся тигрица, так мне, по крайней мере, казалось. Меняя кальки одну за другой, я больше не вспоминала выверенных, округлых фраз, над которыми я столько билась, а просто рассказывала мои результаты, мои интерпретации, мои несогласия с имеющимися воззрениями. На доклад выделялось полчаса. Время пролетело быстрее, чем я ожидала. Немного не уложилась. Пришлось сэкономить на конкретных благодарностях; сказала в общем, оставив слайд с именами. Внутренний голос выдохнул «всё». Но тут стали задавать вопросы. Возникшая дискуссия показалась мне намного интереснее самого доклада, но Ларс объявил:
– Это был последний вопрос. Все остальные дискуссии в кулуарах, – и назвал следующего докладчика.
В перерыве Ренате пригласила меня вместе пообедать. Представила мне своего импозантного спутника. Его красивое лицо, подтянутая стройная фигура, осанка и взгляд человека, знающего себе цену, сразу обращали на себя внимание. Но мягкая улыбка и одобряющий собеседника кивок головы выдали в нем что-то очень знакомое.
– Ну да, Даниэль! Дани! Мы же знаем друг друга с самого маленького возраста. В четыре года я была в тебя безумно влюблена. Ты был тогда большим и красивым мальчиком.
– А ты была маленькая смешная девочка. Я помню, как носил тебя на руках и называл тебя Малыш. Ты обнимала меня за шею и шептала: «Это я только для тебя малыш. А вообще-то я уже большая». И это мне очень нравилось.
Мы условились вечером пошататься по Парижу. Я хотела попасть в домик Родена, но там было закрыто. И мы выбрали беспроигрышный вариант: кварталы Сорбонны. Дани пригласил нас в очень маленький и очень нобль ресторанчик поужинать. Пока мы сидели в ожидании еды, Ренате и Дани наперебой расточали самые лестные эпитеты по поводу моего доклада. Мне было очень приятно это слышать, но я ужасно смущалась и краснела, и мне было неудобно от этих похвал. Со сцены еще достаточно юный певец, подогревая эмоции, умолял кого-то:
– Ne me quitte pas. Ne me quitte pas
Дани заказал шампанское, чтобы отметить мое боевое крещение. Отпив пару глотков, я почувствовала, что все вокруг поплыло, и язык мой абсолютно развязался, заплетаясь в признании, что я первый раз в жизни пью шампанское и вообще вино. Дани тут же отобрал у меня бокал и допил. Я постоянно ловила взгляды Дани на себе. Меня это смущало и сладко тревожило. От этого было неловко перед Ренате, но не мешало нам троим веселиться. Мы много смеялись, радуясь беспечному моменту жизни – юности, которой не свойственно терзаться проблемами. В гостинице я появилась уже после двух.
Возле моего последнего постера возникла оживленная дискуссия. И поэтому на Diner я немного опоздала. Найдя глазами Ренате и Дани, уже направилась к их столику, чтобы сесть с ними, но Ларс перехватил меня. Обняв за плечи, он подвел меня к столу, где сидели патриархи нашего комьюнити. Познакомил меня с каждым персонально. Я опять не знала, куда мне деваться, когда они хвалили мои доклады и, что меня удивило, и мои постеры, задавали вопросы. Я уже внутренне смирилась с жертвой вечера. Приготовилась беседовать учтиво со старичками, да еще и по-английски. Ларс посадил меня между собой и хмурым типом его возраста; Яков, так его звали, поднял бокал с вином и сказал:
– За нашего Ники, светлая память ему.
Я как-то не сразу поняла, что речь идет о папе. В разговоре всплыло, что они были друзьями со студенческой скамьи; их связывала страсть к альпинизму. Папа и Ларс остались в университете на кафедре, а Яков ушел в индустрию. И хотя они жили не то что в разных городах, а даже на разных континентах, по-прежнему единой командой ходили в горы. Вершина К2 оставалась одним из последних непокоренных ими восьмитысячников. И оба недоумевали сейчас, почему папа в этот злосчастный раз ушел с чужой командой.
– Лари, ты знал, что Ники собрался туда, он звал тебя? И я тоже ничего не знал. Это же был не сезон.
– Что он идет, я узнал в последний момент. Я даже не поверил ему сначала. Он сам отлично знал, что в это время там могут быть погодные сюрпризы. Представляешь, восхождение они делали по северной стене. Не могу себе простить, что не смог его остановить.
Их манера обращения – Яки, Лари – выдавала какое-то щемящее, нежное отношение друг к другу. Мне казалось, они забыли о моем присутствии. Они говорили о чем-то очень личном, сокровенном. Я давно бы уже тихонько улизнула, если бы речь не шла о папе.
– Он ведь и пошел без серьезной подготовки. Ники присоединился к этой команде позже вместо заболевшего. В такой спешке. У него времени на адаптацию не было. Один добирался до базового лагеря, где остальная команда уже две недели тренировалась. Его ждали. Как только он приехал, почти сразу же и пошли на восхождение. Не узнаю его.
Ларс горестно вздохнул и без всякого перехода сказал:
– Теперь о деле. По этой тематике работает только она. Так что на нее вся надежда. Если кто сможет сделать, то только она. Если вообще это возможно.
Он ткнул в меня пальцем, продолжая:
– Ты знаешь, она унаследовала не только его характер мышления, но и его восприятие мира. Она развивает дальше его тематику. Эта почти наш Ники, только маленький. Поговоришь с ней, сам увидишь.
Изыскано оформленная еда в наших тарелках совсем остыла, официанты разносили уже десерт. Но мне было теперь не до еды. Я очень боялась, что не сумею оправдать ожиданий папиных друзей, не смогу отстоять славу быть похожей на папу. Наконец, Яков поднялся, поднялась и я. Мы шли через весь зал, под провожающими нас взглядами жующих, оживленно беседующих коллег. В одной руке у Якова был большой потрепанный портфель, а другой он приобнял меня за плечи.
На всех бумагах, которые Яков вытащил из портфеля, стоял гриф «совершенно секретно». Это отвлекало щекотанием самолюбия, ореолом значимости и чувством принадлежности к особому кругу, но и тревожило. Видя, что Яков не обращает на все эти грифы ни малейшего внимания, устыдившись, я сосредоточилась на проблеме. В общем-то, проблема, как мне сначала показалось, была решаема догадкой в техническом ключе. Мы дискутировали. Яков поглядывал на меня с некоторым удивлением. Потом, порывшись в портфеле, достал небольшой прибор и протянул мне, как бы ставя точку в разговоре, устало произнес:
– В этой внешней памяти сидит очень много данных, ты разберешься. Через сутки мне надо быть в топ-форме на полигоне. Завтра рано утром я улетаю в Исламабад, потом пересадка на Скарди, а дальше вертолетом до базы. Больше двадцати часов в пути. Буду у вас в университете в начале июня. Ты сама понимаешь, как с этим обращаться. Посмотри, может быть, придет какая идея в голову. Время – двенадцатый час. Всё. Спать.
Спать хотелось ужасно. После двух вечеров скитаний допоздна, вернее, до утра по Парижу накопился катастрофический дефицит сна, да еще надо было сложить вещи. Я тоже завтра рано утром улетала. Я чувствовала себя неловко, и мне было жаль, что уезжаю, не попрощавшись ни с Ренате, ни с Дани. С Ренате встречусь через пару дней, а Дани, наверное, никогда больше не увижу. И от этого было почему-то грустно.
Каково же было мое удивление, когда утром, сделав check out, я увидела сидящего в кресле вестибюля Дани. Я подошла к нему и подала руку попрощаться. Он, удерживая мою руку в своих ладонях, стал говорить, что едет тоже в аэропорт и мог бы взять меня с собой в такси. Я очень обрадовалась. Это будет быстрее, и у меня будет время заскочить в аэропорту в сувенирную лавку, купить что-нибудь детям.
Такси ехало через центр Парижа. Начал падать снег редкими крупными хлопьями. Таксист включил радио. Пространство между мной и Дани заполнил проникновенный голос Азнавура: «Тombe la neige». Дани сидит, положив руку на спинку сиденья, полуобернувшись, и смотрит на меня. Внутри меня все плачет вместе с песней. В аэропорту Дани вдруг исчез, не попрощавшись и ничего не сказав. Я зарегистрировалась, прошла контроль, купила Ларе смешную плюшевую обезьяну, Нику – симпатичного пластмассового бегемота, который глотал свою соску, а бабушке – этуи для очков с Эйфелевой башней. Подхожу к моему гейту. За окном идет густой снег. Очень красиво, но не обещает ничего хорошего. И уже слышу, объявляют, что по метеоусловиям задерживаются следующие рейсы: мой, естественно, среди них. Кто-то сзади приобнимает меня и я с радостью слышу:
– Я все-таки поймал беглянку. Стоило мне на минутку отойти, как она тут же сбежала. И уже даже закупиться успела. Так-так.
Я тут же начинаю оправдываться. Действительно, человек меня привез, а я даже спасибо не сказала. Показываю на окно и говорю:
– Вот теперь из-за этой красоты мой рейс задерживается на два часа.
– Мой тоже. Смотри, вон там уютная скамейка.
Мы сидим и болтаем, так, ни о чем. Рассматриваем мои покупки. Дани спрашивает:
– Чьи это дети?
Мне не хочется ему врать, но сказать правду я не имею права, поэтому говорю уклончиво:
– Их отец – любовник моей матери. Дети живут у нас с бабушкой. Бабушка – это мама моего папы. Она мой лучший друг и никогда не бросит меня на произвол судьбы.
Перед посадкой меня просят подойти к стойке. Дани уже проходит на посадку в самолет, даже не оглянувшись. Мне что-то объясняют, сто раз извинившись. Я улавливаю только, что у меня что-то не так с местом, и я сейчас получу другой билет. Стюардесса, по-видимому, ошибочно, отправляет меня в бизнес-класс. Чтобы не мешать посадке, иду туда. Замираю от удивления. В билете стоит: место номер четыре. Вижу очень довольную физиономию Дани.
– Тебя все-таки пустили. А то я уже злорадствовал – зайца поймали.
Мы выходим из такси. В Гамбурге тоже идет снег. Дани просит таксиста подождать.
– А куда дальше поедем?
Слышу тихое:
– В аэропорт.
Сладкая догадка ужасает. Внутри все ликует: это он из-за меня придумал эту поездку. Дани дошел со мной до двери подъезда, остановился, глядя мне в глаза, притянул к себе, поцеловал в губы и почти побежал назад. Я стояла, смотрела вслед отъезжающему такси, запутавшись окончательно, где белое, где черное. Что это, предательство? И любовь ли это?
Апрель
Я была уже близка к финишу моей учебы. Дипломная работа была написана, но оставался еще один экзамен. Защита же диссертации была позади. Она состоялась в начале апреля, практически сразу после конференции. Все прошло легко, как говорится, без сучка и задоринки. Но ученая степень становилась легитимной только при наличии диплома об окончании университета. Защита же его была еще впереди.
Я готовилась к сдаче экзамена и защите дипломной работы. Между тем мысли постоянно возвращались к данным, оставленным мне Яковом. Все оказалось сложнее, чем выглядело на первый взгляд, а на третий взгляд показалось просто неразрешимой задачей. Пять уравнений с десятью неизвестными. Я не могла подвести папу. Он бы обязательно решил эту проблему. Если же я, так похожая на него, не смогу это сделать, то его друзья будут думать, что и он бы тоже не справился с ней. Этого допустить было нельзя. И еще одно, засевшие где-то в подсознании на заднем плане, названия городов, пророненных Яковом: Исламабад и Скарди. Папа именно эти два города обвел на карте кружками, когда собирался на К2. Значит, это где-то недалеко от папы. Еще почему-то вспоминался Дани. Мне казалось, что он должен был дать о себе знать, а может, просто мне этого хотелось. Прошло уже почти два месяца, а от него не было ни слуху ни духу. И Ренате, с которой я виделась почти каждый день, о нем не вспоминала.
Май – июнь
На защите моей дипломной работы все шло вначале гладко: я сделала доклад, ответила на вопросы. Референт дал хорошую оценку. Я уже спокойно сидела, думая, что и защита диплома практически уже позади. Началась свободная дискуссия. И тут ко мне привязался один ворчливый профессор-педант, который стал говорить:
– Надежность результатов прежде всего опирается на аккуратность их изложения. И если текст представлен на немецком языке, то и графические отображения данных не должны быть на английском. Если ты специалист с высшим образованием, ты не должен себе позволять жаргонные, пусть даже от науки, выражения.
Идея пришла в неподходящее время и в неподходящем месте. Возможно, этому способствовал его голос, напоминавший мне звук пилы или синусоиду, а может быть, и разложение в ряд Фурье. Дальше я слышала только мотив, пропуская мимо ушей слова, пока мне не подал знак локтем в бок рядом сидящий. Я с некоторой задержкой понимаю, что хочет от меня этот зануда.
– Что вы можете мне сказать на эти замечания. И вообще, что вы все время пишете, когда к вам апеллируют?
– Я могу только сказать, что вы абсолютно правы. Я записываю все, что вы сказали.
Для меня было сейчас самое главное, чтобы никто не помешал. Я поняла, что ухватилась за ниточку, за самый ее кончик. Дискуссия шла дальше, я не следила за ней и не принимала участия. Только видела, что Ларс сражался за меня, как лев. После защиты Ларс подошел ко мне:
– Что с тобой? Ты заснула там, что ли? Почему ты вдруг самоустранилась?
– Ларс, мне кажется, я поняла. Ты послушай меня и скажи есть ли в этом рациональное зерно?
Он, выслушав, не без скептицизма обронил:
– Сильна. Не знаю, не знаю. Посмотреть надо. Может, и получится.
Мне нужны были дополнительные данные, которые можно было получить только на месте. Ликованию моему не было предела. Я поеду туда. Я попаду к подножию К2. К приезду Якова я подробно описала мою идею со всеми моими расчетами и расписала по пунктам план дальнейших исследований, из которого вытекала необходимость моего примерно двухнедельного присутствия на полигоне. Теперь моя задача состояла в том, чтобы Яков тоже проникся этой идеей. И это было самое трудное. Когда я заикнулась Ларсу о том, что собираюсь на полигон, ответ был короток:
– Ты поедешь туда только через мой труп.
И, уходя, добавил, но так, чтобы я слышала:
– Дите неразумное, да и только.
Эти реплики не были похожи на его обычные саркастические тирады, где всегда оставались лазейки для дискуссий. Столь категоричный ответ, когда аргументы даже не выслушивались, я слышала от него в первый раз. Нужна была новая тактика. Конечно, они могли бы там спокойно обойтись без меня, но мне надо было попасть к подножью К2, и это был мой шанс.
Мне необходимо составить детальный стратегический план действий, и еще мне нужен союзник. Последующие два часа я сижу над обдумыванием и составлением подробнейшего описания моих дальнейших действий, где учтены в пунктах и подпунктах все, как мне кажется, мельчайшие детали. Здесь, в этом плане, все направлено на решение проблемы Якова и на то, чтобы мне оказаться у К2.
С союзником сложнее. Да, выбор у меня не богатый. Бабушка встанет в строй противоположного лагеря, если узнает. Поэтому ее надо изолировать, особенно от Ларса. Ренате про меня расскажет Ларсу. Дани исчез, да я ему и не нужна вовсе. Есть еще пара университетских приятелей, но они так далеки от меня, да и посвящать их в мои дела нет никакого желания. Остается только Рико. Субтильный, весь в музыке и литературных идеалах, Рико меньше всего подходил к мною уготовленной ему роли. Но у него был неоценимый плюс: он был верный, проверенный друг, способный меня понять и всегда готовый поддержать.
Итак, переходим к осуществлению плана. Главных пунктов шесть.
Пункт первый в целом уже выполнен. Отчет по анализу данных, оставленных Яковом, готов. Можно, конечно, еще больше усилить необходимость дополнительных измерений на месте и незамедлительный их анализ. Убрать остальные возможные решения. На доведение пункта один до кондиции у меня ушло примерно полтора часа. Ставим галочку.
Пункт два гласил: убедить Якова в том, что эту работу могу выполнить только я. В качестве аргумента может понадобиться диагноз, выданный реномированной клиникой, которым так гордилась моя мать: «сверходаренный ребенок с частично выраженным синдромом аутизма». Вопрос: как заполучить у нее эту справку? Это не так-то просто. Мать переселилась в какой-то свой мир, полный конспирации и готовности отражать атаки Криса или еще чьи-то. Я до сих пор не верю, что он появился на горизонте, но кто его знает, у меня нет ни малейшего желания встречаться с ним. Да и противоречить ее правилам, означало ее сердить и поэтому уменьшать вероятность получения нужной бумаги.
Все требования были соблюдены. Рико позвонил со своего телефона и спросил, как было условлено, не посидит ли она с его детьми и, если она согласна, пусть перезвонит сегодня в такое-то время. Когда она позвонила, я была готова к ее сопротивлению, но она сразу же согласилась. И не надо было никуда конспиративно ехать, поскольку документ можно прислать по почте. Мать ничего не спрашивала о детях, и я стала ей рассказывать сама. Она слушала молча. Я заподозрила, что пропала связь. Спросила:
– Алло. Ты слышишь меня?
Она ответила тотчас:
– Да-да. Я знаю, что детям хорошо живется.
И попрощалась. Слезы душили меня, не давая продохнуть. Рико, не проронив ни слова, сопереживая, гладил меня по голове. Через два дня на имя Рико пришло письмо без обратного адреса. В конверте лежала только справка, ненужность которой мне стала тут же очевидна, как, впрочем, и то, что я ее никогда в жизни никому не покажу.
Пункт три был посвящен тому, чтобы найти и изучить карты и описания местности, прилегающей к К2. Здесь неожиданно помогла Ренате. Увидев, что я рассматриваю карту Пакистана, она спросила:
– Зачем тебе это?
Не отрываясь от карты, я ответила:
– Это может показаться странным, но, когда я смотрю, где находится К2, я чувствую себя ближе к папе, который где-то там на этой горе. И мне хотелось бы знать о К2 как можно больше.
Она, как-то сжавшись вся, не стала меня расспрашивать, что показалось мне несколько удивительным, и очень тихо проронила:
– Мне это странным не кажется.
На следующий день принесла целую кипу и карт, и описаний маршрутов восхождений на К2.
– Вот, но только с возвратом.
Пункт четыре был самым трудоемким и затратным в денежном плане. Я должна научиться управлять вертолетом, не получить права, а научиться на нем летать. Это был очень важный пункт, хотя и на всякий случай. А случай мог даже очень возникнуть, если мне будет отказано в доставке на базовый лагерь альпинистов, я должна буду угнать вертолет. Фирма, обучающая на тренажерах вертолетов многих видов, нашлась без проблем. Самое главное – они не задавали никаких вопросов. Только плати. Стоило это очень дорого. Я взяла деньги из папиной шкатулки, трата которых была регламентирована «крайне экстренным случаем». Это и был суперэкстренный случай. Денег хватало только на первую часть курса. Я приступила к занятиям, постоянно думая, где взять деньги на вторую часть. Единственно возможным вариантом было попросить взаймы, но тогда последует обязательный вопрос, для чего они мне нужны. Я долго изобретала правдоподобную легенду и наконец рискнула попросить у Ренате. За деньгами я пришла к ней домой. Она сидела в летнем домашнем платье; через легкую ткань очерчивался беременный животик. У нее было приподнятое настроение. Ренате подала мне деньги, не задавая никаких вопросов.
– Я верну тебе их после лета. Надеюсь за лето что-нибудь заработать. В крайнем случае в конце года, с зарплаты.
Выполнением пятого пункта я рассчитывала не дать объединиться против меня Ларсу, бабушке и Якову. Для этого мне нужно было во что бы то ни стало увидеть Якова раньше, чем он встретится с Ларсом. На перехват Якова не потребовалось вообще никаких усилий.
В понедельник Ларс выглянул из своего офиса и махнул мне рукой, приглашая зайти:
– Я должен завтра вечером лететь в Стокгольм, там у нас Technical Board, на котором мне обязательно надо быть. У Якова поменялись планы. Он прилетает в эту среду. Меня здесь уже не будет. Встретишь его в аэропорту, привезешь на такси ко мне домой. Вот ключ от моей квартиры. Да сразу идеями то его не мучь. Отдохнуть дай. На следующий день тоже на такси за ним приедешь. Своди его пообедать куда-нибудь в приличный ресторан. У него доллары, ты плати. Думаю, пятьсот марок тебе хватит. Бери. Ишь ты какая. Если что-то останется, отдашь назад.
С Яковом мы встретились, как старые друзья. У Ларса дома сразу разложили все бумаги с моими расчетами и те данные, которые привез Яков. Время от времени я напоминала ему о необходимости моего присутствия на испытаниях. Сначала он терпел, а потом произнес, улыбнувшись:
– Ладно тебе со мной-то хитрить. Не в этом дело. Я понимаю, охота мир посмотреть, а здесь такая возможность. Я на твоем месте тоже копытом бы землю рыл. Но поработать там придется. Там все пилоты – асы. Опасность не велика. Но больно они все бравые парни. Может быть, ты кого-нибудь с собой возьмешь, так скажем, для личной охраны, а то ты шибко смазливая, внешность у тебя ненаучная.
Я не верила своим ушам. Вот так свезло, счастье само привалило. Рико постоянно мне твердил, что не может позволить ехать мне одной, что он поддерживает меня только потому, что мы поедем вместе. С Яковом мы проговорили до позднего вечера. Прощаясь, он сказал:
– Завтра приезжай с утра, ну, скажем, по вашему времени в девять. Это все оставь, если спать не буду, посмотрю еще. А Алине-старшей скажи, что я непременно к ней завтра вечером загляну. Сейчас поздно, на такси поезжай.
Я не послушалась и поехала на автобусе. Сидя у окна, смотрела на вечерний город, который и не думал засыпать, разноцветными огнями реклам зазывая принять участие в невозможности ночных безумств. И вдруг я увидела Криса, стоящего на остановке. Глаза его, горящие лихорадочным огнем, бегали по толпе, как будто кого-то искали. Он был неимоверно худ. Я быстро нагнулась, как бы поправляя туфель. И не знала, зашел он в мой автобус или нет. Через остановку мне надо была выходить. Я сидела до последнего момента, вскочила, когда дверь уже открылась, и побежала, не оглядываясь, не зная, идет он за мной или нет. Только добежав до подъезда, я оглянулась; никого не было видно и шагов тоже не было слышно. Но тревога, да просто страх остались. Бабушка с беспокойством смотрела на меня. Жаль ее волновать, но пришлось рассказать про Криса. Мне казалось, она тоже считала, что мать преувеличивает. Но мои слова ее разволновали; она вдруг испуганно прошептала:
– Боже, снова Крис.
Пытаюсь ее успокоить. Рассказываю про Якова и что завтра он к нам зайдет.
Приступаю к выполнению шестого последнего пункта, который заключается в том, чтобы уговорить бабушку отпустить меня в поездку. Рассказываю весело, что есть такая возможность съездить в южные края бесплатно, за счет фирмы, которая меня пригласила поработать на две недели. И все это с подачи Якова. Даже можно взять с собой кого-нибудь, например, Рико. Эта кандидатура нравится бабушке особенно. Но я не знаю, как я оставлю бабушку одну с детьми. Это бессовестно с моей стороны. Я там буду отдыхать, а бабушке одной будет тяжело. Теперь меня уже уговаривает бабушка. Она уверена, что я заслужила отдых. Фриди, без сомнений, ей поможет. Они поедут с детьми в пансионат к морю, и дети, как обычно, будут ходить там на три-четыре часа в детский сад, и все они прекрасно отдохнут. На этих условиях я соглашаюсь.
Наш самолет приземляется в Исламабаде. Перед выходом я надеваю поверх джинсов и футболки чадру, которую для меня в театре выпросил Рико. Она мне явно не по размеру: длинная и очень свободно, как мешок, болтается на мне. Подол ее постоянно приходится приподнимать, чтобы не наступить на его край. От этого я сама себе кажусь кисейной барышней. Вдобавок еще и руки у меня заняты. Выглядит так, что в этом одеянии я полностью зависима от Рико. Когда мы проходим паспортный контроль и таможню, я отвечаю на все вопросы, поскольку лучше владею английским языком и в курсе дел. Но служащие смотрят на Рико, меня взглядом не удостаивают, уж о приветствии и говорить нечего.
Нас встречает Яков и не один, а с вооруженной охраной. Это очень мило с его стороны, поскольку нам в пути быть еще минимум полсуток. Яков давится от смеха, глядя на мой театр. Мы здороваемся с охраной за руку. Они по-американски дружески приветствуют Рико, мне же подают руку как бы нехотя. На базе нам с Рико выделили одну комнату на двоих. Спасибо хоть две кровати. По местному времени это была вторая половина ночи. К нам зашел Яков.
– Завтра первая половина дня вам на отсыпание и адаптацию, а со второй половины начнем работать.
Я же другого мнения:
– Ничего подобного, встаем вместе со всеми и после завтрака вылет. Вот сделаем дело и будем отсыпаться.
– Ты прямо железная леди. Хорошо, ты командир. Встречаемся через два часа и сорок пять минут за завтраком.
После завтрака мы с Рико получили обмундирование и через четверть часа я, Яков и Джой, летчик, управляющий вертолетом, были в воздухе. Яков, представив меня ему как шефа, сказал, что Джой должен выполнять все мои требования. Мы выбрали ущелье и начали производить замеры. На следующий день после полета Яков меня предупредил, что в конце этой недели он должен на пару дней уехать. Вечером, немного потренировав Рико, я представила его как моего ассистента, чем несказанно обрадовала Якова.
Прошла почти неделя. Мы с Рико и Джоем днем усердно трудились в воздухе, а вечером Яков и я сидели допоздна, анализируя полученные данные. Дискуссии доходили иногда до открытых баталий:
– Яков, ты снова уперся в этот алгоритм. Не работает он здесь. Надо на это посмотреть совсем в другом ракурсе.
– В твои годы я тоже думал, что я умнее всех. Но прежде чем старое порушить, надо новое создать.
– Но если только старое за основу брать, так никакого прогресса не будет, так и будем в пещерах сидеть.
В ответ дерзила я.
Рико же в это время занимался окультуриванием местного населения – давал концерты для обитателей базы.
Этим вечером Яков сказал, что он улетает на два дня завтра утром. Мы обсудили программу на время его отсутствия. Сердце у меня застучало. Вот он шанс. Наконец-то. Я еле дождалась, когда Яков уйдет. Надо было проложить нужный мне маршрут полета на карте. Я выбираю ближайшее ущелье, ведущее к К2. Мне оно понравилось тем, что в нем нет альпинистских базовых лагерей. Значит, там безлюдно и никто не помешает. Рико я только высокопарно изрекла:
– Я надеюсь, что завтрашний день будет для нашей миссии успешным и мы сможем наконец-то достичь поставленной цели.
Карту с новым маршрутом я подала Джою, когда мы были в воздухе. Он уже взял старое направление; глянув на карту, на какой-то момент даже растерялся. Покачав головой развернулся и полетел по нужной траектории, нехотя проронив:
– Над этим ущельем мы вообще-то стараемся не летать из-за повышенного риска. Там проходит у них наркотрафик в Европу. Контрабандисты могут принять наш вертолет за полицейский и обстрелять.
Я возразила, вспомнив слова Юргена: «В устах политиков демагогия – могучее оружие».
– Я надеюсь, мы не спасуем перед ними для достижения процветания наших стран.
Мы с Рико еще больше усердствовали в наших измерениях на новом маршруте.
И вот она перед нами гордая, пусть сколько угодно говорят, что покоренная, – нет, не покорившаяся в своем холодном величавом безмолвии, скалисто-ледяная гора. Неприступная, грозная, берущая жизни приглянувшихся ей людей, из числа явившихся без приглашения, желавших обуздать ее свободный нрав.
Я объясняю Джою, что он должен сесть несколько выше на плато. Нас с прибором высадить и лететь примерно тридцать миль назад по центру ущелья. Потом с той же скоростью вернуться за нами, сохраняя ту же траекторию полета.
Мы настраиваем приборы. Я вручаю Рико кинокамеру, предупреждаю, что он должен снимать, что бы ни случилось, и ни во что не вмешиваться. Достаю Тедди. С Тедди в руках сначала спускаюсь с плато в небольшую ложбинку, а затем поднимаюсь по склону горы до другого, более высокого, небольшого непосредственно перед стеной, плоско лежащего камня в виде плиты, скошенной вниз по направлению к горе. Я встаю на его середину. Леденящее безмолвие, цепко держащее в повиновении весь мир, охватывает и меня, но я вырываюсь из этой леденящей хватки и кричу:
– Папа, я пришла – Алина. Я принесла тебе твоего Тедди. Ты хотел меня увидеть.
И снова безмолвие. Через некоторое время гора отвечает мне эхом и гулом сорвавшихся падающих камней. Я вижу, как одна громадная каменная глыба спешит, несется, катится с высоты прямо на меня, но в полуметре от меня останавливается, неустойчиво покачиваясь. Я могу дотянуться до нее рукой и знаю, что папа где-то здесь. Я ощущаю его присутствие. Я не ощущаю папу физически материально, но я ощущаю то, что жило в его душе. А эта холодная каменная глыба – материализованный знак папиного присутствия мне. Я сажусь на плиту и беседую с папой, сообщаю, что письмо получила, рассказываю, как я жила и как живу теперь, про то, как я собираюсь жить дальше, про детей, про бабушку. Потом мы молчим некоторое время. Я чувствую, что аудиенция подошла к концу. Встаю. Целую Тедди, кладу его туда, где только что сидела сама. Подхожу к холодному камню и обнимаю его. Чувствую, как он дрожит под моими руками, целую холодный шершавый гранит. Эти мои чувства папа возьмет с него. Я знаю это. Только не знаю, откуда я это знаю. Камень качается в ответ с увеличивающейся амплитудой. Спускаюсь в ложбину. Оглядываюсь и вижу, как Тедди исчезает под глыбой, аккуратно ложащейся на него. Поспешно взбегаю на плато к Рико, поскольку слышу близкий шум винта, понимаю, что у Джоя какие-то проблемы.
Схватив приборы, мы несемся к садящемуся вертолету. Из открывшейся двери появляется лестница. Мы, что есть сил, быстро карабкаемся по ней в машину. Джой лежит на полу. Показывает мне на кресло пилота и слабым голосом командует:
– Штурвал на себя, курбель слева во втором ряду и второй справа в первом. Скорее.
Рву штурвал, что есть мочи. Мы резко взмываем вверх. В голове мелькнуло: «Какое счастье, что я курс посещала и наблюдала, как Джой управляет вертолетом». В лобовое стекло вижу внизу людей с какими-то палками, направленными на нас, из которых вылетает огонь. Ухожу вправо. Лопасть винта слегка чиркает скалу отрицаловкой нависшей над нами. А сейчас влево и как можно выше и быстрее отсюда. Слышу рев камнепада. Один камень рикошетом ударяет в нас. Удар сильный. Лбом стукаюсь о приборную доску и еще обо что-то. Люди внизу бегут, но каменный град настигает их. Мне их очень жаль, они могут сейчас погибнуть.
Вертолет, набирая скорость, летит вдоль ущелья. Слышу нарастающий свист и поток холодного воздуха, врывающегося в появившиеся под ногами отверстия в полу. Пот со лба льется ручьем и капает на приборную доску. Но почему он красный? До меня вдруг доходит. Джой ранен. Нам лететь больше часа. Он может потерять слишком много крови.
– Рико, осмотри Джоя. Ему необходимо наложить тугую повязку выше раны. Посмотри, там над тобой справа аптечка. Положи ему под голову свою куртку, а моей закрой. Пои его водой.
Вертолет начинает дребезжать. Джой сквозь стон кричит:
– Уходи вверх и на левую педаль. Иначе машина попадет в завихрения и ее стукнет о стену ущелья или она начнет падать.
Вот она причина. Воздушные завихрения, которые входят в какие-то моменты в резонанс друг с другом в интерференционно-дифракционном поле воздушной среды и в минимуме лишают летательный аппарат подъемной силы или швыряют его на стену ущелья по касательной.
– Рико, включай приборы и проводи измерения. Джой, ты можешь еще говорить? Нам надо связаться с базой. Необходимо подстраховаться. Вдруг ты сознание потеряешь, а нам еще садиться, да и врачи чтобы наготове были.
Под команды диспетчера на полностью расчищенной для нас посадочной площадке наша машина относительно плавно приземляется. Медицинская бригада спускает Джоя.
– Рико, нам необходимо все приборы отнести в лабораторию.
Рико смотрит на меня, в его глазах ужас. Он не может говорить. Он жестом показывает окружающим на меня. Вокруг меня тоже начинают суетиться. Я сопротивляюсь. Мне надо срочно в лабораторию. Но меня тащат в медицинскую машину. Успеваю заглянуть в ее боковое зеркало. Вместо лица вижу кровавое месиво. Это действует.
После того как в медпункте мое лицо помыли, выяснилось, что на самом деле все у меня обстоит намного лучше, чем казалось. Всего-то шишак на лбу, кровоподтек под глазом и ранки на коже головы чуть выше лба в нескольких местах, которые и были причиной такого обильного кровопускания.
Рядовое население базы относится к нам в связи с последними событиями с сочувствием и уважением, зато начальство старается не смотреть в нашу сторону. Все ждут возвращения генерала. Мы же с Рико не испытываем никаких волнений по этому поводу. Но где-то подкорка сигнализирует, что это спокойствие от недопонимания ситуации.
После обеда я засела в лаборатории. Надо было проанализировать данные, найти подтверждение сегодняшней догадке. К полуночи основная работа была сделана. Совсем немного все же осталось на утро. Не успела, поскольку мне надо было поговорить с Рико, чтобы он не болтнул лишнего. Нас завтра определенно будут допрашивать о случившемся. Еще в самом начале Яков мне четко дал понять, что здесь прослушиваются и просматриваются все помещения вплоть до туалетов. Одна была надежда, что Рико помнит наши детские игры с тайными жестами.
Еще из лаборатории я позвонила в медсанчасть, справилась о Джое. Недавно закончившаяся операция прошла успешно. В левой ноге и правой руке осколки прошили только мышцу, а в правой ноге задели и кость. Похвалили, что вовремя и правильно наложили кровоостанавливающие жгуты. Я начинаю рассказывать об этом Рико, и, как бы вспоминая, что было, мы обговариваем наши позиции. Упоминание о папе должно отсутствовать, как и то, что я еще раньше научилась мало-мальски управлять вертолетом.
Я проснулась еще задолго до побудки, с пониманием того, что головомойки не избежать. Ладно если только мозги промоют, хоть бы голову не оторвали. Они ребята лихие: в кандалы и в тюрьму. Главное, чтобы не досталось Джою и Якову. Для них это может иметь серьезные последствия.
За два часа до завтрака я уже в лаборатории. Здесь и находит меня Яков. Глядя на мой внешний вид, качает головой. Начинаю рассказывать, что я поняла, нашла причину потери управляемости и падения дрона здесь, в горах, и знаю, как это устранить. А он, абсолютно не слыша, что я ему говорю, взывает к моему разуму, что я должна подумать, что буду говорить генералу, поскольку каждое произнесенное слово может иметь последствия. Я не могу его остановить, а мне надо, чтобы он услышал меня и выслушал. И поэтому я ору, изображая фельдфебеля на плацу:
– Рядовой Яков, слушай, что я тебе говорю.
От неожиданности и удивления он замирает, замолкнув. Я же, воспользовавшись этой паузой, начинаю громким голосом рассказывать о взаимодействии интерференционно-дифракционных решеток в различных потоках с определенными параметрами и их резонансе, постоянно апеллируя к расчетам в моем отчете.
– Резонируют составляющие уравнений третьего порядка. Глянь сюда, при этих условиях они в разы перекрывает члены низших порядков.
Яков кивает и говорит:
– Чего ты так кричишь. Я все понял. Пошли.
Мы идем к генералу. У Якова к нему явное почтение, у меня никакого. Генерал, едва глянув на меня, приказал:
– Докладывай.
Ни здравствуйте, ни садитесь. Начинаю с постановки задачи и о решении, которое найдено. Аргументирую, почему было необходимо выбрать именно это ущелье. Вся моя речь отнюдь не экспромт. Может, генерал и Яков так думают, но это плод полубессонной ночи. Потом я рассказываю о героизме Джоя и говорю:
– Если вам необходимо его наказать, то лишь за то, что он, рискуя своей жизнью, спас нас.
– Ты видела нападавших?
– Я их очень хорошо видела через лобовое стекло вертолета.
– Сколько их было?
– Я думаю, чуть больше полусотни.
– Молодец, правильно оценила. Их было 54. Из какого оружия они вели огонь?
– У них были такие длинные цилиндрические палки с наконечниками. Они держали их на плечах. Вот ими-то они по нам и стреляли. Нас спасло, что их засыпало камнепадом.
Генерал как-то сжимается и весь конвульсивно вздрагивает. Мне кажется, что ему стало нехорошо и срочно нужен врач, а он начинает вдруг хохотать во все генеральское горло. Он пытается что-то сказать и не может. Наконец, пересилив себя, обращается к Якову:
– Ты тоже считаешь, что она решила задачу?
– Нет, я не одна, а с помощью Джоя и Рико.
– Яков, может, нам этот детский сад на КиссЮ отправить, если они тебе здесь больше уже не нужны?
Я не знаю, что такое КиссЮ, но очень надеюсь, что это не тюрьма.
– Да можно. Я только одного понять не могу, что могло вдруг спровоцировать такой камнепад. Не мог же он вдруг сам ни с того ни с сего в нужный момент и в нужном месте начаться.
Оба смотрят на меня. Я, не подумав, леплю:
– Нет, конечно, это…
И тут же поперхнулась, не могу же я им сказать, что это папа мне помог, меня направил и начинаю выкручиваться:
– Это если достаточно близко к скале подлететь. Нечаянно так получилось.
Оба смотрят на меня, потом друг на друга, потом снова на меня.
Мы выходим. Вижу, что Яков спокоен. Значит, пронесло. И здесь действует закон – победителей не судят.
После завтрака мне надо в медсанчасть. У меня там два дела: врач хотел еще раз посмотреть мои раны на голове во время смены повязки и главное – навестить Джоя. Предварительно справляюсь у дежурного медбрата о состоянии дел у раненого. Все внутри ликует: рефлекс есть и на правой ноге тоже. Джой лежит под капельницей. Одна нога и рука у него перебинтованы. Вторая нога, обутая в какую-то коробку, подвешена. Ему неудобно, что я вижу его в таком положении, но он все равно рад. Я благодарю его за наше спасение. Рассказываю, что мы нашли решение и сегодня после обеда уезжаем. Потом рассказываю, что у меня двое детей и мы все четверо дружная семья. Четвертого я не называю. Вижу, что эта информация расстроила Джоя. Я наклоняюсь и целую его.
– Алина, я тебя никогда не забуду.
– Джой, я тебя тоже. Спасибо еще раз. Я желаю тебе всего самого хорошего в жизни. Прощай.
Яков сопровождает нас до Скарди. Вертолет, на котором мы летим, значительно солиднее нашего лабораторного. Сдавая нас на руки молодому человеку, прощаясь, Яков говорит:
– Скоро увидимся. Тони довезет вас до КиссЮ. Там вы дождетесь меня. Я появлюсь примерно через три-четыре дня, и мы вместе полетим в Европу. Алина, я очень прошу тебя, только, пожалуйста, без фокусов.
Тони нас воспринимает, как будто мы два до неприличия потертых чемодана, которые хочешь не хочешь, а тащить надо. При этом лучше держаться так, чтобы никто не догадался, что они твои. Понять его можно. Сам он одет с иголочки, весь вылизан до блеска. Мы же с Рико образуем колоритную группу контраста на его фоне. Наши старенькие джинсы и линялые футболки органично дополняет фингал у меня под глазом, окрашенный багрово-красным цветом, шишка на лбу торчит, как рог, и еще перебинтованная голова. Вдобавок сползающие с нас джинсы, которые приходится постоянно поддергивать. Проблема в том, что мы никак не могли приспособиться к местному рациону, состоявшему в основном из мясных продуктов, а мясо ни я, ни Рико практически не едим. Мы оба и так не отличались могучим телосложением, но теперь выглядели, как два крепыша из дистрофического отделения. У нас была пара пересадок, и каждый раз мы летели в бизнес-классе, где приводили в некоторое замешательство стюардов нашим живописным внешним видом. От Сингапура мы продолжили путь на корабле, с которого мы, я и Рико, через несколько часов высадились под завистливым взглядом Тони в лодку, доставившую нас на атолл КиссЮ.
Встреча была такой, как будто только нас здесь и ждали всю жизнь. Мы, конечно же, понимали, что это счастье от встречи с нами, тоже являлось частью сервиса, но определенное настроение все равно такой прием создавал. В отеле нас усадили в удобные кресла в уютном прохладном помещении хижины, сделанной из тростника. Предложили прохладительные напитки, пока сервировали нам стол. Все было – высший пилотаж. Ни я, ни Рико ничего подобного в своей жизни не только не испытывали раньше, но даже не догадывались о подобном уровне сервиса. После еды нам сказали, что мы можем отдохнуть, если хотим, так как наша комната готова. Наши вещи уже там. На этот раз у нас была не только одна комната на двоих, но и одна, хоть и громадная, кровать, которая занимала почти половину комнаты. Во второй ее части находился маленький бассейн, заполненный водой и сверху усыпанный лепестками цветов.
Сработала привычка недельной жизни в одной комнате без условностей и обуявшая нас эйфория. Мы оба тут же разделись и с благоговением абсолютно голые устроились в бассейне. Потом, лежа на кровати, вдыхая ароматы благовоний, которые дымились по обе стороны ее в чашах, подогреваемых снизу горящими фитилями, державшись за руки, мы находились в состоянии полусна. Мне, полностью расслабившейся и наслаждающейся этими моментами райской жизни, казалось, я парю над действительностью, над событиями этих дней. Вдруг с периферии еще не вошедшей в транс части мозга пробилась простенькая мыслишка, что этого мгновения могло и не быть, как и всех последующих. Я вдруг осознала, что мы буквально висели на волоске от гибели. Мне стало ужасно страшно, когда я представила, что бабушка осталась бы одна с детьми, а Фриди никогда бы мне не простил, даже мертвой, что из-за меня погиб его любимый внук. А как бы страдали бабушка, Ларс, Яков, Юрген, Марта. Слезы у меня полились градом и я начала всхлипывать. Повернувшись к Рико, я увидела, что он ревет тоже. Мой друг, которого я подвергла такой опасности, мой друг, готовый поддерживать меня, не сомневаясь ни на секунду, не раздумывая, показался мне таким близким, таким родным. Как я могла им так рисковать? И в эту минуту не было в мире ближе и роднее никого. Мы с ним обнялись, крепко прижались друг к другу и стали друг друга целовать. Как и почему это произошло, я не могу ответить сама себе. Сознание было выключено. Было ли это обоюдное желание друг друга, которое прошло мимо наших голов, я не могу этого вспомнить. Но когда это произошло, мне вдруг стало так нехорошо и так отвратительно. Я стала скидывать с себя Рико, но он был весь в этой необузданной страсти, где участвовали только наши тела. Он никак не мог унять это ненасытное желание. Это невозможно было остановить. Я увидела его помутневшие полузакрытые глаза, которые мне напомнили Криса. Я собрала все силы и оттолкнула его, встала и вынесла чашки с благовониями на террасу.
Подавленные, обессиленные, голые, мы лежали на этой чужой кровати в этой чужой стране и думали о том, что сейчас каждый из нас предал не только кого-то того единственного, но и себя, но и нашу дружбу. Стало ужасно горько. Было стыдно смотреть друг другу в глаза. Потихоньку и эти эмоции улеглись тоже. Пришло спокойствие, погрузившее нас в сон. Когда мы проснулись, мы пообещали друг другу никогда не вспоминать о том, что произошло вчера, и мы простили друг друга, и поклялись, что это не повлияет никак на нашу дружбу, – мы останемся на всю жизнь верными и преданными друзьями. Но что-то в моем отношении к Рико порвалось. Это, наверное, зарастет, но о шрам этот я всегда буду спотыкаться. И неважно, что в произошедшем была, наверное, виновата больше я, чем он.
Три дня мы носились по острову, как очумелые. Плавали, загорали, лазили по деревьям, пробуя различные фрукты, которые удавалось сорвать с деревьев. Устав до изнеможения, мы плелись в гостиницу, где нам были опять несказанно рады, и вся процедура повторялась, кроме финальной части. Мы знали теперь, как с этим бороться: первое, что мы делали, придя в комнату, выносили эти чаши с зельем на террасу.
На четвертый день приехал Яков. Привез нам письмо от Джоя. У него дела шли успешно по пути выздоровления. В ближайшие дни он уже полетит в Штаты для дальнейшего долечивания, а затем в реабилитационную клинику. Мы тут же написали ему ответное письмо, где опять благодарили его за наше спасение, заверили его в нашей вечной дружбе с ним и пожелали полного выздоровления.
Последующие три дня я и Яков сидели в холле гостиницы до обеда над расчетами, а остаток дня все втроем бродили по острову. Но мысль, начав работать, уже не прекращала свою деятельность и время от времени, прервав созерцание местных красот, мы с Яковом начинали дискутировать и останавливались, рисуя на песке схемы систем сенсоров и программы для их обратной связи.
В какой-то момент я поймала на себе взгляд Якова. В нем была и грусть, и тоска, и отчаяние, и на губах усмешка. Его взгляд, поток его таких сложных эмоций, вывели меня из внутреннего равновесия. Сидя в нашей комнате перед ужином, ожидая, когда Рико освободит туалетную комнату, я подумала, что, может, Якову посоветовать убрать вазу с ароматами из его номера. Но он же не Рико и не Джой. Сам большой, вернее старый, разберется.
Это был наш последний ужин здесь. На следующий день после обеда мы уезжали. Мы кончили есть, нам принесли какой-то необыкновенно вкусный напиток. Яков тепло произнес:
– Итак, друзья мои, сегодня у нас с вами прощальный ужин. Алина, мы должны с тобой еще сегодня посидеть часа полтора-два, подвести итог, чтобы завтра быть свободными. А сейчас я хочу вам передать привет от генерала.
Он протянул нам по кожаной красивой папке с вложенным в нее листом лощеной бумаги, на котором на фоне гербовых знаков и под американским флагом был напечатан текст. В карман, на одной из сторон папки, был вложен конверт. Я пробежала глазами то, что было написано на листе. Содержание меня несколько озадачило.
– Яков, это же не мы способствовали уничтожению вражеских сил. Это камнепад способствовал американской армии. А мне-то их даже жалко было.
Яков смеется:
– Видишь ли, у генерала в распоряжении есть такая статья расходов. Определенная работа по уничтожению неприятеля была выполнена при вашем соучастии. Летели же вы на вертолете, который обстреливался. В конверте чек на десять тысяч долларов. А еще, Алина, тебе от генерала персональный подарок на память.
Он протянул мне фотоальбом, где на обложке было размашисто написано: «Спасибо за смех». В альбоме были фотографии без подписей, да они и не требовались. Фотографии были просто классные. Джой за управлением вертолета, он же, когда медицинская бригада спускает его по трапу, он же в больнице после операции. Рико дает концерт, делает измерения, он же перепуганный у вертолета. Я в разных ипостасях: и за измерениями, и за пультом вертолета, я вылезаю из вертолета с жутко побитой физиономией, мы с Яковом сидим напротив друг друга, нахохлившись, как два петуха. Но самое последнее фото вышибает у меня слезу. Я маленькая, хрупкая, сиюминутная стою на фоне величественной, почти вечной К2. По ракурсу вижу, что фото могло быть сделано только из вертолета, находящегося на плато.
– Яков, кто сделал альбом?
– Да генерал и сделал. Разного фотоматериала у него более чем достаточно.
Через полчаса, как условились, стучу в номер к Якову. Он открывает дверь; на губах опять та же усмешка. У него в номере все иначе. Большой письменный стол, узкая кровать, ни бассейна, ни чаш с благовониями.
– Ты что такая нахохлившаяся? Понимаю, по острову хочется побегать, а тут навязшую на зубах работу делать надо. Прочти для начала очень внимательно это. Нет ли здесь каких-нибудь ляпов или артефактов. Все ли, по сути, правильно написано.
Я пытаюсь углубиться в чтение. Он некоторое время смотрит на меня, мешая мне сосредоточиться. Я не рискую поднять на него глаза, боюсь встретить его взгляд. Потом он смотрит тоже в какие-то бумаги. Через три четверти часа я готова. У меня претензии к двум позициям и трем формулировкам. Пишу мои замечания. Пододвигаю их к Якову.
– Ты поняла, что за документ ты читала?
– Ну да. Это патент.
– Ты стоишь первым автором и поэтому должна определить процентную долю участников, как ты считаешь. Имей в виду, не сейчас, но лет через десять это могут оказаться большие деньги.
Мне стало ужасно тоскливо.
– А ты не можешь сам написать?
– Если ты так ставишь вопрос, хорошо, тебе 95 процентов, а мне 5.
– Ты что, совсем? Хотя бы 50 на 50.
– Ты меня за последнего нахала держишь? Мое окончательное слово 75 и 25. Будем считать, договорились. Переходим к следующему вопросу. Не хотела бы ты поработать в очень престижной фирме в районе Лос-Анджелеса. Я бы взял тебя в мой отдел на очень хорошую позицию вместе с твоей тематикой.
Я стала лихорадочно соображать, как бы смягчить мое категоричное «нет». Он неправильно истолковал мою заминку и стал говорить о возможностях роста, о хорошей зарплате и о прекрасных условиях работы.
– Понимаешь, у меня ведь на руках двое детей. Дети от маминого второго мужа, он умер, а мама больна, поэтому они у нас с бабушкой живут. Я не могу от них всех уехать. И не хочу.
– Сколько тебе лет?
– Восемнадцать.
Он молча смотрит на меня все тем же взглядом, от грусти которого все внутри щемит и хочется убежать. Я думаю, папе было бы сейчас 43, но он тоже перепрыгивал через классы. А этому не меньше 45, это уж точно, боже, неужели и в старости можно еще влюбляться. Яков встает и говорит:
– Нет, так нет. Давай сейчас и попрощаемся.
Он обнимает меня и целует выше повязки в волосы, его руки слегка дрожат.
– Ах, Алина, Алина, я всю жизнь мечтал, чтобы со мной рядом вот такая, как ты, была. Не та красивая и умная, какой ты приехала сюда, а вот такая, с подбитым глазом, которая все без слов понимает. Найти то нашел, да время мое ушло. Ты знаешь, мне генерал сказал, что Джой свою награду получит, но герой – ты, хотя с виду такая пичужка.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу