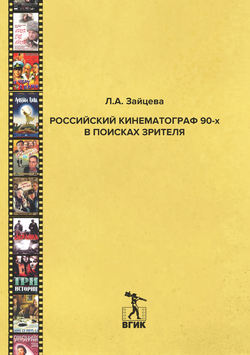Читать книгу Российский кинематограф 90-х в поисках зрителя - Л. А. Зайцева - Страница 2
О чём говорит экран 90-х
ОглавлениеСистемный кризис в кинематографе начала 90-х возник как следствие множества негативных явлений, обрушившихся на россиян, прошедших годы «перестройки», оказавшихся перед фактом распада СССР… И если извлечь из забвения названия картин хотя бы одного только 1991-го года, то окажется, что практически все они достаточно точно отразили отчаянное состояние, напряжённую обстановку, безысходность смутного времени. Поражаясь однообразию тональности киносюжетов, не могу отделаться от мысли, что именно они составили своего рода духовный портрет времени. Казалось, зритель мог захлебнуться от обилия фильмов. При этом, что ещё более удивительно, – фильмов современной тематики. О нашей жизни тех лет, увиденной глазами множества неведомых авторов, часто не имевших специального образования не только в области искусства кино, а даже и навыка, в принципе, позволявшего взять в руки съёмочную камеру… Сотни, несколько сотен (официально зафиксировано больше трёхсот) в год (История отечественного кино. М.: Прогресс-триада, 2005, с. 461). Однако, нельзя упускать из внимания, что это едва ли не главное из обстоятельств, определивших уровень массовой кинопродукции 90-х.
Названия, правда, кое-как можно разыскать. Отдельные энтузиасты-киноведы пытались составить справочники: проектов, съёмочных групп, картин – «однодневок». Их великое множество. Кризис кинопроизводства открыл дорогу, в основном, энтузиастам… с деньгами…
И эта, казалось бы, внекинематографическая «подробность» едва ли не прежде всего характеризует кинопроцесс десятилетия. Её нельзя упускать из вида как своего рода базовую по отношению к условиям кинопроизводства в 90-е. Годы спустя профессионалы назвали поток подобных картин «кино за три копейки» (ТV, А. Панкратов-Чёрный и др.), поскольку чаще речь шла не только о затратах на производство фильма, а главное – об огромных «откатах» при оформлении таких добровольных взносов.
Из того, что сохранилось и может быть расценено как отражение неоднозначной ситуации на экране, легко составить разноплановую картину репертуара. И всё же, при некотором отборе однотипных замыслов, при схожих уровнях их реализации, перед нами остаётся довольно характерный перечень фильмов, воплотивших, прежде всего, облик 90-х, единодушно названных «лихими». А на характерном лице экрана всё-таки проступит, пусть не сводимый к единому, отсвет социально-растревоженного времени.
Почему же 90-е имеет смысл рассматривать как отдельный период?
Прежде всего, именно его «границы» вмещают колоссальные социальные сдвиги в жизни российского общества, их отражение зримо обозначилось на всех уровнях существования человека.
С самого начала десятилетия, в 1991-м году – распад СССР, череда противостояний субъектов «нерушимого»… Эти процессы сказались на всех сферах. Затронули, конечно же, и кинематограф. Он ведь был своего рода барометром, чутко реагирующим на малейшие колебания в жизни социума. Каких бы тем, проблем ни коснулся отечественный экран, анализ и комментарии исходили от автора – человека сегодняшнего дня…
Ситуация в киноотрасли не могла не сказаться на художественном уровне произведений. В фильмах тех лет отчётливо виден переломный характер экранной речевой основы.
Если до 90-х шёл поиск новых художественных решений (то есть, фильм двигался в направлении искусства экранного авторского «слова») на основе кинокультуры, сложившейся на прежних этапах, то теперь агрессивно проступает отказ от них. А в большинстве случаев элементарное незнание об их существовании.
Тогда что же взамен? Ведь «безъязыкая» система общения с аудиторией существовать, а тем более развиваться, не способна. И наш кинематограф (с чем не поспоришь) оказался именно в такой ситуации.
Самоустранение автора так называемого нового кино стало точкой отсчёта в процессе изменения устойчивой модели киноречи, своего рода мифологической системы (или идеологемы прежних этапов). Да что там! Она рухнула буквально в одночасье, как в 1990-м бетонная стена, разделившая когда-то Германию на две идеологически несовместные части… И отказ от прежней идеологемы стал характерным знаком наступившего периода.
Однако с годами становится очевидным, что далеко не всё уже в те годы оказалось безвозвратно исчезнувшим.
Наряду с колоссальными потерями не только держались «на плаву», но и отражали внушительный, яркий образ наступившего беспредела, пусть немногие, однако весьма достойные произведения. Как бы исподволь, в облике сегодняшнего дня, в отражении подробностей меняющейся жизни на экране возникли отдельные штрихи, говорящие о стремлении отыскать основы новой киномифологии.
На протяжении практически всех 90-х ряд фильмов (уже известных из «оттепели» мастеров и немногих из начинающих) всё-таки продолжали наследовать язык выразительной киноречи, что не позволяло совсем уж пропасть диалогу экрана со зрителем.
О чём же говорит экран 90-х?
Начало периода обозначило состояние неустойчивости, некоего опасения, страха перед наступающим временем, какое-то магическое напряжение ожидания, предчувствия катастрофы. С убеждающей доходчивостью оно отразилось в таких картинах, как «Авария – дочь мента» (1989, реж. М. Туманишвили), «Беспредел» (1989, реж. И. Гостев), «Идеальное преступление» (1989, реж. И. Вознесенский), «Казённый дом» (1990, реж. А. Мкртчян), «Семья вурдалаков» (1990, реж. И. Шавлак, Г. Климов).
Даже в таком, как «Пиры Валтасара, или Ночь со Сталиным» (1989, реж. Ю. Кара). Перечень можно продолжить, что лишь усилит впечатление.
Легко понять: обилию хлынувшей «чернухи» прежде всего способствовали события реальной жизни.
В начале 90-х (распад СССР) страна пережила самые значительные перемены, что повлияло не только на массовое, но и на художественное сознание. В первую очередь, конечно же, на художественное сознание. Именно это в системе абсолютно неожиданных, казалось бы, превращений нашло отражение на экране.
Примером вполне могут стать названные фильмы. Они задали воссозданию происходящего в реальной жизни тревожный, мрачный, практически беспросветный настрой. И это состояние постепенно становится всё более однозначной характеристикой этапа. Давшего, в частности, имя одному из сборников бесед с кинематографистами – «Кино эпохи перемен» (Студенческий сборник. М.: ВГИК, 2004 г.). Нейтральное на первый взгляд, оно на самом деле повторяет древнюю восточную мудрость, грозящую каждому, кому судьба назначила жить в подобное время…
Перечисление социальных катастроф, пережитых Россией за десятилетие 90-х, сегодня легко найти во многих исследованиях, учебниках, публицистических статьях. На отечественные экраны эта пора мощным потоком двинула «негатив», в атмосферу которого оказался погружённым обычный человек.
Характерно, что из фильма исчезает традиционный для нашего кинематографа образ героя. Человека «социума» – деятельного, ищущего, видящего перед собой цель. Даже от «антигероя» 80-х новый персонаж принципиально отличается: пассивно-созерцательным равнодушием ко всему. Тот, в 80-е, всё-таки протестовал… Безвольное наблюдение за происходящим превращает его теперь в жертву – злых сил, негативной энергии, как бы разлитой вокруг…
Так преображается центральное звено характерной для нашего кинематографа системы.
Если обратиться к фильмам добротных профессионалов, мастеров талантливых, всегда авторски анализирующих действительность и теперь не уходящих от перемен в жизни общества, то становится только ещё более очевидно, что состояние панического страха перед агрессивно наступающим беспределом – самое характерное явление для кинематографа начала 90-х.
К подобным надо, конечно же, отнести ленту «Астенический синдром» (1991, реж. К. Муратова). Картина ошеломляюще воздействует жёсткостью анализа духовного состояния человека, оказавшегося в условиях наступившей жизни.
Интеллектуального, деятельного героя К. Муратова погружает в обыденную среду. И эта нехитрая сюжетная конструкция обнаруживает его неспособность нормально существовать (на эмоционально-психологическом уровне) в данных обстоятельствах и в подобном окружении.
Умение К. Муратовой соотнести состояние ведущих персонажей с бытовым реальным окружением человека уже в 70–80-е годы выделяло её кинематограф из череды многих своеобразных художественных решений. Теперь, картина «Астенический синдром» выявила прежде всего характер времени, его воздействие на личность современника.
Своего рода растерянность, утрата жизненных и нравственных опор характерны также для персонажей фильма С. Соловьёва «Чёрная роза – эмблема печали, красная роза – эмблема любви» (1989). Экран отразил самочувствие молодого героя, оказавшегося в обстоятельствах наступившего времени. И если «Асса» (1987) заканчивалась единением, надеждой молодых, собравшихся на огромном стадионе, то «…Роза…», напротив, поражает тесными интерьерами, узкими коридорами, плотно заставленными уголками, из которых, похоже, нет выхода. Хотя и спасения укрывшемуся в них человеку они не приносят.
Этот образ стеснённого, замкнутого пространства окажется авторским словом множества фильмов, характеризующих 90-е. Ограниченные площадки интерьеров, а затем и бесконечные свалки, помойки, ставшие примелькавшимся придорожным пейзажем, постепенно вытесняют бескрайность дорог на экране времени оттепели. Повторяясь во многих фильмах, они по-своему претендуют на роль ещё одного слагаемого, если говорить о процессе зарождения новой мифологической основы повествования в кино.
Что имеет в виду подобная символика принципиально изменившегося образа пространства, характерная на этом этапе для картин ведущих мастеров, знаковых для поколения времени «оттепели»? И хотя ответ лежит, скорее всего, за пределами киноведения, экран начала 90-х предлагает зрителю самостоятельно решать эти и подобные вопросы. А их всё отчётливей формулирует кинематограф, рассматривающий поведение человека.
В частности, речь идёт об обострённо-конфликтных отношениях. Так, фильм А. Рогожкина «Караул» (1989–1990) тоже рассматривает человека в условиях максимально замкнутого пространства. Буквально замкнутого. Именно в том смысле, что регламент военной службы резко и однозначно ограничивает круг (места событий, времени, партнёров) возможного выявления личности человека.
Такой анализ личности в вакууме «самопроявления» оказывается, по А. Рогожкину, адекватен тем условиям, в которых как бы из тёмных углов человеческой психики мощно выплёскивается потенциал негатива, многократно умноженный за счёт отсутствия каких бы то ни было сдерживающих факторов.
То есть, здесь не идет речь о нравственности. Будучи одногодками и лишь волей случая поставленные в неравные условия по отношению друг к другу, парни (конвоиры и зэки) ведут себя так, что у зрителя возникает некое подобие «модели» общественного устройства, в котором действительно – и законно – царит беспредел…
Да к тому же ещё и отсутствие выбора – выхода, дороги, когда-то открытой молодому герою оттепели… Её даже не пытается искать персонаж экрана 90-х.
Подобное же, по существу, впечатление оставляет и происходящее в фильме А. Балабанова «Груз-200» (2007).
А. Рогожкин и А. Балабанов, мастера, в сущности, одного поколения, очень активно в этот период осваивают действительность как материал, требующий беспристрастного авторского анализа и бескомпромиссных оценок. Однако, если А. Рогожкин более основательно пробует разобраться при этом с возможностями собственно кинематографа, разных способов анализа действительности за счёт сюжетного, жанрового своеобразия, способов реализации художественного образа среды экранного действия, что более отчётливо проявится в его следующих картинах («Блокпост», 1998, «Кукушка», 2002…), то для А. Балабанова более характерна по-своему изысканная однонаправленность обличающей тональности, мастерский анализ подробностей с точки зрения негативного восприятия действительности. Этим рано ушедшим из жизни мастером резко и однозначно рассказано о катастрофической «эпохе перемен», в которую ему было отпущено судьбой реализовать в художественных образах своё личностное представление о действительности.
Ещё более жёсткие сюжеты, анализирующие сложившуюся ситуацию, приходятся на воссоздание подробностей войны. Видимо, для мастеров, которые обращаются к нравственным проблемам современного человека, более открытыми и максимально обострёнными условиями проявления характеристики наступившего времени оказываются именно такие обстоятельства.
В ряду подобных произведений отдельного разговора заслуживает картина «Дамский портной» (1990, реж. Л. Горовец).
Редкий случай для экрана 90-го, где речь идёт о событии времени Великой Отечественной войны, всего об одной из знаковых страниц её истории – трагедии Бабьего Яра, когда были уничтожены тысячи мирных граждан. Ничто не могло спасти этих бессмысленных жертв: от детей, только ещё начинающих жить, их матерей, впервые испытавших радость взросления собственного ребёнка, до мирно стареющих, никому не приносящих тревог, тихих от природы мастеров совсем негромкой профессии и как-то не ожидающих зла, враждебности от людей.
Почему же именно такой сюжет всплыл вдруг на экране 90-го? И. Смоктуновский в главной роли мудро и проникновенно рассказал о судьбе прожившего тихую жизнь человека, оказавшегося в плотном потоке таких же безвинных людей, покорно и почти не понимая своей участи, идущих к Бабьему Яру…
Может, по-своему некорректно рассматривать этот момент в истории кинематографа начала 90-х, столь отчётливо и однозначно совершившего разворот от традиционного для советского экрана киногероя к человеку потерянному, утратившему потребность выхода из замкнутого пространства, способность контакта с окружающими. Чаще всего и не ищущего выхода, а тихо и безнадёжно «плывущего по течению»… И в «Астеническом синдроме», и в «Карауле» или «Грузе-200», и даже в «Дамском портном», где безликая враждебная сила гонит в смертельную пропасть Бабьего Яра огромную массу людей, целый народ, подвергнутый унижению и истреблению.
Стоит, наверное, напомнить, что в своё время поэт Е. Евтушенко написал поэму «Бабий Яр». Так вот тогда, в условиях «оттепели» автор даже услышал отдельные упрёки – в излишней трагичности, в безысходности образного звучания поэтического текста. Фильм «Дамский портной» с пониманием и сочувствием к героям картины, к народу, подвергнутому истреблению, оказался востребованным в контексте 90-го года…
Эти произведения начала периода стали своего рода точкой отсчёта явлений, характерных для целого десятилетия 90-х, – с его негативным восприятием жизни, угасающей на глазах энергией сопротивления обстоятельствам. Со всё более замысловатыми сюжетами, анализирующими реальную ситуацию. Какую бы модель исторического времени ни привлекла картина 90-х, логика событий, развитие действия, оказалось, непременно приводили к ситуации, характерной именно для анализа происходящего сегодня, сейчас.
И этим загадка поворотного момента (для истории страны, в первую очередь) в кинематографе России, переоценка автором отношения к окружающей жизни в высшей степени характерна. Это можно видеть как на примере фильмов, спустя годы застывших, наверное, навсегда на полках кинофондов, или вовсе пропавших, так и тех немногих, что сохранили для нас облик и образ времени загадочных, смутных, лихих 90-х годов.
Названная здесь часть из них оказалась только началом процесса – разрастания способов отражения на экране времени перемен…
Сложно из нашего сегодняшнего далека осуждать авторов за этот настрой, упрекать в утрате представлений о назначении истинного искусства. Да такое понимание жизни экраном и не имело перспектив развития, не способно было к глубоким образным обобщениям. Отразившая реальность «триада» (инертный герой, бездорожье, дом-свалка) оказалась, как показало время, не имеет ресурсов для обновления, нежизнеспособна…
Новое поколение вставших к кинокамере молодых, жёстко отодвинувшее мастеров прошлого призыва, ничему не успело ещё научиться… Да их фильмы в большинстве случаев так и не вышли на экран. А потому можно только сочувственно вдуматься в смысл названий некоторых из картин 90–91 гг.: «А в России опять окаянные дни» (1990, реж. В. Васильков), «И чёрт с нами» (1991, реж. А. Павловский). Или: «Каталажка» (1990, Г. Кеворков), «Кошмар в сумасшедшем доме» (1990, реж, Н. Гусаров), «Час оборотня» (1990, реж. И. Шевченко). А ещё: «Самоубийца» (1990, реж. В. Пендраковский), «Сатана» (1990, реж. В. Аристов). К тому же: «Убийство в ночном поезде» (1990, реж. А. Махмудов), «Убийца» (1990, реж. С. Мартьянов), «Убийца поневоле» (1990, реж. М. Баймухамедов), «Я не хочу так больше жить» (1990, реж. О. Байджигитов)…
На подобных сюжетах, звучащих как отчаянный крик (не о помощи, а именно гибельный, безнадёжный крик), лежит знак неверия – ни в спасительное искусство вообще, ни в способность кино достучаться до человека.
По этой же причине, обращаясь к подобным фильмам, нет смысла рассуждать о творческом наследии, о способах киноречи, о каких-то попытках обогащения экранного языка. Нет реальной надежды и на то, что хоть часть подобных картин сохранилась как явление, запечатлевшее начало перемен: времени, в корне изменившем жизнь.
Однако даже в этом однотипном потоке можно выделить и отдельно рассмотреть несколько фильмов, не просто оставшихся в памяти парадоксальностью восприятия реальности, но и сказавших о состоянии человека, поневоле оказавшегося в условиях, полностью исключающих его представление о нормальной жизни. Часть из них не должна быть забыта не только текущей критикой, но и историками кино.
Один из таких – фильм «Нога» (1991, реж. Н. Тягунов, сц. Н. Кожушаная) – картина исключительная и одновременно типичная для тех лет.
…На экране обычный двор, подростки… Множество деталей, оттенков настроения, характерных моментов обыденной жизни обращены к зрительской памяти. Наверное, разговор о беспечной открытости людей времени «оттепели»…
Герою идти в армию (акт. И. Охлобыстин)… Родом из юности Б. Окуджавы и М. Калика, он готов искренне служить. Знает вкус дождя, влажную теплоту света сценариев Г. Шпаликова, беспечность мальчишек из ранних фильмов Г. Данелии и М. Хуциева… И безоглядно ступает на дорогу, ведущую к Афгану… Случается, однако, так, что, подорвавшись на мине-ловушке, парень теряет ногу…
И сюжет картины – не просто о фантомной боли. Отсутствующая нога обретает отдельную жизнь (исп. роли П. Мамонов). События развиваются в традиции гоголевских фантасмагорий («Нос»).
Двойник-фантом непринужденно вводится в сюжет сознанием человека, замученного бесконечной болью. Мучительные поединки парня и двойника-фантома изменяют психику, мироощущение человека… Обретая всё большую власть, Нога становится реальным проклятием и злом, обустраивая собственное «царство» на жизненном пространстве поверженного героя. Им всегда теперь существовать вместе. А прошедший Афган вчерашний мальчик станет бессильно, отчаянно проклинать судьбу, тогда как царствующий двойник буквально вытеснит его из реальной жизни… Бессмысленно, видимо, уточнять, что в атмосферу предвоенного двора с открытыми настежь окнами, к состоянию ожидания некоего счастливого будущего отчаявшиеся, озлобленные герои картины больше уже никогда не вернутся.
К сожалению, авторы «Ноги» – и довольно успешная сценаристка Н. Кожушаная, и режиссёр Н. Тягунов, не снявший больше ни одного фильма (да и этот не был в прокате, сохранившись только на нестандартных носителях), – довольно рано ушли из жизни…
Другой, снятый режиссёром Л. Бобровой фильм «Ой, вы, гуси», – тоже полнометражный дебют. Следующие её картины упрочили мнение о мастере как истинном знатоке глубинной российской деревни. С её непредсказуемо широкой душой, беспробудным пьянством, непробиваемым природным оптимизмом, позволяющим стойко держаться корней, храня в себе веру в самое лучшее…
Чёрно-белая игровая картина возрождает приверженность экрана к документальности (как цвет не прижился в хроникальных сюжетах, так и чёрно-белая фактура игрового фильма невольно ассоциирует его с репортажной съёмкой). Постановочный сюжет Л. Бобровой серьёзно претендует как раз на достоверность отражения истинной жизни. В главных ролях, при этом, снялись реальные крестьяне – братья, оба алкоголики.
Сценарий вольно излагает реалии непридуманной жизни. Хроникальность изображения вовлекает в орбиту восприятия беспросвет существования человека на фоне завораживающе-прекрасных пейзажей (герои, объясняясь в кадре по-деревенски остро и эпатажно, не поддаются авторской правке реплик и монологов). И это даёт возможность окружающим обстоятельствам выглядеть такими, какие они есть на самом деле. Есть смысл принять столь любопытное свойство режиссуры автора «…Гусей…» за попытку обновления глубины отражения жизненной ситуации: ведь такой взрывной силы сочетание истинной достоверности, художественной погруженности её фрагмента в окружающее природное пространство – не встретишь у других мастеров, работающих рядом.
И, в принципе, – обратившись к обычному человеку, к непридуманной жизненной ситуации, молодые оказались вполне способными разглядеть и настоящую боль, и неприкрашенную банальными фантазиями жизнь…
Эмоционально обжигающая правда экрана покоряет у Л. Бобровой. Однако не покидает ощущение отстранённости этого загадочного мира, как бы выведенного за пределы реальной действительности.
Своеобразным аналогом непридуманной жизни, близким по авторскому настрою и эмоционально объединяющим происходящее в кадре действие, выглядит, как представляется, картина «Облако-рай» (1991, реж. Н. Досталь).
Сценарий (Г. Николаев) был написан значительно раньше. В нём основательно до монументальности, эксцентрично до изумления отразилось время, предшествующее 90-м… Ситуация этакого вселенского застоя.
…Сфинксы-бабушки на скамеечке у подъезда, тесноватые коммуналки, сочувствующе-равнодушные соседи… Все и обо всех давно уже знают… Тягуче-однотонная жизнь лишь на миг очнулась неожиданно (для него самого) от оброненной парнем фразы о скором его отъезде… В момент оказались разобранными нехитрые вещички, объявились претенденты на комнату… И пришлось ему наскоро собраться, а поутру отбыть на случайной попутке, положив на колени гитару… С этим всколыхнувшаяся, было, застылость снова обрела равновесие.
Так достоверно и впечатляюще воссозданное в сценарии время застоя оказалось способным сказать о многом: авторское ощущение атмосферы в действии, в деталях, в поведении персонажей проступает не просто как фон вовсе ничего не значащих событий. Она сама, эта атмосфера, и есть герой задуманного сценария. Застывшее болото, остановившаяся жизнь, сонное бездумье как бы перетекает из кадра в кадр, погружая зрителя в пришедшее на смену «оттепели» равнодушие и апатию.
Однако режиссёр Н. Досталь не зря задерживает зрительский взгляд на календаре. Тот висит на двери в комнате героя и слегка покачивается каждый раз, когда кто-то из соседей входит, чтобы обозначить свои притязания на ту или иную вещь, уже как бы бесхозную. На этом календаре – 1991-й год…
Так деталь оказалась знаковой: она вносит значительные коррективы в авторскую трактовку несколько лет пролежавшего без движения сценария о времени застоя. Теперь на первый план выходит человек, «выталкиваемый» из социума. Его реальная судьба в начале 90-х, поразительное равнодушие к ней со стороны окружающих, общества, где каждый оказывается «сам за себя»… И не столько бабушки на скамейке, сколько ближние, с детства знакомые соседи агрессивно занимают его жизненные позиции, не оставляя парню путей отступления.
Равнодушие к судьбе ближнего, экстаз лёгкой «наживы», вовсе незавидной, составляют эмоциональное пространство коллективного действа. «Проводы» соседа по силе воздействия уже далеки от состояния «застоя»: равнодушия, инерции… Именно агрессия изменила акцент авторской тональности. Приблизила внутрикадровый комментарий к сегодняшнему дню. К самочувствию человека 1991-го года… И практически каждая реплика, взгляд, движение в кадре приобрели эту мощную энергию агрессивности, совсем далёкую от инертности застойных лет, определяюще-характерную для атмосферы 90-х…
Так получается, что кинематограф, погрузившись в новое измерение характера современности, выявил совсем иные акценты, изначально, наверное, дремавшие в самом раннем варианте замысла. То есть, в этом случае с уточнением времени, оно, оказавшись в иной, социально изменившейся ситуации, вдруг выявило свой скрытый до поры психологический потенциал.
Движение художественного произведения (сценария) из одного исторического периода в другой (фильм) произошло посредством уточняющей предметной детали. Календарь на двери в комнате героя, слегка покачиваясь, побуждает зрителя осознать атмосферу происходящего на экране. За эти годы оттепель и застой сменились временем перемен. Жизнеописание двора из одного контекста («Я шагаю по Москве», Г. Данелия) перешло в другой («Облако-рай», Н. Досталь) – по мере эволюции массового сознания…
Это говорит и о том, сколь значительной может быть выразительная сила экранной детали. В данном случае она привлекает не наличием конкретного предмета в более чем скромно обустроенном жилище героя, ей отводится по существу знаковая роль в характеристике изменившейся психологии людей с наступившими новыми временами. Ведь именно об этом идёт речь, когда соседи энергично делят между собой «освобождающиеся» предметы утвари. Накрыв на стол, организовав шумные проводы (в прежних традициях), они радушно и доброжелательно делят «по совести» вещи, уже не замечая стоящего поодаль хозяина.
Фактически на долгие годы российский экран отправил в небытие и другой знаковый для того времени фильм – «Цареубийца» (1991, реж. К. Шахназаров).
Если экранный вариант «Облака-рай» открывает преемственность, казалось бы, разных периодов – перетекание застоя в беспредел, – то «Цареубийца» по-своему рассуждает о вине поколений перед историей собственной страны. О расплате каждого за злодеяние, совершенное, как казалось когда-то, во имя великой цели… Этим «Цареубийца» перекликается с другой знаковой картиной предшествующей эпохи – «Покаянием» Т. Абуладзе (1984).
Покаяние за преступление отцов авторами «Цареубийцы» воспринято как возмездие времени поколениям живущих сегодня. Пространство здесь очерчено границами всего двух интерьеров: преступления (дом Ипатьева, где была расстреляна царская семья) и наказания (психбольница)… Пациент, считающий себя убийцей царской семьи в 1918-м году, и врач, пытающийся его исцелить посредством «ролевой игры», оказываются вовлечёнными в обстоятельства давней трагедии.
Время за счёт перепадов растревоженной памяти наделяется безграничностью. Врач постепенно обретает черты и приметы, говорящие о его воплощении в образ убиенного большевиками императора Николая II.
К. Шахназаров (а со временем он подтвердил свой интерес к композициям, анализирующим духовную жизнь, личность героя) реализует конфликт сложнейшего по психологической напряжённости противостояния. Если Т. Абуладзе находил разрешение проблемы, приведя к раскаянию следующее поколение, то у К. Шахназарова речь идёт не о раскаянии во имя прощения, отпущения греха… Замкнутое пространство и выразительная протяжённость исторического времени «диалога» жертвы и палача – проблема вечная. Человек принимает на себя содеянное предшествующими поколениями и всё же не получает при этом избавления – ни от покаяния, ни от раскаяния. Вина остаётся навсегда.
Хотелось бы обратить внимание ещё и на то, что в общем потоке фильмов всё отчётливей проявляется разделение на картины, способные привлечь реальное зрительское внимание, и фильмы-однодневки.
Количество последних буквально зашкаливает. Хотя и здесь, кажется, намечается возможность некоего перемещения акцента. Правда, к ещё более мрачной тональности. Это, наверное, говорит и о том, что масса нахлынувших в кинопроизводство непрофессионалов пытается удержаться на плаву, обращаясь к тому, чего ещё никогда «не показывали» (криминал, бесовщина, «чернуха» с «порнухой» и проч.). Эта линейка, как ни странно, будет только прирастать с каждым годом, открывая всё новые запретные шлюзы…
Однако, вместе с тем, параллельно, пусть единицами, увеличивается прослойка картин, выполненных профессионалами и, как правило, обращённых к серьёзной, актуальной для времени тематике. В них бережно воссоздаётся культура выразительного языка. Находит отражение характер непростого времени, ставятся вопросы, поистине актуальные не только для сегодняшнего дня. Проблема личностной идентичности, цена человеческого общения, нравственной ответственности поколения за содеянное не только в прошлой, но и в сегодняшней жизни. Те сущностные вопросы, решением (или постановкой) которых занималось истинное искусство во все времена.
По этим причинам анализ периода 90-х, кажущегося на первый взгляд провальным и так представленным в совсем немногих критических обзорах, может быть более основательно пересмотрен. В первую очередь за счёт разделения общего неконтролируемого потока картин на откровенную «чернуху» и вполне достойные кинопроизведения.
Активно развернувшийся «теневой бизнес» продолжает наращивать массовое производство дешёвых поделок. Может быть, и не случайно прокат не только не успевает, но и в каком-то смысле сопротивляется однотипным сюжетам-однодневкам. Так, недавно модная «убойная» тематика, похоже, идёт на убыль: из картин подобного типа уже совсем немногие оказались в зоне внимания. Среди них «Арифметика убийства» (1991, реж. Д. Светозаров), «Бегущая мишень» (1991, реж. Т. Теменов), «Террористка» (1991, реж. С. Раздорский), «Цена головы» (1992, реж. Н. Ильинский). Такое впечатление, что азарт производства фильмов подобной тематики, спрос на них полутеневого видеорынка существенно угасает. Зато рядом вдруг оказалась открывающая новую нишу лента зарубежного производства «Неизвестный с хвостом».
Интерес ко всякого рода чертовщине так же волнообразно начинает нарастать, чуть оттеснив при этом явно романтизированный криминал.
Однако не всё так просто. Именно теперь целый ряд фильмов постепенно группируется вокруг прежде практически не представленной на экране тематики. Крепнущий дикий кинобизнес бросился разрабатывать ещё одну поистине «золотоносную жилу»: в ход пошли сюжеты сексуального свойства.
Вот некоторые из говорящих названий (прокатные данные об этих картинах, как практически и обо всех остальных фильмах 90-х, в большинстве, отсутствуют: многие просто не выходили в прокат). И всё же:
«Болотная стрит, или Средство против секса» (1991, реж. М. Айзенберг), «Обнажённая в шляпе» (1991, реж. А. Полынников), «Путана» (1991, реж. А. Исаев), «Рабэ вумен» («Резиновая женщина», 1991, реж. С. Гурзо-мл.).
Несколько, может быть, неожиданно на этом фоне выглядит пара картин более близких современной тематике. Их авторы обращаются к политико-социальным проблемам: «Деревня Хлюпово выходит из Союза» (1992, реж. А. Вехотко), «По Таганке ходят танки» (1991, реж. А. Соловьев).
Парадокс (а может, и авторская находка), способный привлечь внимание зрителя, заключается в несовпадении величин. Иронично прикасаясь к совсем недавним событиям из нашей реальности, экран, смеясь, как бы предлагает расстаться с ними, отбросить как позабавившую мир нелепость, исторический казус.
При этом стоит обратить внимание на то, что картины подобного рода (и о криминале, и о прорвавшейся на экран сексуальной тематике, и с аллюзиями по поводу политической напряжённости тех дней) уровень авторского «посыла» зрительному залу формулируют, в большинстве, прямым текстом – в названии картины. Как правило, сама она при этом уже не содержит каких-то особых «акцентов» в подаче событийного материала, способных выявить авторское участие в его осмыслении. То есть, стоит обратить внимание, – если речь о киновыразительности, о языке подобных картин, – что только лишь словесная формулировка названия уже целиком исчерпывает смысл так называемого замысла. Картина развлекает, иллюстрирует, забавляет зрителя своей парадоксальностью, вседозволенностью.
К ним можно было бы отнести и некоторые ленты профессиональных кинематографистов. Например, картину «Прорва» режиссёра И. Дыховичного (1992).
Реальный исторический фон (снятые когда-то А. Медведкиным на экспериментальную цветную плёнку документальные кадры парада 1938 года) сочетается в «Прорве» с гиперболически-эпатирующим рассказом о пегой кобыле, которую для С. Будённого чекисты перекрасили в чёрный цвет и «превратили» в жеребца, навесив внушительный искусственный фаллос… В острейшей сатирической стилистике фильм представляет, по сути, трагическую историю: и сотрудников НКВД, которые в финале все попадают под расстрел, и женщины, прошедшей ад общения с подобными нелюдями, став точно такой же перемолотой временем жертвой… Лик «большого террора» проступает на фоне столичной архитектуры: кичливого сталинского ампира… Со временем, правда, эта картина, с её гневным разоблачительным пафосом, выйди она в прокат, смотрелась бы как явный анахронизм.
Зато оказались живучими сюжеты, затрагивающие более основательные темы – духовной цельности человека, цены каждой отдельной жизни, личности. Здесь речь может идти о фильмах «Гений» (1991, реж. В. Сергеев), «Небеса обетованные» (1991, реж. Э. Рязанов). Один – о невостребованности истинного таланта, загубленного обществом потребления. Другая картина – о равнодушии наступившего времени к людям, практическая целесообразность которых, с прагматических позиций, стала равна нулю…
Экран, казалось, обходит стороной, старается напрямую не касаться реальных проблем начала 90-х. Однако сама история происходящего в кадре, судьбы персонажей, развитие сюжета как бы охвачены отчётливо прописанной атмосферой, властной над жизнью людей тех лет.
Герой фильма «Гений» (акт. А. Абдулов) – один из них. Судьба таланта в условиях беспредела как раз и содержит размышления авторов о сегодняшней ситуации невостребованности, безуспешной попытке найти свой путь. И вокруг фигуры молодого учёного формируется теневая система хватких проходимцев, понимающих, как приспособить его талант в своих целях… Если в реальной жизни такие самородки часто уходили из профессии, то у новых хозяев их бесценный дар способен стократ окупиться.
И картина «Небеса обетованные», где от искромётной комедийности фильмов Эльдара Рязанова осталась разве что только чудаковатая манера поведения персонажей (сняты, как всегда, ведущие исполнители многих ролей в его фильмах). Своего рода художественный типаж, экранная биография постоянного персонажа картин мастера вносит дополнительное, обертонное звучание в своеобразие стиля этого режиссёра.
Говоря об отражении экраном контекста начала 90-х, есть смысл сопоставить эти картины. Тогда проявится ситуация, в которой даже в условиях безвременья человек способен (и должен) сделать свой выбор, хотя, тревожно заключает фильм, при этом его судьба остаётся не реализованной. Поколение потерянных талантов представлено как явление, характеризующее время.
В череде подобных сопоставлений нельзя обойти вниманием диалог по-своему знаковых картин, таких как «Бесконечность» М. Хуциева и «Любовь» В. Тодоровского. Один из мастеров – архитектор кинематографа «оттепели», автор, в своё время предложивший игровому экрану стиль поэтического документализма. Другой – из молодых, из поколения сыновей, которые в это время активно осваивают позиции в кинорежиссуре (сын оператора и режиссёра П. Тодоровского). Именно с фильмов начинающего режиссёра В. Тодоровского (а затем ещё и продюсера), по существу, обозначился тот самый «кинематограф молодых», который начал опровергать прежние стереотипы. Однако этот автор одним из первых во многом также наследовал стилистику и нравственные ориентиры отцов.
В «Бесконечности» М. Хуциев как бы очищает поэтическую стилистику своего документализма от каких бы то ни было наслоений безвременья. Напротив, в его завораживающих зарисовках, в кадрах, запечатлевших неизбывную природную ценность буквально каждого мгновения жизни (мастер возрождает изобразительный язык общения со зрителем на уровне эмоций, переживаний человека, созерцающего пространство до мелочей развёрнутого перед ним мира). На экране царит очищенная от наслоений повседневности память о прожитой жизни… Есть, может быть, повод говорить и о том, что режиссёр, в своё время жёстко отвергший стилистику фильма-памяти А. Тарковского «Зеркало» (см. ИК, дискуссию о фильме), сам обратился теперь, в отстранённости от сегодняшнего дня, к подобной визуальной образности, фиксируя ностальгическое состояние человека, оглянувшегося на прожитую жизнь…