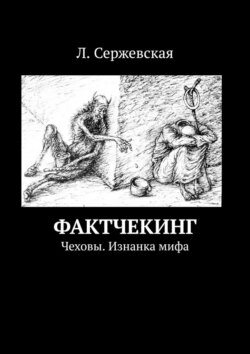Читать книгу Фактчекинг. Чеховы. Изнанка мифа - Л. Сержевская - Страница 3
Часть I. «ГОСПОДИ! ЗА ЧТО МНЕ СИЕ?»
«ВЕЧНЫЙ СТУДЕНТ» АЛЕКСАНДР ЧЕХОВ
Оглавление– Ну что, как? – спросила его хозяйка, протягивая руку. – Выдержали экзамен?
– Выдержал.
– Браво, Егор Андреевич! Много получили?
– По обыкновению… Пять… Гм…
Гвоздиков получил не пять, а только три с плюсом, но… но почему же не соврать, если можно?
Чехов. «Свидание хотя и состоялось, но…»
Почему же не соврать, если можно… Видимо, так и рассуждал Александр Павлович Чехов, написав в автобиографии: «Поступил в Московский университет, где окончил курс по двум факультетам – чисто математическому и естественному».
Но это было неправдой, и это прекрасно знали Мария Павловна Чехова с братом Михаилом, и тем не менее продолжили в семейных воспоминаниях фальсификацию о двух факультетах Александра1. Вслед за ними и С. М. Чехов2 напишет о дяде Саше явную ложь: «Он поступил в Университет, который окончил по обоим отделениям». Да что там – родственники! Сам писатель Бунин, не чужой Чеховым человек, утверждал, что: «Александр Павлович был человек редко образованный: окончил два факультета – естественный и математический». Как тут не поверить? И вот уже миф сочинен.
Их понять можно: создавалась история семьи великого писателя, а старший брат, считавшийся в доме «нравственным уродом», образцовую картинку портил, вот и приходилось что-то смягчать, вырезать, а где-то, извините, просто приврать.
Однако Александр Павлович действительно был и умен, и талантлив. Его эрудицию отмечают все мемуаристы. «Ты много читал, много писал, образованный, развитой…», – уверял брата Антон. Всё так, только ни двух отделений, ни тем более двух факультетов университета он не заканчивал.
В архиве Московского университета сохранилось «Дело студента Александра Чехова». Начато оно в 1875 году, а окончено осенью 1882 года с получением названным студентом аттестата об окончании университета. Несложное арифметическое действие и получается – семь (!) лет учёбы. И это вместо положенных четырех3.
Дела Ал. Чехова обстояли так плохо, что не только о получении степени кандидата не могло идти речи, но даже звание действительного студента было под вопросом. И, разумеется, интеллектуальный ресурс Александра Павловича не имел никакого отношения к его университетскому фиаско.
ОТЛИЧНИК
Саша Чехов, первенец Павла Егоровича и Евгении Яковлевны, был любимцем родни и избалован ею с детства.
Он родился, когда еще не были женаты его дяди – Митрофан Егорович и Иван Яковлевич, а у тети Федосьи Яковлевны не было своих детей. Немудрено, что ребенок был нарасхват, и родственники с удовольствием забирали его к себе погостить. Даже дед Егор Михайлович из далекой слободы зазывал к себе внука: «Пришлите нам много любящего нашего внучка Сашеньку Господина Чехова, мы его отдадим в Харьковскую гимназию учиться».
Но явным подарком судьбы для мальчика был дядя Ваня, брат матери. Несправедлив был Антон Павлович, утверждая, что «талант в нас со стороны отца»: с материнской стороны Господь тоже родню не обидел.
Иван Яковлевич, фантазер и умелец на все руки, виртуозно мастерил из картона макеты церквей и кораблей, из пирогов у него вылетали птицы, игрушки двигались, удочки сами вытаскивали рыбу. Этот таганрогский «левша», у которого не было детей, до двенадцати Сашиных лет занимался с племянником, и именно он развил в нем пытливость ума, вкус к творчеству и изобретениям. В конце жизни Ал. Чехов вспомнит о любимом дядьке в повести «Неудачник», трогательной и фальшивой, как, впрочем, многие его воспоминания.
В гимназию Саша Чехов пошел поздно и прекрасно подготовленным. Своим почерком, который он называл аристократически-прекрасным, великолепным знанием библейских сюжетов старший сын был обязан отцу, лично занимавшимся с ним каллиграфией и чтением Библии; а про арифметику и говорить не приходится – в лавке все младшие Чеховы считать учились на практике.
Немудрено, что учеба гимназисту давалась легко. Он был гордостью семьи и знал это: самооценка его была чрезмерно высокой, что не преминуло сказаться на поведении. «В детстве Александр был упрям и капризен», – будет вспоминать его сестра. Сашенька был не только капризен, но и не в меру драчлив. По его собственным рассказам своим братьям он спуску не давал, запросто закатывая оплеухи и подзатыльники.
Был еще одни человек, оказавший немалое влияние на мировоззрение Александра. Это квартирант Чеховых, гимназист старших классов Исаак Павловский, увлекавшийся народническими идеями. Впоследствии он будет проходить в качестве обвиняемого по нашумевшему политическому «Делу 193-х». А пока под влиянием этого революционно настроенного квартиранта формировались нигилистические замашки Саши Чехова, с него он срисовывал свой идеал – «критически мыслящую личность». У него же брал привозимые контрабандою запрещенные книги.
«Читать их должен был каждый из нас обязательно, иначе товарищи стали бы считать его человеком недоразвившимся. Появиться в городском саду с томом Добролюбова в руке считалось у нас в старших классах признаком хорошего тона. Я, проникнутый самосознанием и духом либерализма (знай наших!)…», — вспоминал Ал. Чехов. Правда, в отношении простого мужика «народник» рассуждал как-то не либерально:
«Мы – гимназисты. Мы умнее и образованнее его. Он должен стоять перед нами без шапки», – разъяснял Александр социальную казуистику малолетнему Антону.
Павел Егорович, так гордившийся своим старшим сыном, с тревогой замечал в нем перемены, но своими замечаниями родители-мещане4, «не проникнутые самосознанием», раздражали «развившуюся критическую личность».
ИЗ СЕМЕЙНОЙ ПЕРЕПИСКИ
«Саша!
Я немало удивляюсь твоей ученой глупости: как ты решился послать записку Классному Наставнику5, что у тебя обуви нет, от себя, когда у тебя есть Родители, отец и мать. Когда, может, нас не будет, тогда будешь сам распоряжаться. Ты наделал в Гимназии такой кутерьмы, что мне даже совестно, и я из-за тебя должен краснеть. Ты сделал себя Гордым Глупцом пред Гимназией и Родителями, а нас унизил, превысил Родительскую Власть, послал от себя записку. Разве я не мог дать записки?
Между прочим, ты еще не в состоянии себе подметок к сапогам исправить и одеть себя прилично. Тогда как поменьше тебя Гимназисты имеют и теперь уроки. Значит ты не хочешь постараться найти себе уроки, которые могли бы тебя одевать и обувать в обществе и дома.
Надменностью и гордынею ты ничего никогда не будешь иметь. Обрати на себя должное внимание, хорошенько взвесь себя, приобрети дух кротости и терпения, мужества, ласковости, вежливости, находчивость, услужливость каждому.
Я замечаю, что себя ты очень любишь и себе угождаешь, а другие – как хотят себе. Тебе до них будто бы и дела нет, хотя они и близки тебе, и с тобою находятся вместе. Сколько я уже замечал, что ты обращаешься с Мамашей грубо, умничаешь и кричишь, и если бы не я, которого ты также не слушаешь – и не по любви, а по страху делаешь наружнее уважение только – так ты бы давно уже дом переворотил вверх дном.
Молю Бога, что бы Он послал тебе ум, и просветил тебя здравым смыслом к исполнению всего того, чего мы от души желаем на всю твою жизнь».
«Саша.
По ответу я вижу, мы тебе не нужны, что мы дали волю, которою и сам можешь жить и управлять в таких молодых летах, значит, советов наших слушать не будешь. Впрочем, я тебе не приказывал, а говорил просто и кротко, что все равно говеть и во Дворце6, где и братья говеют, а ты не выслушал, сказал, что «я действую не по своей воле», да и побежал из лавки.
Да, если противишься, Бог с тобою! Не нада, иди по своей воле, как знаешь, ты и без нас можешь обойтись и жить. Только жаль, что так рано стал забывать Отца и Мать, которые к тебе преданы всей Душой и не щадили средств и здоровья, чтобы дать воспитание для жизни. И за все это такая нам благодарность теперь.
Не дай Бог, если и все у нас Дети такие будут, значит, мы несчастны, нам не с кем будет и жить. Хотя все говорят: «Вот вы какие счастливые, что у вас Сыны. Есть на кого надеяться в преклонных годах». Да, дай Бог.
После этого я одного у тебя прошу: перемени свой характер, будь добр к нам и к себе. Ты хорош и умен, но только не видишь себя, и в самом тебе живет какой-то дух превознесения. Вооружаться, Саша, на нас – великий грех! Дай тебе Господи духа кротости и целомудрия!
Сохранился комментарий М. П. Чеховой к этому письму:
«Из писем отца к старшим сыновьям можно видеть, как его иногда обижал брат Саша в юношеские годы своей жизни, и как тонко понимал отец характер и натуру своего старшего сына, как осторожно и тактично старался влиять на его воспитание».
В начале своего последнего учебного года Александр устроился репетитором с проживанием к детям директора гимназии. Жить в доме директора! Сидеть с ним за одним столом, где учителю, как и хозяйским детям, прислуживал лакей! Пройтись с директором на виду у всех по коридорам гимназии! Всё это подогревало Сашино тщеславие, очень скоро перешедшее в непомерную чванливость вперемежку с барскими замашками.
Втайне он уже давно мечтал о дворянстве. Еще будучи пятиклассником фантазировал: «Через три года я буду дворянином. Всякий ученик, который получает аттестат зрелости, сейчас же делается дворянином». А старшеклассником с упоением рассказывал родителям, как однажды на пляже после купания ему «дали простыню и лохань с водой для ног, точно Барину какому. Я, конечно, не упустил случая повеличаться и почваниться».
Александр, как известно, окончил гимназию с серебряной медалью. Правда, по аттестационным отметкам «серебро» у него не выходило: пять четвёрок при пяти пятёрках на экзамене в Педагогическом совете – явно не серебро. Но факт проживания в директорской семье, без сомнения, повлиял на аттестат. Казалось бы – ничего страшного, дело житейское. Но для амбициозного Александра это было еще одним подтверждением своей избранности.
Уезжая из Таганрога в Москву, Александр Павлович Чехов оставлял о себе репутацию необыкновенно яркого юноши с блестящим будущим. Тем позорнее было его возвращение…
УНИВЕРСИТЕТ
11 августа 1875 года Ал. Чехов стал студентом Императорского Московского университета. «Иду по физико-математическому факультету по отделению естественных наук», – доложил он родителям. И вдруг ровно через 10 дней – новое заявление ректору о переводе в отдел чистой математики. Что произошло, почему вдруг такая перемена? Неизвестно. Но известны амбиционные ожидания восторженного студента от математической науки.
ИЗ СЕМЕЙНОЙ ПЕРЕПИСКИ
«Дорогие, хорошие, милые, словом такие сякие, сухие, немазаные Папа и Мама! Дорогой папа! Мало того, что драгоценная, да еще и славная Мамочка! Дорогая славная хорошая милая Мамашуринька! Добрые папа и мама!» – так пылко обращался к родителям Александр в этот период.
«Я буду держать экзамен на степень магистра математики и потом доктора математических наук. А доктор математики с чином ординарного профессора получает место в Университете. Если я буду хорошо заниматься и добросовестно отнесусь к своей специальности, то окончив курс со званием кандидата, я на счет университета буду отправлен за границу. Вот мои планы», – писал он родителям.
«Саша, милый сын наш, – отвечал отец, — письма твои нас весьма радуют. Дай Бог, тебе, Саша, того, чего ты желаешь, но главное, чтобы эта мысль к исполнению никогда бы не ослабевала и не погашалась».
И Александр с головой окунулся в студенческую жизнь:
«Я здорово выдвинулся из среды товарищей студиусов. Вся аудитория хором поручила мне составление лекций, что не всякому доступно. Это послужит к скорейшему моему развитию. А для имеющего в виду степень магистра, это очень важно».
«Знаете ли, я никогда не был так доволен как теперь. Я с наслаждением занимаюсь своей математикой. Очень часто рассвет застает меня за моими трудами и выкладками, которые я начинаю с 5 часов вечера. И это долгое время пролетает незаметно. Я прежде побаивался, что из меня выйдет такая же бесстрастная и равнодушная щепка, как наш бывший учитель Дзержинский7, но теперь я совершенно спокоен.
Ах, папа, если бы вы могли послушать нашего ординарного профессора Цингера! Поверите ли, слушаешь и хочется слушать. Когда кончается лекция, то просто зло берет, что она так скоро кончилась. Я с наслаждением занимаюсь своей математикой. Любо, ей Богу, любо. Скажу, что я попал на славную дорогу».
Однако попасть на славную дорогу и идти по ней – не одно и то же.
Вскоре количество писем студента в Таганрог резко сокращается, меняется и их содержание. От сентябрьской «математической» эйфории не остается и следа. Весной он известил «милых папу и маму»:
«Наш академический год кончается. В субботу прочтется последняя лекция, а там о них и помину не будет. На днях у нас был пробный экзамен, о котором я упоминал в предыдущем письме».
Видимо, в том предыдущем письме, оставшимся неизвестным, Александр и сообщил о своем странном решении – переводной экзамен не сдавать. Родители недоумевали.
Павел Егорович:
«Саша, как эту фразу понимать: если я найду нужным держать экзамен?».
Евгения Яковлевна:
«Ты, Саша, написал, если найдешь нужным держать экзамен. Разве можно и не держать? Помоги тебе Господи выдержать экзамен, как должно».
Экзамен для перевода на 2-й курс Саша Чехов не выдержал. Впрочем, один-таки сдал: Закон Божий. И на пятерку, разумеется.
Отказ Александра от переводных экзаменов и желание остаться на первом курсе были осознанными и связаны с поступлением в 1876 году на 1 курс физико-математического факультета его новых приятелей – Ивана и Леонида Третьяковых, с которыми он познакомился в ноябре 1875 года. Встреча эта, как покажет жизнь, станет фатальной для «имеющего в виду степень магистра».
Учиться в Москву Александр приехал не один, а с братом Николаем8, и оба они стали студентами.
Столичная адаптация таганрогских провинциалов проходила тяжело. Ограниченные в средствах9 братья изворачивались как могли. Традиционно студенческим заработком, были, конечно, уроки, но их на всех не хватало.
ИЗ СЕМЕЙНОЙ ПЕРЕПИСКИ
«В „Полицейских Ведомостях“ на каждом шагу строчки видишь: студент желает давать уроки, студент такого-то факультета желает давать уроки, студент …, студент… и так далее, вся бумага усеяна одними студентами. На одном листе печатается по 25 и 30 таких объявлений» – писали братья домой, а Николай жаловался:
«В моих сапогах не было возможности ходить: на них здоровенные дырки. Починю их, пойду в училище, глядь, а они порвались опять и полные сапоги снегу. Антоша писал нам: сапог порвался – почини. Но Москва любит деньги, а их нет, а без них ничего не дадут. Мы стали, наконец, на квартиру, и капитал мой уменьшился настолько, что осталось только на один хлеб к „чаю“. Саша поделялся со мною хлебом, но потом и у него оказалось в кармане пусто. 8-го сентября мы выпили с Сашей 1 стакан чаю без хлеба, ибо не имели за душой ни копейки. Вчера хоть и был хлеб, да не обедали, а сегодня – ни того, ни другого».
Наконец. период невзгод закончился. Но голодные дни и страх перед ними не забылись, наверное, поэтому и отдались братья с таким наслаждением внезапно открывшемуся изобилию от Третьяковых.
В ноябре того же года Николай порадовал родителей:
«Саша живет у князя Воронцова и учит его сына, и получает жалованье. Живет он по-аристократически, в неге, в широких палатах княжеских, любимый князем». Похвастался и Александр: «Сегодня в нашей приходской церкви Троице Капельской престольный праздник, я был с князем у обедни, а вчера у всенощной. Да возрадуется мамаша».
Князем, о котором писали братья, был Павел Николаевич Воронцов-Вельяминов, цензор московского цензурного комитета. Его «палаты княжеские» размещались в доме Тишениновых, где он снимал апартаменты. Рядом стояла усадьба знатной дворянки Александры Дмитриевны Макаровой (урожденной Телепнёвой)10. Она давно овдовела и теперь воспитывала двух внуков-сирот своей старшей дочери: Ивана и Леонида Третьяковых. С нею вместе жила и ее младшая дочь Елена (тоже вдова) со своими тремя сыновьями. Вторым браком она была замужем за инспектором Дирекции московских училищ В. П. Малышевым, сыгравшим весьма значимую роль в судьбе как самого Александра Чехова, так и всей чеховской семьи.
В описываемое время подросшие молодые люди уже оканчивали гимназию и готовились к поступлению в университет.
В храме ли, во время ли взаимных визитов Воронцовых и Макаровых состоялось знакомство Александра с братьями Третьяковыми – не столь важно, так или иначе – пути их пересеклись.
В то время двадцатилетний Саша Чехов, долговязый, некрасивый и смешной в потугах соответствовать «высшему свету», но такой уверенный в своем блестящем математическом будущем, сумел расположить к себе старшее поколение дома. Александра Дмитриевна увидела в нем достойного товарища своим внукам: профессором математики мечтал стать и Леонид Третьяков. Так Александр Чехов попал в аристократическую среду11.
Весной 1876 года в поисках заработка в Москву приехал Павел Егорович, а вслед за ним и Евгения Яковлевна с младшими детьми. Но жить с родителями Александр не захотел.
«Смолоду не в ладах с отцом из-за строптиво-упрямого характера, всегда подчеркиваемой самостоятельности, переходившей в своеволие, и некоторой распущенности в личном быту, он рано порвал с семьей и навсегда сохранил неприязнь к отцу», – объясняла поведение брата Мария Чехова.
А Павел Егорович жаловался на сына Антону в Таганрог:
«Ему родня чесноком пахнет, а в людях лучше, амбре нюхает, разбаловался. Богу не молится, с нами не живёт».
Саша же хвастался брату, что снял уютную комнатку. Своими новыми товарищами он восхищался и всячески подражал им: ходил в цилиндре и курил дорогие сигареты (видимо, перепавшие с барского стола). А уж когда Антон приехал на каникулы в Москву, Александр решил показать себя во всей «аристократической» красе. Ему это удалось.
«Мы шли по Знаменке. Я был в цилиндре и старался как можно более, будучи студентом, выиграть в твоих глазах. Для меня было важно ознаменовать себя чем-нибудь перед тобою. Я рыгнул какой-то старухе прямо в лицо. Этот поступок покоробил тебя. Ты сказал мне: „Ты все еще такой же ашара“», – вспоминал позже Ал. Чехов..
Как уже было сказано, ради своих новых приятелей осенью 1876 года Александр остался на второй год обучения, но и весной 1877 года он не смог выдержать переводных экзаменов на 2-й курс. Однако дважды оставаться на одном и том же курсе университетскими правилами было запрещено, а посему Александру Чехову грозило отчисление. Тем не менее не особо этим озадачиваясь (ведь теперь у него были серьезные покровители), наш герой умчался со своими богатыми приятелями в их орловское имение Жизлово.
А в это время в стране начался призыв на военную службу молодых людей, родившихся, как и Ал. Чехов, в 1855 году. Для получения же отсрочки студенту нужно было предъявить документ из университета.
Павел Егорович срочно написал сыну:
«Я за тебя мог бы взять из Университета Удостоверение, но как ты считаешься выбывшим из Университета, мне объявили, что не могут выдать означенного свидетельства». К письму сделал тревожную приписку и брат Николай: «Скорей приезжай и подавай прошение о переходе на другой курс. Иначе ты солдат».
Но Саша не приехал. Прошение о переводе от его имени написал Павел Егорович. И с резолюцией на прошении – «перевести» – Александр Чехов вновь стал первокурсником, словно и не было двух лет обучения.
Трагедия в доме Третьяковых произошла девятого марта 1878 года. Это невероятно, но в один день скончались бабушка Третьяковых, Александра Дмитриевна, и их тётя, Софья Александровна Крепион. Все изменилось в одночасье.
Не случись этой беды, у Третьяковых, да и у Александра с братом Николаем могла быть иная судьба. Но что об этом говорить…
На Ивана с Леонидом рухнуло огромное наследство вкупе с абсолютной свободой. С этим нужно было что-то делать. Ума хватило только на развлечения. Вскоре Александр Чехов переселился к Третьяковым и теперь тоже ездил в университет в экипаже.
Постоянным гостем был в усадьбе и Николай Чехов, он писал для выставки портрет Ивана. «Жаль, что я не окончил портрет Третьякова, рука не готова. Портрет в натуральный рост, сидит за роялью», – сообщал он Антону.
Здесь, в доме Третьяковых, на одном из литературно-театральных вечеров, заведенных еще Александрой Дмитриевной, впервые состоялось публичное чтение водевиля Антона Чехова «Нашла коса на камень», который Александр «выдавал для удобства за свое». Здесь же, у Третьяковых, Александр обсуждал чеховскую «Безотцовщину».
Время на 1-й Мещанской проводили весело. Учеба перемежалась с балами и маскарадами.
«Эту зиму мы с Николаем порядочно покутили, побывали раза четыре в Стрельне… Это роскошный ресторан в глухом лесу в Петровском парке. Побывать в Стрельне – это верх кутежа», – захлебывался от восторга Александр в письме тому же Антону.
Мария Павловна Чехова позже утверждала, что именно Третьяковы приучили старших братьев к пьянству:
«Александр в это время начал заболевать своей страшной болезнью, попав в дурное общество братьев Третьяковых, где пьянствовали с утра до вечера. Николай тогда же последовал старшему брату в том же духе».
Но это не так. Аристократка Александра Дмитриевна держала внуков в строгом комильфо. Скорее Александр «совращал» барчуков. Братья Чеховы любили выпить и до Третьяковых: еще в Таганроге они таскали вино из отцовской лавки, а в Москве, как следует из писем Ал. Чехова, постоянно мотались по дешевым пивным и портерным.
Но в одном М. П. Чехова была права: пьянство у Третьяковых стало бесконтрольным. Алкоголь лился рекой, с него начиналось утро. Развеселую, безалаберную жизнь, которая началась после получения его приятелями наследства, Ал. Чехов с явной ностальгией описал в автобиографической повести «Хорошо жить на свете!»12. Вот несколько цитат.
Про себя.
«Он был то, что на студенческом языке называлось „парень-рубаха“. В университете, в науках, он шел так себе, многих лекций совсем не посещал и серьезно увлекался только одной химией и с большой охотой работал в химической лаборатории».
Про Ивана.
«Явившись на экзамен богословия, взяв билет «о чуде», он смог ответить после долгого размышления только три слова:
– Чудеса бывают различные..
– Совершенно верно, – согласился с ним протоиерей-профессор, – было бы чудом, если бы вы ответили иначе. Приходите экзаменоваться еще через неделю….»
Про Леонида.
«Только он держал хорошо экзамены. И у него были свои недостатки. Он не прочь был иногда выпить – и здорово выпить. Он вполне оправдывал древний тезис: „веселье Руси есть питие“».
Про экзамены.
«Экзамены были на носу, и временем приходилось дорожить… Жизнь завели все трое правильную. Водку за завтраком упразднили. Напивались только за ужином».
Растворяясь в роскошной барской обстановке, Александр Чехов уже и себя мнил дворянским отпрыском. Третьяковы делали ему подарки, таскали за собой по дорогим ресторанам, возили к себе в поместье, везде и всюду платили за него. Он умел быть интересным и остроумным собеседником, горячо вести философские споры, но, главное, мог славно посмешить компанию, покривляться, отмочить какую-нибудь шуточку, словом, как он сам говорил: «поломать из себя дурака».
« – А, Фомка запропащий! Отчего не показывался? Ты точно переродился. Совсем шутом перестал быть», – так обращались к нему Третьяковы.
Александр и не заметил, что на самом деле превратился в забавника для богатых мальчиков.
Двадцати лет Степан Головлев кончил курс в одной из московских гимназий и поступил в университет. Но студенчество его было горькое. Во-первых, мать давала ему денег ровно столько, сколько требовалось, чтоб не пропасть с голода; во-вторых, в нем не оказывалось ни малейшего позыва к труду, а взамен того гнездилась проклятая талантливость, выражавшаяся преимущественно в способности к передразниванью; в-третьих, он постоянно страдал потребностью общества и ни на минуту не мог оставаться наедине с самим собой. Поэтому он остановился на легкой роли приживальщика и pique-assiette’а и, благодаря своей податливости на всякую шутку, скоро сделался фаворитом богатеньких студентов. Но богатенькие, допуская его в свою среду, все-таки разумели, что он им не пара, что он только шут, и в этом именно смысле установилась его репутация. Ставши однажды на эту почву, он естественно тяготел все ниже и ниже, так что к концу 4-го курса вышутился окончательно.
Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы»
Когда-то первокурсник Ал. Чехов, выстраивая сценарий своей жизни, писал отцу: «Буду защищать диссертацию на степень доктора математики. Вот мои планы», и Павел Егорович молился за сына: «Саша, милый сын наш, дай Бог, чтобы так было на самом деле».
Но Саша сценарий переписал.
Следствием кутежей стал повторный отказ Александра от переводных экзаменов на третий курс и новое прошение ректору:
«Имею честь покорнейше просить сделать распоряжение об оставлении на 1879/80 акад. год на том же курсе».
Резолюция: «недоимок нет, разрешено».
Своим человеком у Лаптевых был также Киш, прозванный вечным студентом. Он три года был на медицинском факультете, потом перешел на математический и сидел здесь на каждом курсе по два года.
Чехов. «Три года»
«Когда мы Сашу дождем, что он добьется конца..», – сокрушался Павел Егорович. Он не находил себе места: уж четыре года минуло, а Саша всё студент 2-го курса!
И заклинал Антона:
«Когда будешь в Университете учиться, учись как в Гимназии добросовестно. Переходи каждый год из курса в курс, невзирая ни на какие окружающие предметы. Друзья и приятели найдутся угостить в трактире ужином и винца выпить сколько душе угодно. Главное и первое дело для молодого человека ученье, и ученье, а последнее после всего можно – и Бог благословит».
«Столица имеет много хорошего, а больше еще худого. Для слабого человека есть гибель, который нетвердостью ума сейчас совратится с товарищами. Университет рассадник Своеволия без строгого контроля всякого Студента».
Любопытна перекличка этой мысли Павла Егоровича с высказыванием Льва Толстого:
«Я был крещен и воспитан в православной христианской вере. Но когда я 18-ти лет вышел со второго курса университета, я не верил уже ни во что, чему меня учили».
Наступил 1881 год. Из Таганрога Митрофан Егорович просит передать «племяннику Сашеньке поздравление с окончанием курса». Однако, как и другие члены семьи, дядя был введён в заблуждение: курс еще не был окончен, так как на осень оставались «хвосты», и Саша Чехов пока лишь студент 4-го курса.
– Неужели вы все еще студент?
– Должно быть, я буду вечным студентом.
Чехов. «Вишневый сад»
Тем не менее, свое последнее лето у Третьяковых в Жизлово Александр провёл прекрасно:
«Сегодня день моего рождения. По этому поводу был устроен большой парадный обед и собралось очень много гостей. Обед прошел весьма торжественно, и между прочим Малышев предложил такой тост: „Пью за здоровье тех счастливых людей, для которых наш новорожденный – сын и брат“. Гости крикнули „ура“ и стали в свою очередь произносить тосты», — тщеславился он в письме сестре.
Праздник, видимо, и правда, удался на славу: подняться после застолья Александр не смог, не смог он и вернуться вовремя в университет. Пришлось обращаться к знакомому врачу, тот дал справку, что у больного Ал. Чехова воспаление плевры, высокая температура и что «до конца сентября месяца, ему нельзя будет предпринять никакой поездки без явной опасности для его здоровья».
А «больной» в это время пишет Антону следующее:
«Мерзавец! Что же ты не едешь? Деньги, кажется, давно высланы тебе. Кстати, сообщаю, что Леонид не особенно доволен тем, что ты, высказав желание ехать, не едешь. Имеюще мозг, мысли!»
Антон, разумеется, не приехал, а уж тем более, что – «Леонид не особенно доволен». Заносчивость Л. Третьякова коробила Чехова: «не он один только барин», – резко заметил он однажды брату.
Но вот уже вернулись в Москву Третьяковы, а у Александра опять всё не слава Богу. 25-го сентября он пишет Антону:
«Отче Альтон Е! Будь анафема, вышли поскорее мой паспорт с продолженным отпуском: меня „несколько“ теснит становой. Я, не имея паспорта, не могу выехать из Жизлова».
Что ж, профессора не читают лекций, небось всё ждут, когда приедешь!
(Чехов. «Вишневый сад»)
Когда Александр Павлович, наконец-то, появился в университете, время переэкзаменовок прошло.
Но рано или поздно всему приходит конец. 1881/1882-й учебный год для студентов университета выпуска Ал. Чехова – дипломный.
Иван и Леонид Третьяковы, как и следовало ожидать, закончили Университет со степенями кандидатов. Сразу после Татьяниного дня получили аттестаты и разъехались13. А вот Александр…
В «Речи и отчете, читанных в торжественном собрании Императорского Московского Университета 12 января 1882 года»14 поименно названы все выпускники 1882 года – и кандидаты, и действительные студенты. Но фамилии Александра Чехова там нет. Увы! В число выпускников 1882 года он вообще не включен!15
Татьянин день проходит в Москве особенно весело. Это такой день, в который разрешается напиваться до положения риз даже невинным младенцам и классным дамам. В этом году было выпито все, кроме Москвы-реки, которая избегла злой участи, благодаря только тому обстоятельству, что она замерзла… Пианино и рояли трещали, оркестры не умолкали, жарили «Gaudeamus», горла надрывались и хрипели.
Чехов. «Осколки московской жизни»
Попьянствовал, несомненно, и Александр. Но что чувствовал он, не получивший вожделенного диплома?
После бездумного пьяного вихря он вдруг очнулся и обнаружил, что имеет несданные зачеты да беременную любовницу, из-за которой в клочья разругался с семьей16.
Была еще слабая надежда на привычное покровительство дяди Третьяковых – В. П. Малышева. Но Малышев хлопотать не стал. К тому времени их отношения окончательно испортились. Василий Павлович, наблюдая загулы племянников, с прискорбием убеждался, что от амбиционных «профессорских» мечтаний Александра не осталось и следа. А тот обидевшись и зачеркнув все былые благодеяния Малышева, впредь будет упоминать его имя лишь с издевкой.
Только 13 июля 1882 года Ал. Чехов получил пока лишь временное свидетельство о сдаче «надлежащего испытания на звание действительного студента». Аттестат же будет ему выдан аж 30 октября 1882 года.
Правда, не единожды обманутый Павел Егорович все равно сомневался в окончании сыновней учебы.
«Папаша во времена оны не верил, что я кончил курс в университете, потому что не видел моего диплома», – спустя годы усмехался Александр.
Итак, Университет, наконец-то, в прошлом. Дядя Митрофан с едва скрываемой иронией витиевато поздравлял брата Павла:
«Уважаемое письмо Ваше принесло много нам радости и сердечного удовольствия тем, что доставляет мне честь поздравить милого Сашечку с окончанием полного учебного курса высшего образования, доступного человечеству, длившегося около двадцати лет. Потрудился, голубчик, дай Бог теперь пожинать благие плоды сих трудов».
А «голубчик, потрудившийся на почве доступного человечеству образования двадцать лет», растерянно озирался вокруг: где же ему теперь «пожинать благие плоды от трудов»?
В Москве ничего не получилось, но был еще Таганрог, этот «проклятый на семи соборах город», куда он зарекся никогда не возвращаться.
«КРАПИВНОЕ СЕМЯ»
Поначалу Александр рассчитывал устроиться учителем в таганрогскую гимназию. Когда-то, в далёком сентябре 1875 года, счастливый первокурсник Саша Чехов писал родителям: «Если я буду плохо заниматься, то буду учителем математики…». Но не случилось даже этого.
По российским законам того времени право преподавания в гимназиях без особого на то испытания давал только диплом со степенью кандидата. Однако Александр надеялся на протекцию директора гимназии, у которого квартировал гимназистом.
«Его желание есть, как он мне говорил, повидаться с Директором гимназии насчет места себе, потому что очень трудно найти теперь где-либо хорошее место в Гимназии», – разъяснял Павел Егорович жене.
Но Эдмунд Рудольфович Рейтлингер, человек ответственный, к преподавательскому составу «вверенной ему гимназии» относился ревностно и видел, с кем имеет дело. Да и какого серьёзного работодателя может заинтересовать студент-выпускник без аттестата, прошедший четыре курса университета за семь лет!
В результате:
«У Директора я был во время его завтрака, но к столу допущен не был».
Место нашлось в Таганрогской складочной таможне. Там в связи с прошедшими скандалами о хищениях появились вакансии.
ИЗ СЕМЕЙНОЙ ПЕРЕПИСКИ
«Милый папа! Жалованье получаю ограниченное, благодаря Университету, который не высылает Таможне моих документов, чем просто губит меня, потому что уже второе тысячное место уплывает от меня благодаря отсутствию документов», – жаловался он.
И с горькой иронией писал брату Ивану:
«Я – самый настоящий чиновник. Получаю жалованье, чины, ордена и получу пенсию, если доживу до 100 лет. Встаю рано, с должности прихожу поздно и имею массу свободного времени… Помышляю заняться переплетничеством».
«Мы живем, здравствуем и мучаемся с прислугой. Анна здорова, дочка растет. Завел кур, дрожу над каждым яйцом и, в общем, сильно напоминаю своего Фатера.
По службе я – на точке замерзания: т.е. на таком месте, где я могу без повышений проторчать и месяц и двести лет. Начальством и судьбою доволен и мало по малу облениваюсь в благодушного щедринского обывателя».
Это было крушение.
Преданная мечта об «ординарном профессоре математики» обернулась горькой реальностью, ненавистным чиновничеством. «Крапивное семя»17 – мазохистки подписывал теперь Александр свои письма.
Он, когда-то задиравший нос перед простыми таганрожцами (для него они были – «головы дыньками»), стал мишенью для шушуканий и насмешек и отныне был обречен на тоскливое обывательское существование, которое презирал и высмеивал.
Но самым страшным было не это. В Москве, несмотря на беспорядочный образ жизни, всегда была возможность удовлетворять свою главную страсть – заниматься любимой химией, читать, анализировать серьезные книги: оставаться «университетским человеком». От отсутствия «достойного» общества Александр маялся, завел толстую тетрадь, что-то вроде дневника, и, назвав ее «Мои ежедневные, подневные, почасные и вообще скоропреходящие мысли», стал записывать:
«Сегодня я прочел главу из „Критики отвлеченных начал“ Соловьева за чаем жене и Николаю Агали. Оба ничего не поняли и видимо скучали, хотя и слушали, склоняясь перед моим авторитетом – человека умеющего понимать такую по их мнению (и в сущности) белиберду».
Через полтора года, в марте 1884 года, он вырвался, наконец, в Москву, и в дневнике появилась ликующая запись:
«Это Благовещение ознаменовалось тем, что я, живя в Москве, оказался свободен на целый день. Уж и отпраздновал же я этот день! С Антоном наболтался о научных предметах, с Николаем о художестве, с Иваном поспорили! И на целые сутки я почувствовал себя новым, хорошим, университетским человеком!»
Александру Чехову «посчастливилось» послужить в трех российских таможнях.
После Таганрога была Сухопутная таможня Петербурга с теми же тоскливыми письмами:
«Сочиняю отношения и ответы «во исполнение предписания…». Убиваю в себе дух разума и мышления. Будущее у меня очень блестящее: через 45 лет беспорочной службы я могу получить пенсию».
Таможенная карьера Александра Чехова закончилась в Новороссийске.
«И вот я на Кавказе в жалком городишке, где нет ни одной газеты, ни одного журнала, ни одной книги. Все знают друг друга и все давно приелись один другому. Интересы сосредоточены на базаре и на том, что у кого варится к обеду. В 8 часов вечера все спит. Ни мысли, ни слова…
И вот я лежу и напрасно стараюсь уснуть.
А в голову, как назло, лезут воспоминания. Вспоминается университет, живые речи, живые люди, любимая работа, химическая лаборатория, ночи, проведенные за книгой. Тоска гложет все сильнее и сильнее. Завтра будет то же, что было сегодня, что было вчера. Стать разве скотом: напиться пьяным до бесчувствия, до самозабвения?! Может быть, и удастся заснуть?
– Меграбьянц! Достань водки…
– Слушаю, ваши благороды, толки теперь нилза: вездэ заперта…
– Тьфу!
Скоро ли утро??..», – писал он в рассказе с символическим названием «В ссылке»18.
"Я стараюсь заглушить в себе все живое, все человечное, стараюсь обезличиться и сделаться обывателем, способным волноваться и ругаться из-за перелетевшего через забор петуха", – это уже из письма сестре.
В Новороссийске Александр попытался было «похимичить». Результат этой попытки он отразил в другом рассказе – «От рук отбился». В нем жена приходит к начальству жаловаться на мужа:
«Натащит домой в пузырьке разной дряни и целую ночь с микроскопом сидит, глаза мозолит. Завел себе банки и склянки, ступки разные. Я, говорит, химией занимаюсь. Разве это чиновничье дело? Придешь к нему с лаской, станешь рассказывать по хозяйству: на тридцать две копейки мяса, на две копейки моркови, на три хлеба, а он только одно отвечает: «Голубушка, оставь ты меня в покое. У меня, говорит, только одно утешение и осталось в химии».
«НОВОЕ ВРЕМЯ»
В конце 1886 года чиновничья жизнь Александра завершилась19. Отныне он сотрудник петербургской газеты «Новое Время». В его обязанности входили, в частности, и посещение разных техническо-археологическо-экономических обществ.
О, это был бальзам для его изголодавшегося по науке ума. В определенном смысле Александр возвратился в состояние ученичества, чему он с восторгом и предавался.
«Сегодня у меня выдался особенно приятный денек. Я целый день ездил из Общества в Общество. В кармане у меня лежит разрисованный красками бланк «Нового Времени», на котором изображено, что я – сотрудник. Это – открытый лист, с которым я могу совать свой нос во всякое собрание, учреждение и проч.
На этих заседаниях я учусь. Мне кажется, что это продолжение лекций в университете. Выходя, жалеешь, что скоро кончилось, и с нетерпением ждешь продолжения. Суворин, прочитав несколько моих отчетов, сказал: я искал человека, чтобы поменьше врал в ученых сообщениях, а Вы еще дальше пошли, совсем ученым слогом излагаете и не врете. Похвально, но странно. У меня до сих пор термометр с барометром смешивали», – рассказывал он брату Ивану.
В Питере Александр Павлович возобновил и свои занятия любимой химией: «Ничего не поделаешь, сильна химическая жилка», – писал он в дневнике. Целые страницы этого дневника, исписанные мелким почерком, посвящены анализу опытов то по изготовлению березовых или кампешевых чернил, то фотобумаги, то линолеума, то по работе с гипсом.
Одаренный живым аналитическим умом, острой наблюдательностью, феноменальной памятью, его мозг требовал непрерывной мыслительной работы.
Даже выращивание овощей и разведение кур он превращал в педантичную научную работу с таблицами, графиками, выводами. И это не было чудачеством и забавой, как считают некоторые его биографы, эта была неистребимая тоска по науке, по «загубленному» университету.
По своей природе Александр действительно был вечным студентом в высоком смысле бесконечной потребности познания.
«Ты одарен свыше тем, чего нет у других: у тебя талант. Если они [люди] имеют в себе талант, то уважают его. Они жертвуют для него покоем, женщинами, вином, суетой», – эти слова, адресованные Чеховым брату Николаю, в равной степени можно отнести и к Александру.
Истинным делом его жизни должна была стать Наука, но он не захотел жертвовать ради нее «ни вином, ни женщинами, ни суетой».
Ни много лет назад, ни теперь он ничего не мог сделать с «пламенной и страстной любовью к той почтенной даме, которую зовут водкой. Я в нее влюбился с молодых лет. От пьянства я уже отвыкнуть не могу». И осталось только признание: «Я горько оплакиваю свою разбитую жизнь».
В год своей смерти Александр Чехов писал двоюродному брату: «Не зарывай себя, не погрязай в засасывающей тебя тине, не губи таланта!», – повторив тем самым заклинания отца и брата Антона, когда-то адресованные ему.
1
Сохранилась и более ранняя автобиография Александра Павловича, написанная в 1901 году еще при жизни Чехова. В ней автор сообщает достоверные сведения: «Высшее образование получил в Московском университете по естественному отделению физико-математического факультета».
2
Сын М. П. Чехова, и тоже биограф семьи Чеховых.
3
Пять лет обучались только на медицинском факультете.
4
В начале 1875 года П. Е. Чехов из-за финансовых проблем вынужден был перейти из купеческого сословия в мещанское.
5
Здесь и далее сохранены особенности правописания и лексики Павла Егоровича: заглавные буквы в середине предложения (что, впрочем было характерно для того времени), его коронное – нада – вместо надо и т. д.
6
Так в Таганроге называли дом, где жил и умер Александр I, и домовую Крестовоздвиженскую церковь.
7
Э. И. Дзержинский, учитель математики в таганрогской гимназии, отец будущего чекиста – «железного Феликса».
8
Н. П. Чехов поступал в Училище живописи, ваяния и зодчества.
9
Из-за резко ухудшившихся торговых дел П. Е. Чехов не мог помогать сыновьям.
10
Подробнее об этом в главе «Неизвестный Малышев».
11
В привилегированный круг А. Д. Макаровой (Телепнёвой) входили генерал-губернатор Москвы В. А. Долгоруков, городской голова Москвы С. М. Третьяков; директор учительского института А. Ф. Малинин репетировал ее внуков; профессор Г. А. Захарьин, что жил через дорогу, был семейным доктором.
12
См. Александр Чехов. От Агафопода Единицына до А. Седого. Неизвестные рассказы, водевиль и повесть. Издательские решения, М., 2021
13
Иван, женатый еще с 1879 года, с женой и двумя детьми зажил помещиком в имении Жизлово. Он – мировой судья, земский гласный, член училищного совета, депутат от дворянства г. Кром. Иван дослужится до статского советника. Умрёт в 1910 году. Леонид, талантливый математик, будет преподавать в Учительском институте математику и физику, заменив в этой должности умершего директора института, знаменитого А. Ф. Малинина. Некоторое время Леонид с Александром будут переписываться, но переписка быстро сойдет на нет. Известие о смерти друга от чахотки в 1892 году Александр Павлович получит от Антона.
14
Чтение «Речей…» Чехов язвительно описал в «Скучной истории».
15
Имя Ал. Чехова появится в списках университетских выпускников только за 1883 год.
16
Подробнее об этом в главе «Антоша, не женись!»
17
Крапивное семя, бумажная душа, чернильная крыса и т. д. – презрительные прозвища чиновников.
18
См. Александр Чехов. От Агафопода Единицына до А. Седого. Неизвестные рассказы, водевиль и повесть. Издательские решения, М., 2021
19
Подробнее об этом в главе «Агафопод Единицын и Антоша Чехонте»