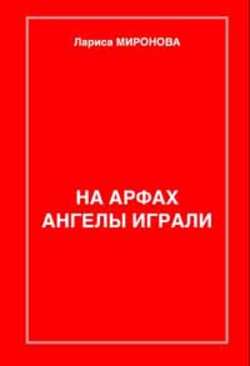Читать книгу Круговерть - Лариса Миронова - Страница 3
ИВАН да МАРЬЯ
Часть первая
3
ОглавлениеНезаметно пришел ноябрь, и мелкая надоедливая морось без устали барабанила по закрытым ещё засветло ставням. Как-то вечером, когда уже двор был закрыт, и все сидели дома, глухо лязгнула клямка на калитке.
– Иван! Квортку адкрый! – крикнула Мария мужу, который в зале читал газеты. – Хтось иде.
Она возилась на кухне с большим, начищенным до блеска самоваром, подсыпая в него угли и подкачивая воздух сапогом. Однако самовар никак не разгорался, даже сухие щепки не помогли. Коротко прогорев, они погасли, оставив в помещении запах смолистого дыма и копоти.
Лицо Марии сделалось бурым от натуги, испачканный сажей лоб сплошь покрывали мелкие бисеринки пота. Белая хустка сползла на затылок и грозилась вот-вот упасть и открыть всему свету красивые волнистые волосы Марии, скрепленные на затылке коричневым гребешком.
– Иван, ти ты йдешь?
Стучали всё настойчивее – ту-тук-так! Ту-тук-так!
– Иду, иду… – ответил муж и, надев калоши, вышел в сени. Он ещё долго не мог открыть дверь – то ли дерево от сырости разбухло, то ли крючок никак не выходил из кольца, но он не сразу ответил пришельцу, стоя ещё какое-то время на крыльце.
– Тьфу ты, госпади! Не адарвецца нияк! – ругалась ему вслед Мария. – Што у той газетине пишуть такое, что й чалавека не бачыш зза яе? Чаго не адкрывашь, а, Иван? – крикнула она в сени.
Алеся лежала на печке, на теплых кирпичах, под боком у неё примостился Дым, любимый бабушкин кот. Оба за день намёрзлись и сейчас их дружно сморило в тепле.
Последняя послелетняя красота отходила, уступая место яркой, чудной, пахнущей пряными вкусными запахами осени.
На перекладине над полатями висели связки ровного и круглого, ядреного лука. Терпкий запах, исходивший от него, напоминал об ушедшем лете и теплой молодой осени, когда от начала сентября до самого рождества богородицы можно бегать по улице босиком. Кое-кто из ребятни бегал босиком и до снега, но Алесе этого не разрешалось делать. Эта ранняя осень была особенно вкусной и доброй – в огороде у Марии было полно ещё недозрелых, чуть буроватых помидоров, их со – бирали, боясь измороси и ночных заморозков, а те же, что уже успели покраснеть, продолжали висеть на кустах, наливаясь густым сладковатым соком осени и приобретая чудесный красно-золотистый цвет. В коричневых мочалах дозревала кукуруза, сладкие бураки наполовину торчали из земли и обещали быть очень сладкими в соленом винегрете – именно их Алеся всегда выедала из тарелки первыми, потом уже соленые огурцы с морковью, а лук осторожно отодвигала на самый краешек плоской эмалированной миски. Эти сладкие бураки можно даже сырыми грызть, когда долго не покупают конфет, а сахар в кусках наперечет.
В сенях стояли ящики душистой антоновки – и уже за одно это молодую осень можно было любить бесконечно и жаловать. Алеся улыбалась сквозь сладкую дрёму…
Снова призывно звякнула клямка, и во дворе громко заговорили. Алеся по голосу узнала – пришел бабушкин племянник, а с ним ещё кто-то, кажется, сын.
Мария, выпрямившись в струнку, прислушалась.
Гамонять пад даждем. Ти то нельга у хату увайсти? Она оставила самовар и как была – с перепачканным лицом и черными от угольев руками – вышла вслед за Иваном на двор.
– Дым ты мой, Дымулечка! – ласкала кота Алеся. – Скоро чай поспеет, я его буду пить из блюдечка с грибочками, а ложечкой с узорчиком – есть варенье из вазочки. А тебе, такому хорошему коту, молочка в мисочку нальют. И будешь есть своим розовым язычком – лак-лак! И потом снова залезем с тобой на печку, и будут нам сниться веселые сны – тебе про мышку, а мне – про …
Тут она задумалась – про что бы такое загадать себе сон. Хотелось всего сразу, и она никак не могла сделать выбор. Тогда она обратилась к третейскому судье – коту Дыму.
– Дымуля, а что бы такое мне во сне приснить?
– Вау-у-у! Вау-у-у! – пропел кот, показывая большую розовую пасть в сладком, до самых ушей, зевке.
– А, поняла! Спасибо тебе, Котя! Пусть мне Василисынька приснится, я уже сто лет её не видела. А ты, Дымуля, не ешь мышку, когда она тебе приснится. Только поиграй с ней немножко и отпусти до – мой. Пусть себе скребутся ночью мышки, мне от этого не так страшно в темноте. А я тебе кусочек сала дам.
Алеся прижала к себе Дыма, и тот яростно замурлыкал, сладко впиваясь коготками в её худенькую руку.
– Дымулечка! Ты не думай, мне не очень больно, но лучше бы ты не царапался! – попросила она кота. – А то следы остаются, мама приедет и будет ругать тебя. Подумает, что ты злой кот. А ты кот добрый. Очень добрый. Правда?
Во дворе заговорили громче и все разом. Мария заголосила: «Божа ж мой, божа ж мой! Ти ты ёстяка у свете?»
Когда вся компания ввалилась в хату, принеся с собой холод и сырость, Алеся испугалась ещё больше – Марию было не узнать. Лицо и её и не её одновременно. Глубже обозначились полукружья век. На полотняно-бледном лице разводами сажа. Руки повисли плетьми вдоль тела и мелко трясутся. И только пальцы живут своей нервной жизнью, судорожно перебирая края фартука…
Марию силком усадили на табурет. Иван достал флакончик и накапал из него снадобье на кусочек колотого сахара. Стало совсем тихо, и Алеся услышала, как стучат зубы Марии о стекло. Звук был неуютный и страшный – дз-з-з… т-т-т– …дз-з-з…
Все сели. Мария уже не плакала, сидела спокойно, выпрямив спину и поставив ноги крепко и чуть выдвинув стопы вперед, как если бы собиралась вдруг вскочить и куда-то срочно побежать. И только запекшиеся губы тихо повторяли: «Ах, ты, божа ж мой! Божа ж мой…»
Василису парализовало – случился удар, и отнялись рука и нога. Алеся не могла взять в толк – кто и как, главное, смог отнять их у Василисы? И почему никто её не защитил от злобного врага? И как же она теперь будет ходить к ним в Ветку без ноги? И что будет у неё вместо отнятых конечностей? Но главное – кто, кто отнял? И почему нельзя найти его и забрать назад отнятое?
Эти ужасные «почему» совершенно выбивали её из колеи – но входить в расспросы она не решалась.
Ночью Алеся, прижав к себе мокрого от её слёз Дыма, тихо плакала, повторяя и повторяя сказанные Марией слова – «кольки ёй цяпер марнеть засталося?» А когда она уснула наконец, ей приснился тяжелый сон, будто на Василису напали злые духи и в жаркой схватке отняли у прабабки руку и ногу. Она проснулась среди ночи и в голос заплакала. Прибежала Мария и спросила: «Ти ты незнарок з печки звалилася, деука мая?»
«Нет, бабушка. Я просто плачу, потому что Василисушку жалко-оооо!»
И она опять в голос заплакала, ещё крепче прижав к себе Дыма.
«Не рави, деука. Валкоу накликаешь! Спрадвеку так вядецца – старыя хварэють заужды».
Мария и сама плакала, но в темноте её лица не было видно, и она держалась твердо. Днем же, когда солнце заглянуло в окно, она тоже в голос расплакалась, и Алесе от этого стало почему-то легче. Она почти успокоилась, только губы её продолжали вести свой особый разговор с Василисой: «Бедная моя Василисушка старопечатная, как же ты теперь к нам из села приходить будешь?» – И сама за Василису отвечала: «Да хоть на крыльях прилечу, чтоб тебя повидать!»
И тут Алеся снова припомнила свою детскую мечту – обнаружить, где все-таки эти люди прячут свои крылья от других людей? Тех самых, у которых крыльев нет.
Любовь к бабушке старопечатной была особой – Алеся считала её почти что небожительницей, только по доброте своей живущей на земле, и даже мысли не допускала, что придет такой страшный час, когда Василиса вдруг исчезнет. И вот, наконец, пришла такая ночь, когда не стало слез. Алеся легла на спину, а кот, получив внезапно свободу, не убежал, а сел рядом и, тихо мурлыча, стал тереться усатой щекой о её плечо.
Было воскресное утро, Мария встала раньше обычного – ещё и четырех часов не прокукукало. Алесю разбудил грохот пустых ведер в сенях. Она посмотрела на ходики и спросила испуганно:
– Ба! А куда ты? И мне можно встать? Да?
– Спи, деука. Спи, не тваё дела? На ярмалку парысё павязем. А ты спи.
Мария надела кирзовые сапоги, новый ватник, голову покрыла толстым коричневым платком с розовой обводкой, обмотав вокруг шеи один конец, а другой – расправив на груди клином, взяла с лежанки кашелку и вышла в сени.
– Ба! И я с тобой! – крикнула её вслед Алеся.
– Спи, я табе яблык прынясу и мёду, – ответили из сеней и щелкнул замок на клямке.
– И я с тобой! И я! – кричала Алеся.
Спрыгнув с лежанки, она подбежала к окну, что выходило во двор. Переступая с ноги на ногу и поджимая озябшие пальцы, она стояла на холодных досках пола и уныло смотрела, как во дворе грузят на телегу поросенка два здоровых мужика в телогрейках, подвязанных ремнями. Она заткнула уши, чтобы не слышать визга на смерть перепуганного животного. Она открыла форточку и сквозь слезы закричала:
– Яблок антоновых купишь, ба, а, ба?
– Купишь, кали казу аблупиш! – сердито ответила Мария, помогая мужикам привязывать поросенка.
К счастью, Марии что-то понадобилось взять в доме, и она отперла сени. Алеся, как была, в одной рубашке, выскочила во двор, подбежала к телеге и стала подпихивать постилку под одуревшего от страха и неизвестности поросенка. Один из мужиков взял её на руки и отнес в дом.
Когда телега уехала и в доме стало тихо, она слезла с печки, села на пол перед иконой и сбивчиво, на своем детском языке, объяснила небесной заступнице суть дела – мол, бабушка древлерусская живет на свете с давних-давних времен, может, целых сто лет живет или даже больше, но это ещё не повод – покидать вот так сразу её, Алесину, компанию. А руки-ноги её от работы немножко, конечно, испортились, и нельзя человеку, да ещё такому хорошему, с такими поношенными руками-ногами на белом свете жить. Надо бы ей послать с неба новые руки, и ноги тоже поновее не помешают…
А работать Василисушке больше никто не позволит, просто чтобы ходить к ним, в Ветку могла, вот зачем ей новые руки-ноги нужны.
И всё. И тогда они долго прослужат, и её, царицу небесную, Алеся не станет больше отвлекать по своим детским делам. А если новых запасных рук-ног там, на небе, вдруг не окажется, может, просто закончились и не сделали ещё запас, то, может быть, можно какие-нибудь старенькие починить.
А то как же Василисушке на свете жить – гостинцы ведь надо носить, и чай пить – чашку держать?
Это была её первая серьезная молитва – она даже решилась на посулы, как это обычно делают взрослые, когда о чем-то между собой договариваются, подумав, что надо этой внимательной женщине с грустным ребеночком на руках что-либо пообещать за её работу, и не зная – что именно, сказала про кота – самое большое её сокровище: «Если Василисушка поправится, я ребеночку твоему Дыма отдам! Насовсем! А то малыш твой грустный очень, наверно, скучно ему всё время на руках сидеть. Хочешь? Дым такой ласковый! С ним так сладко спать на печке! И детей очень любит. Будет твоего сыночка ластить».
Немного подумав, она добавила: «А когда лето придет, я тебе явора с болота принесу, целый угол! Будет под иконой стоять и тебя радовать. Ты же любишь явор? Правда?»
Больше она не знала, что ещё можно посулить небесной заступнице – ну не обещать же ей своё «хорошее поведение»?
Перед тем, как закрыть дверь в залу, она помахала рукой женщине на иконе, как своей старой доброй знакомой, и даже, совсем развеселившись от мысли, что теперь Василисушка обязательно поправится, показала ребеночку «гуся» – согнув руку в локте и круто закруглив ладошку, она забавно «гагакала», делая большим и указательным пальцами птичий клюв. Тень «гуся» слабо дрожала в свете лампады, а рядом, по стене в неярких зеленых обоях ползла светлая солнечная полоса.
Женщина на иконе смотрела вполне благодушно…
Пора ставни открывать – весело подумала Алеся и вприпрыжку поскакала одеваться.
…Деньги за поросенка отвезли в Старое Село – на лечение. Да только не помогло. Зиму лежала Василиса «лежнем», а весной, как раз перед Пасхой, померла.
После кладбища все сидели в горнице, за длинным, некрашеным столом и ели из больших общих мисок деревянными ложками густой кисель…
На Пасху да ещё по родительским субботам Мария собирала узелок снеди, и они вдвоем с Алесей отправлялись пешком на Старосельское кладбище. Там Алеся, уже не сдерживаясь, горько плакала, ей вдвое было обидно – и за смерть Василисы, и за непригодность кота для какой-либо серьезной мены. Конечно, разве мог кот, даже самый умный и такой сказочной красы, показаться важным подарком такой важной женщине, а явор ей и так приносят на Троицу охапками. Целый угол!
И она спросила у Марии, когда шли с кладбища домой: «А чем за помощь богу платят?»
Мария не удивилась её вопросу и, немного подумав, ответила: «А ни чым». Алеся задумалась – как же так? Почему бог должен всем помогать бесплатно? И она решила уточнить: «А бог всем помогает?» – «Усим, усим, деука мая, усим, хто без граха».
Так вот оно в чем дело! Она – грешница!
Эта мысль ужаснула её. Особенно страшно делалось оттого, что она, Алеся, спокойно и весело жила на свете всё это время и даже не представляла себе, до какой степени грешна – ведь если кот Дым не смог своей чудесной красотой и вполне человеческим умом искупить её грех, то кто тогда вообще ей поможет?!
И она, богоматерь, могла сильно обидеться за то, что Алеся пыталась задобрить её, пусть и самым дорогим, с Алесиной точки зрения, но совершенно никчемным – по разумению богоматери, подарком…
Потом Алеся в ужасе вспомнила, как в пост Дым съел сливки из кринки, а бабушке сказала, что это она, Алеся…
Грех здесь был двойной – и солгала, и скоромное в пост ела. Не могут же там, на небе за каждой мелочью следить!
Иначе, зачем на исповеди вопросы всякие задают? Она ведь и на исповеди про сливки сказала – что съела их в пост. А кот вообще дома не был. И батюшка поверил…
Получалось, что солгала она дважды – Марии и батюшке. И это – только начало! А сколько ещё всяких других грехов за ней числится? А разбитая бутылка алея? А порез на ноге? А побеги на речку без спроса? А ложь на каждом шагу?
Алеся вполне уже понимала, что прощения ей не будет никогда, и никакие молитвы здесь не помогут…
Она остановилась и сказала решительно:
– Бабушка! Я хочу вернуться.
– Куды? – удивилась Мария, дергая за руку стоявшую столбом посреди дороги внучку.
– На кладбище.
– Чаго ты там забыла?
– Мне надо срочно попросить у Василисы прощения.
– Чаго, чаго?
– Прощения. За то, что я ей напрасно обещала новые ноги.
– Чаго?
– И руки тоже, – сказала Алеся, безнадежно вздохнув и опуская голову.
– Ну, пайшли, – внимательно глядя на неё, сказала необычно тихим голосом Мария, и они вернулись с полпути.
Алеся сидела на траве, рядом с могилкой и горько плакала о том, что вот так живешь на свете и даже не понимаешь, что уже успел всем навредить. А эта женщина с небес смотрит своими зоркими глазами, и ничего не упускает.
Всё про всё помнит…
И ей стало неприятно думать о том, что ещё в будущем строгая богоматерь заметит со своей высоты и обязательно припомнит когда-нибудь, когда ты уже про этот свой грех и думать совсем забудешь. Конечно, она не какая-то там вреднючка злопамятная. Просто у неё работа такая – она должна быть справедливой ко всем.
Но всерьез обидеться на женщину с маленьким скорбным ротиком и большими печальными глазами всё же не получилось – да, просто у неё работа такая! Она и сама, наверное, переживает, что ей надо всё время приглядывать за людьми, запоминать, что они там, на земле, такого страшного нагрешили. Может, ей тоже иногда хочется просто так поиграть со своим ребеночком, как другим женщинам, разрешить ему немного пошалить, а для этого надо отвернуться или закрыть глаза, но она не может, у неё нет времени. Ей надо всё время смотреть за людьми…
Вот и сидит она день-деньской с несчастным младенцем на руках, который чуть уже не плачет, хотя и рот не открывает, так ему хочется побегать по траве…
Теперь Алесе стало до смерти жаль богоматерь с её невеселым несчастным младенцем на руках. Ночью, когда все спали, она тихо пробралась в залу, села на пол перед иконой и тихо-тихо прошептала: «Знаешь что, за Василису я не обиделась, даже не бери в голову, слышишь? Ну же, одобрись!»
Однако глаза на иконе смотрели по-прежнему строго и отстраненно.
Тогда она немного подумала и обнадеживающе добавила: «Скоро и тебе свобода выйдет! Мне Василисушка в старой песне пела. И ты будешь жить, как тебе захочется! И будешь со своим ребеночком на лужайке вольно играть. И никто не закричит – а ну, иди-ка на своё место! И кот у вас свой будет, правда-правда! Может быть, это будет сынок или внучок нашего Дыма…»
Дождавшись, когда Иван снова захрапит, она осторожно выбралась из залы и быстро шмыгнула к себе на печку, в приятное тепло и добрую компанию кота Дыма, которому и во сне не могло присниться, какая заманчивая перспектива внезапно появилась у его потомства.
Иногда она смотрела на плачущую Марию и рассуждала втайне: вот случись такое горе с её бабушкой, Марией, она, Алеся, не станет дожидаться воскресенья, чтобы пойти на базар и продать там что-нибудь, а сразу даст телеграмму хоть в саму Москву, потому что Иван всегда говорит, когда сердится на неё за каверзные вопросы – ума палата, хоть в саму Москву посылай!
А это могло означать только одно – уж где-где, а «в самой Москве» всегда точно знают, что и как надо делать в разных там опасных случаях. И пришлют тогда «из самой Москвы» самого лучшего доктора. «Вылечи мою бабушку!» – попросит она самыми добрыми словами, а потом, когда Мария излечится, она будет работать на этого доктора хоть всю свою жизнь. Пока не заработает столько денег, сколько стоит самое дорогое лекарство на свете. В Москве всё есть. Там даже есть кто-то страшный, который по радио всё время грозится, что съест народных депутатов. И она как-то тихо спросила, чтобы дедушка не услышал, не депутат ли их Иван? На что Мария сердито ответила – «адчапися»!
Теперь Алеся внимательно приглядывалась к тому, как Мария ходит. Однажды, когда ей показалось, что Мария начала прихрамывать, она, как бы невзначай, сказала: «Бабуленька, давай с тобой посидим на крылечке. Ты мне страшную сказку расскажешь».
Мария отвечала всегда одинаково – не замай! А сказок не знала или не помнила, садиться отказывалась и продолжала делать свою бесконечную работу. Алеся настаивала, чувствуя непосильный груз ответственности за свою последнюю доступную бабушку, и та, наконец, удивленно спрашивала: «А ти ты стамилася? Иди у хату, бяры книжки и разглядывай малюнки».
Книжек в Алеси было много. А читать она выучиась так – пришла как-то к ним в гости из Старого Села племянница Марии, Алеся её и попросила научить читать. Та взяла карандаш и написала на коробке от домино – «ЛОРКА-КОРКА». Буквы она запомнила и из них сама уже написала несколько новых слов – «кора», «крок», «рока», «кола».
…Через неделю Алеся снова пристала к ней – напиши новые слова. Та по – смотрела на её записи и рассмеялась: «Это что за „рока“?» – «Ну вот», – сказала Алеся, показывая на свою руку. Девушка исправила ошибки и объяснила, что не все буквы звучат одинаково – в разных словах они произносятся по-разному. Алесю это очень удивило и даже показалось глупым – а почему же нельзя придумать буквы на каждый звук? И она стала придумывать разные значки для обозначения различных звуков. Для известных ей в письменном виде слов она нарисовала два десятка картинок, а когда её домашняя наставница спросила, весело смеясь, что это за иероглифы, она, до близких слез обидевшись, с достоинством непонятого лингвиста – серьёзно, хотя и несколько отчужденно, ответила: «Так… Чтобы люди не путались».
Ей выдали тетрадь, в которой были записаны три десятка слов в форме знакомых стихов-считалок:
«Дождик, дождик, перестань, мы поедем на Ростань, богу молиться, Христу поклониться!», «На золотом крыльце сидели…» и других, тех, что дети обычно выкрикивают на улице, когда вместе играют.
Так была освоена грамота, и Алесе стали доступны не только картинки, но и сами тексты в книгах. Она сама нашла библиотеку, записалась в неё и первым номером взяла две самых интересных – «Конек-горбунок» и «на Баррикадах» – обе книги были в ярких, с рисунками, обложках. На печке, за трубой, нашла ещё и старый учебник истории для пятого класса.
Отчего же такие плоские тела у воинов? – думала она, разглядывая изображение колесницы и всадников на конях. – И головы повернуты набок! У тех, кто на троне…
Её это очень удивило, она не могла отделаться от назойливой мысли о том, что в этой очевидной глупости художника, возможно, есть какая-то жуткая тайна. И вдруг её осенило – ну, конечно, всё просто – он, этот правитель, просто глухой на одно ухо! Вот и повернул голову набок, чтобы лучше слышать своих подданных!
Зато «Конек-горбунок» был без таких вот каверзных закавык – простой и веселый, как и положено сказке. Вот только жалко рыбу-кит, зачем же ей спину плугами пахать? Больно ведь все-таки…
А может, это вовсе и не рыба, а живой остров. Хочет, стоит на месте. А не захочет – возьмет и пойдет на дно! Наверное, и в этой истории есть своя закавыка.
Книжка «На баррикадах» была тоненькая, и картинки в ней не цветные, хотя тоже очень интересные. Дети воюют! И как странно они одеты! Воюют, потому что тоже хотят, чтобы воля поскорее вышла.
Эту волю, плененную неизвестно кем и неведомо когда, Алеся себе представляла в виде женщины в большой светло зеленой шали, с распущенными волосами по пояс, с красивыми длинными глазами до висков, и обязательно с цветами в руках – розовыми, желтыми и голубыми.
Идет она, эта воля, через леса и болота и смотрит вдаль, и явор перед ней расступается и ласково стелется под ноги…
Как давно жили фараоны, Алеся даже вообразить себе не могла, потому что самым большим ощущаемым количеством была для неё цифра «сто и даже больше» Записывала она это так – единичка два нуля. Причем второй ноль был высокий и жирный, раз в пять больше нуля первого. Вот это и было – больше ста. А тут – целые тысячи лет! Сколько это – ничего не ясно. Сто – это два полных кармана листьев липы. Она их могла сосчитать. И десять – тоже понятно, это помещается в одной руке, из десяти листьев клена можно сделать небольшую гирлянду на этажерку с книгами. Но тысяча!
Теперь это новое для неё количество прочно было увязано с образом фараона, хоть и страдающего на одно ухо слуховым расстройством, но все-таки чуткого к нуждам своих верноподданных.
Когда, наконец, размышления о понятии тысяча настолько надоело, что перестало её тревожить – просто очень-очень много и всё, она удивилась другому невероятному открытию – как давно люди за волю воюют! Ведь и в учебнике с фараоном на обложке было написано то же самое…
И тут её объял дикий, совершенно неведомый ей до этого страх. Она опять обманула! И кого?! Эту тихую грустную женщину с ребеночком на руках, которая и мухи не обидит и всем верит на слово! Ведь та могла подумать, что воля совсем скоро выйдет, может быть, даже этим летом! Она ждет-пождет себе, ребеночка успокаивает – скоро, скоро шалить будешь, сколько хочешь, и даже на речку один побежишь гулять по воде, – а воли всё нет и нет!
А что «воли нет», она точно знала от Василисушки. Иван тоже говорил, и Мария часто говорит – была б моя воля!
Значит, её нет, этой самой воли. Никто ведь не будет мечтать о том, что у него уже есть. Она стала внимательно следить за иконой, иногда ей казалось, что глаза тоскующей женщины делались такими грустными, что казались совсем черными.
И тогда она снова приходила к ней ночью. Осторожно садилась на пол и тихо шептала: «Потерпи маленько, ну чуть-чуть потерпи! Скоро уже, скоро…»
А младенчику, чтобы стал чуть-чуть веселей, показывала «гуся» и «собачку». Глаза у ребеночка веселели, но ротика он так и не открывал…
…Однажды Мария разбудила Алесю рано, когда ещё Иван на работу не уходил.
– Годе спать, у церкву пойдем. Свята сення. Сафия.
– Ба, а Дым пришел?
– Нямашака.
Дым пропал неделю назад, тоже был праздник – рождество богородицы. И тоже они с Марией в церковь рано ходили.
Алеся бегала по улицам и спрашивала у всех – не попадался ли кому на глаза её кот, большой такой и очень красивый. Однако никто кота не видел, и только старуха Тося, что жила у самого луга, сказала, будто видела похожего кота из окна. Его машина сшибла, но не насмерть, а просто оглушила. Тут, откуда ни возьмись, появилась нищенка с клюкой, завернула кота в лопух и положила в свою котомку. Тося вышла в проулок, чтобы сказать нищенке, что кот хозяйский, а той уже и след простыл…
Они ждали, что кот вдруг придет, возникнет из ниоткда, без никаких поисков, но Дыма все не было и не было. Алеся спрашивала о коте уже привычно, безо всякой надежды, и слезы снова комом встали в горле и мешали дышать.
Она спрыгнула с лежанки, быстро оделась и побежала во двор.
Ей стало трудно дышать – от колючего свежачка по утрам уже бывало морозно, а не просто прохладно, но умывались всё ещё из рукомойника за крыльцом. Однако едва открылась дверь, глазам её предстала картина, от которой дыхание прекратилось вовсе. То, что она увидела, казалось ей волшебным продолжением чудесного предрассветного сна. На крыльце сидели два больших, просто огромных кота!
Она протянула руки и осторожно прикоснулась к одному из них. Кот был наяву!
Потом она потрогала второго – он тоже был живой!
Нет, это ей не снится. Коты самые настоящие. Они были совсем ручными и, ласково мурлыча, гудели, как трансформатор, когда Алеся их гладила по блестящим черным спинкам. Один кот был немного толще и крупнее второго, но они всё же были братьями, так она почему-то решила. Глаза их были одинаково янтарными и круглыми и смотрели доверчиво и по-детски. Темная, почти черная блестящая шуба, мех под мышками коричневый, на шее у младшего красовалась белая звездочка, у второго, он был крупнее – белая перевязь на животе.
Она взяла их на руки и едва дотащила до печки, каждый кот весил, наверное, как пять буханок хлеба. Младшего кота она назвала Звездочкой, из-за белого узора на шее. Того же, что был больше ростом и толще, Софоклом, или – Софиком, за его спокойный и полный мудрости взгляд.
Так начался праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.
Не дождавшись возвращения Дыма, Алеся для себя решила, что вся эта волшебная история может иметь только одно объяснение – Дыма богоматерь все-таки взяла себе. А ей взамен дала двух своих котов. Из этого следовало, что у небесной царицы есть всё, даже чудесные красивые коты, почти такие же замечательные, как и её Дым. И, вообще говоря, она, богоматерь, могла бы и без её Дыма обойтись, но все же мена состоялась, хотя и не такая, на которую надеялась Алеся. Но как же насчет воли? Выходило, что и воли небесной царице не надо. Она у неё и так есть. Просто она её не употребляет без надобности, так ей, наверное, хочется. Вот дедушка тоже мог бы по выходным на службу не ходить, а ходит! Особенно когда квартал кончается. И чтобы квартал не умер окончательно. Он и ходит на работу в свой выходной. И это – по своей собственной воле.
Конечно, кому приятно смотреть, когда кто-то кончается. Даже если этот «кто-то» просто квартал. Он стонет, мечется, ему плохо…
Тут всякий по своей воле пойдет помочь.
Как он кончается, Алеся точно не знала, но Иван, без всякого сомнения, своим присутствием на службе мог ему, этому кварталу, конечно, как-нибудь помочь.
Теперь Алеся о Дыме хоть и вспоминала по-прежнему часто, но уже без той угрюмой тоски и противного кома в горле, что в перые дни после его исчезновения. Она верила в то, что Дым не пропал, и ему сейчас хорошо.
– Ба! – спросила как-то Алеся. – А ты почему книжки не читаешь?
– А што у тых книжках такого, чаго мне не хапае? – отвечала вопросом на вопрос Мария.
Но Алеся видела, что есть в этом какая-то закавыка. И она прямо спросила: «А ты в школу где ходила – в Старом Селе или здесь, в Ветке?» Мария вытерла руки о фартук и сказала: «Я у школу хадила адну зиму. Работы у матки было многа. Некали было у школу хадить».
Всё встало на свои места. Теперь Алеся понимала. Почему, когда приносили пенсию, бабушка говорила: «Иди, деука, распишися, не ведаю, дзе мае ачки».
И добавляла, повернувшись к почтальонше: «Не гляди, што малое. Яна грамату знае. Няхай расписваецца».
А когда дверь закрылась, и они остались одни, Алеся сказала ласково и настойчиво, тесно прижимаясь к мягкому животу Марии: «А давай, я тебя учить грамоте буду!»
Мария сначала отмахивалась – а йди ты! Но потом согласилась и читать выучилась скоро.
«Я адну зиму у школу хадила», – сказала Мария и принялась писать крупные неровные печатные буквы.
Слово же писала пока только одно – свою фамилию, только первые буквы «Рома» и потом длинный хвост-росчерк. И это было здорово – теперь не надо искать вечно потерянные очки, когда принесут пенсию, а внучки не окажется дома. Вывески же она читала легко – «райсобез», «горпо», «раймаг».
«Райсобез» отдавал чем-то сочувствующим, «горпо» было словом жестким и строгим, а вот «раймаг»…
Это последнее, волшебное слово давно интриговало Алесю – маг в раю! Но, когда они туда зашли с Марией, оказалось, что рай там действительно был, в смысле – было много всего, а вот мага обнаружить не удалось. Хотя про хмурого продавца с маленькими ручками и толстым животом Мария сказала как-то в разговоре с Иваном – вельми крутамозки! И это могло означать только одно – он умел крутить мозгами. А это, конечно, настоящий фокус. И не каждый так умеет.
Алеся удивлялась, сколько есть на свете слов, настоящее значение которых просто невозможно узнать. Об их смысле можно только догадываться.
Скоро она сделала ещё одно важное открытие. Относилось оно теперь уже не к отдельным словам, а целым предложениям. Люди говорили и писали одно, а понимали под этим совершенно другое. Когда она читала в книге, что кого-то в воду опустили, становилось ясно, если дальше прочесть, что этот кто-то просто имел унылый вид. А когда в ту же воду опускали концы, то это надо было понимать, что кто-то что-то важное хочет скрыть. А кануть в воду значило просто хорошо спрятаться. Когда с гуся текла вода, то понимать надо было, что кто-то очень хитрый и умеет притворяться, что ему всё «по балде», как говорит её дружок Сенька. А когда кто-то прошел через воду и огонь, это значило, что его много били, а если кто-то мог броситься в огонь и воду, это значило, что человек этот храбрый умный и хитрый. Потому что мокрая одежда не горит. А если кто-то мутил воду, то понимать это надо было так: этот кто-то не просто хитрый, а ещё и обманщик. Если кто-то ловил рыбу в мутной воде, то попадались ему не караси и окуньки, а деньги, и наверное, монетками… А если кто-то не мутил воду, то был это человек тихий и простой. А тот, кто в воду глядел, просто был колдуном. Кто же носил воду решетом, был от рождения бездельником или просто дураком. Кто же писал по воде вилами, явно хотел кому-нибудь голову задурить. Если же кто-то набрал в рот воды, то ясно было, что он просто обиделся или почему-то не хочет разговаривать. А кто сидел на хлебе и воде, тот просто ничего не ел. Лить воду на мельницу означало кому-то поддакивать, наверное, тому, у кого эта мельница была. Кто же был седьмой водой на киселе, просто притворялся родственником и своим человеком. А уж кто мог выйти сухим из воды, тот был ужасно опасным и хитрым человеком. Кто же умел ходить по воде, тот был самим Христом.
Так много этих мудростей было связано с водой, что Алеся даже пошатнулась в своей вере – в то, что люди произошли от птиц. Наверное, они произошли от рыб. И жизнь их была такой, что надо было всё время делать вид, что ты думаешь совершенно не о том, о чем на самом деле думаешь. Вот они и придумали разные хитрости со словами.
И теперь совершенно понятно, почему кто-то воду толчет в ступе или каких-то людей водой не разольешь, сколько её ни лей…
Эти невозможные тайны занимали её воображение, но более всего ей хотелось знать – кто же все-таки был тот ужасный, кто хотел всех съесть?
Она, слушая утром радио, лежала на уже остывшей печке и мечтательно думала, как, должно быть, сказочно красивы заснеженные стены Кремля. Сам Кремль она видела на картонной упаковке духов «Красная Москва» – в виде башни, у жены начальника почты, когда ходила играть с их дочкой. Но снега на этом Кремле почему-то не было. А ведь должен был быть! В песне ясно сказано – утро красит снежным светом стены древнего Кремля. А снежным свет делался оттого, что Кремль был весь в снегу. Неужели тот, страшный, затаился где-то там, у прекрасных стен заснеженного Кремля, и ловит момент, чтобы жадно съесть народных депутатов…
Жуть!
И ещё одна непонятность – волшебные кустракиты над Москва-рекой! Она хорошо себе представляла эти огромные деревья, и под их корнями, которые уходят далеко под воду, живут большие красные раки, и может, этот страшный как раз там и спрятался и теперь ждет своего часа? Однако никто не знал наверняка – почему стены Кремля снежные, и каково оно на самом деле – это волшебное дерево кустракита. Не знала племянница Марии, что за чудесные кустракиты растут в родном, навек любимом крае, не знал и сам Иван. Мария же просто сказала – адчапися! И Алесе ничего другого не оставалось, как ещё и ещё раз вслушиваться в слова песни, которую каждое утро передавали из Москвы по радио какие-то простодушные и беспечные люди – «Край родной, навек любимый – кустракиты над рекой»…
Вот они поют и радуются чудесным кустракитам над рекой, и никто-никто не знает, что скоро этот страшный съест народных депутатов и даже самого капээсэса. А этот неведомый капээсэс, уж конечно, кто-то очень непростой!
И оттого, что всё-всё было так непонятно, и никто ничего не хотел толком объяснить, становилось ещё страшнее.
Однажды Алеся попросила Марию отвести её к Ивану старшему, отцу её дедушки. Мария сказала, что он совсем старенький и живет «сам» – книжником, а это означало, что он не любит, когда его беспокоят. Но всё же в родительскую субботу, когда ходили на кладбище, зашли и в маленький домик на краю села. Там жил её прадед Иван.
По дороге Алеся спросила:
– А где Василиса жила?
– А тута, – сказала Мария, показывая на домик прадеда.
И тогда она впервые рассказала Алесе, что мать Василисы звали Марией, а бабушку – тоже Василисой. И жили они вовек в этом домике. А когда Василиса слегла прадед Иван, к тому времени уже овдовевший, переселился к ней в домик и, сам уже слабый, как мог, ухаживал за хворой. В селе говорили – сошелся со своячницей. И, таким образом, был Алесе, по линии Марии и Василисы, как бы прапрадедом.
Прадедушку Алеся видела первый раз. Он был очень похож на старичка из книжки волшебных сказок. Волосы на голове были черными, глаза синими, а нос и лоб составляли одну линию в профиль. На полке между окнами стояли книги, сам старичок, в очках на веревочке, что-то внимательно читал и, казалось, не заметил их прихода. Они поздоровались, Мария, немного поговорив с хозяином, ушла, оставив Алесю наедине с маленьким старичком в очках на веревочке.
– А что ты читаешь, дедушка? – спросила Алеся.
– Книгу, – ответил прадед, откладывая чтение и ввнимательно разглядывая девочку. – И ты читай книги, на свой только разум не надейся. Толикая есть слабость человеческого рассудка, что если мало отдалится от вещей, им осязаемых, из заблуждения в заблуждение ввергнется, то как возможно человеку льстить себя достигнуть единою силою своего рассудка до понятия высших вещей. Блаженство рода человеческого много от слова зависит. Как бы мог собраться рассеянный народ, как бы мог он строить грады, храмы, корабли, ополчаться против неприятеля и другие, требующие союзных сил, дела творить, если бы способа не имел сообщать свои мысли друг другу? А язык, которым Российская держава великой части света повелевает, имеет такое природное изобилие, такую красу и силу, что никакому иному языку не уступит, и даже пребудет впереди. Вот что такое наша речь.
– Дедушка, а речь – это речка? – спросила Алеся, весело засмеявшись.
– Речь – это речка. Но течет в её русле не вода, а человеческая мысль. Это ты правильно заметила сходство. Учись красноречию, и всегда впереди твои мысли будут.
– А красноречие – это…
– Это есть искусство – перебил её прадед, – искусство о всякой материи красиво говорить и тем преклонять других к своему об ней мнению. А ты, я вижу, хоть и мало воспитана, что всё старших перебиваешь, а всё ж природные дарвания имеешь. Это хорошо. Особливо важно иметь хорошую память и остроумие, это в учении так же важно, как и добрая земля для чистого семени. Ибо как семя в неплодной земле, так и учение в худой голове тщетно есть и бесполезно.
Алеся мало что поняла в этом его долгом, как зимняя ночь, высказывании, но, помня его замечание, вежливо кивала и продолжала внимательно слушать. Не только возражать или переспрашивать, а даже вольно говорить какие-то слова этому волшебному старичку, она уже не смела. Из длинного наставления своего ученого предка она поняла только одно – раньше люди все книги знали наизусть. И если Алеся хочет чему-то научиться и что-то познать, она должна, прежде всего, научиться запоминать и вспоминать.
Дома уже, лежа на печке, она долго думала – как этому можно научиться.
«Сам Иван» был самым, наверное, грамотным человеком и в селе, и в городе Ветка. Во всяком случае, так про него говорили, когда кто-то что-либо не мог для себя уяснить – у граматея спытали?
К Ивану ходили на суд даже буйные соседи. Он всегда говорил тихо, даже немного медленно, и с ним никто не спорил.
И он, её ученый дедушка, тоже ничего не говорил. Наверное, тоже ничего не знал! Потому что если бы знал, обязательно сказал бы про этого страшного…
Но Иван молчал, а если говорил, то про экономический потенциал Ветки и про новый мост, который скоро построят через Сож.
Когда началась война с немцем – в 14-м году, Ивана, тогда уже женатого, взяли в штаб, писарем. Вернувшись с войны, тут же подался в Гомель, не долго крестьянским трудом тешился. Тогда он увлекся экономическими вопросами, а в Гомеле работал известный в то время молодежный кружок «Мы – за свободу и разум». Первые лекции были посвящены национальному экономическому вопросу, и товарищи Ивана по новому увлечению много и бурно выступали на тему о том, почему это свободным считается то, кто может позволить себе бездельничать, а если ты в поте лица добываешь свой хлеб, то ты – раб, потому что работаешь!
Мария не стала, да и не смогла бы, ему перечить. Не было тогда такой моды – мужа поучать. Ушёл на чистую жизнь – значит, так надо. Виделись они теперь только по воскресеньям и праздникам.
На той же улице, где жили Иван и Мария, поселился Акимка, старинный Мариин ухажер. Отец его ушел с белополяками и осел где-то на Западней.
Марию он заприметил, когда та совсем ещё молоденькой девицей была, было это на Спаса. Акимка вез яблоки на ярмарку, а Мария за мёдом на базар наладилась – припарки медовые Василисе на ноги делать. Сядай, подвезу! – Ну, села. Слово за слово, дорога незаметно прошла.
Потом ещё раз-другой в Старое село заглядывал, сам же был халецкий, версты полторы от них будет. И вдруг пропал, куда девался, никто не знал. Отец жил бобылем, слова из него лишнего не вытянешь…
Когда вернулся, Мария уже замужем была, он, год промаявшись под чужими окнами, женился, взял в жены Марыльку – маленькую, неврзачную полячку с весьма крутым, однако, нравом. Поляков ещё много оставалось в этих краях и после двадцатых.
И побежали годочки один за другим зима – лето, зима – лето, зима – лето…
Настал тридцать шестой.
Одиннадцатого июля готовились праздновать шестнадцатую годовщину освобождения. Мария тоже на митинг пошла, ей, как жене председателя райпотребсоюза, было строго предписано посещать все общественно-политические мероприятия.
На Красной площади, перед магазином сельпо и на Советской площади – перед райкомом партии было полно народу. Куда ей надо, она точно не знала. Решила пойти на всякий случай на Красную. С ней была и младшая дочка Броня. И не ошиблась – Иван стоял на трибуне. Мария указала дочке на него.
– Гляди, вон твой батька! Слухай, што казать будуть.
Броня захныкала, ей хотелось побежать к подружкам и заняться привычным делом – беготней по улицам, пока домой не загонят уроки делать или по хозяйству что помочь. Но Мария сильно дернула её за руку – «тиха стой!»
Иван говорил недолго – поздравил ветковчан с праздником и уступил место у микрофона гостю из края. Тот, напротив, говорил долго и громко.
– Дорогие братья! – начал он, прокашлявшись. – Я – белорусский рыбак с озера Нарачь, теперь для вас я, ваш брат, западник. Страшенные бедствия терпим мы там, хлеб едим только на Каляды, а в другие дни – только бульбу, да и то не досыта. Про яйца и масло и думать забыли, это для нас – роскошь. Спичек тоже не покупаем. Из одной хаты в другую горшочек с углями носим. Огонь добываем из кремния, как якия-то приматы. Керосин могут купить самые богатеи. А тут ещё стали строить военные заводы, и земли наши отымать стали и отдают их асадникам – служкам фашистским! Вот какая у нас жизнь там настала, братья!
У оратора заиграли желваки, стиснув кулак, он погрозил на запад, невидимому лютому врагу.
Все дружно захлопали и громко закричали – долой! Долой! Долой!
Мария слушала и незаметно поглядывала на небо – лениво тянулись длинные седые облака, белесое солнце просвечивало сквозь них слабо и нежарко. Бульбу апалоть нада. Ти паспеем да начала дажжей?
Ей было жалко людей, которые едят «только бульбу», а хлеб – на Каляды. У них тут было и сало, и гусятина. Хозяйство в Ветке держать не хлопотно, не так, как на селе. Луга здесь рядом, за околицей, трава высокая, сочная, корму скоту хватало. На поле сеяли жыто, просо и пшеницу. Кукуруза росла в огороде, на задах. Семья Ивана и в селе не была бедняцкой, но и кулаками их не числили, так что отбирать ничего не стали. Семья большая была и дружная, в бедность никому впадать не давали. И теперь, в городе Ветка, связь с селом не кончилась – Иван им денег посылал, а ему оттуда – яиц да бульбы, куриного пера на подушки, льна на простыни.
…На трибуне сменился оратор. Теперь говорил человек из обкома.
– Вот тут товарищ с Западняй рассказал нам про их трудную жизнь, а я от себя добавлю последнюю информацию – только на одном Полесье отобрали у людей тридцать тысяч га земли. А ещё больше – на Виленщине. – (В толпе прошел ропот.) – Да, это так – Западные Украйна и Беларусь теперь стали колониями! Внутренними колониями Польши! – (Шум в толпе митингующих всё усиливался.) – Их вице-премьер Квятковский на днях заявил: есть теперь две Польши – Польша «А» и Польша «Б». А что это значит? А то. В Польше «А» сосредоточена вся промышленность, почти все культурные и научные учреждения. А вот десять миллионов наших бывших граждан на Западняй не имеют даже своих национальных школ! А в польские их не пускают! Вот и получается, что большинство наших братьев – теперь неграмотные. «Злочынцами» объявляют тех, кто требуют открытия национальных школ!
Пока шел митинг, Мария передумала все свои думы – и про бульбу, которую надо спешить окучить, и что корова стала туго доиться, и пол подойника не нацедишь. И что Франю, старшую, хвароба змучыла…
– А что это ты, бабонька, не хлопаешь, когда товарищ секретарь говорит? – шелестел прямо над ухом знакомый голос. – Га?
– А йди ты, сатано! – отмахнулась Мария от Акимки, во все глаза глядя на трибуну и ощущая холодок в спине, между лопаток и противную тяжесть в ногах.
Она ждала пятого ребенка и знала, что родится мальчик, живот не раздался вширь, а торчал бугром. Четвертое дитя умерло при родах год назад.
– Мам, а, ма! – канючила Броня. – А пойдем домой!
– Тиха, деука. Цыц! – усмиряла Мария дочку, едва сдерживая тошноту.
На другой день было гулянье, и во всех окрестных колхозах объявили выходной. Правление выдало каждому колхознику по десять рублей.
С утра небо хмурилось, временами слабо накрапывал дождик, но к полудню погода разгулялась, а в шесть часов вечера в сквере над рекой заиграли фанфары.
Здесь сейчас была вся Ветка. На деревянной площадке, где всегда по субботам и выходным играл духовой оркестр, стояло несколько человек. – «Ти то ж апять митинг буде?» – подумала Мария, крепко держа Броню за руку, но тут из тарелки громкоговорителя с треском и жужжаньем выплеснулось звучное – «Трудящийся народ горячо любит своего вождя!»
Со всех сторон закричали «урра!»…
Пока волны аплодисментов катились от сквера к реке, над Сожем заклубился легкий туман и летний сумрак подполз тихо и незаметно и накрыл собою все окрестные улицы и заулки.
К пристани подошли моторки, степенные и нарядные мужики, разодетые бабы и девки, веселая ребятня – вся эта пестрая толпа шумно повалила к причалу и загрузилась на украшенные фонариками и гирляндами палубы. На каждой играл свой духовой оркестр. Катались по реке долго, потом гулянье продолжилось в сквере. Вспыхивали фейерверки, заглушая друг друга, играли вразнобой оркестры…
Напрасно Мария высматривала мужа, за весь день он к ней так и не подошел ни разу. Она его видела издалека – вокруг Ивана всё время толпились какие-то дядьки. Зато Акимка крутился вьюном, и на моторку тоже сел вместе с ней, на ту же палубу. Лицо его, нагловатое во хмелю, всё время оказывалось как раз там, куда она направляла свой взгляд. Один раз он даже наступил её на ногу, что на местном языке влюбленных означало неуклюжую попытку объяснения в чувствах. Мария так свирепо глянула на него, что он больше не решился мозолить ей глаза и дальше и подался к мужикам.
– Нияк на тябе глаз паклау, – со смехом сказала Домна, незамужняя соседка Марии, отсыпая в карман Марии тыквенных семечек. – А што ж твой чалавек няйде?
– Ня балтай, балаболка! – сердито сказала Мария, ожесточенно лузгая семечки.
– А чыя гэта маладица пайшла? – переключилась на другую тему Домна. – А каму вон той сваяк буде?
– Погулаяем, красавицы?
Снова возник Акимка и тут же был изгнан вдруг сделавшейся стро – гой и неприступной Домной:
– А ты сиди, бес!
Акимка втянул голову в плечи и понуро побрел в темноту. Мужик он был ничего, хоть как посмотри. Да не было у него таланта нравиться людям. Все его от себя гнали, и мужики и бабы. А тут ещё за отца насмехаются – выродок кулацкий!
Сейчас он стоял один, безо всякой компании, в тени акаций и смотрел злыми глазами на веселую толпу. Вот был бы он председателем или хотя бы старостой халецким, не так бы с ним обходились – не гоняли бы от себя, не насмехались…
Он завидовал многим, но больше всех – Ивану. Грамотей, тудыть его в качель! Был бы Акимка на его месте, он бы ни на минутку не отпускал от себя эту красавицу кужлявую!
Мария, родив четверых детей, ещё краше стала, чем в девках была. Не испортили её фигуру роды, не портила её и беременность. Бедра стали шире, но талия упрямо возвращалась к прежнему, девичьему размеру.
Густые черные волосы вились ещё бойчее, светло-карие глаза смотрели смело и открыто, спина, хоть Мария и таскала тяжести, как все другие бабы, тоже оставалась прямой и неширокой, как у девки. А уж как наденет в праздник плюшевую жакетку в обтяжку, так и заноет Акимкино сердце, так и заноет в бессильной тоске…
Здесь, в этих краях, Акимка видал разных баб – были и такие раскрасавицы, что хоть завтра за шляхтича отдавай, не осрамишься. И хороши, и статны, но в Марии был, кроме красоты и стати, ещё и свой гонор – этим прямым открытым взглядом янтарных глаз она его и сразила в первую же встречу. Откуда у девки-беднячки такие глаза безбоязные?
«Паненкай паглядае! А годы выйдут, такая же старая стане!» – говорила про неё Марылька, перехватывая тоскующий не по ней взгляд мужа.
Да. Пройдут годы, и она, эта раскрасавица, тоже сделается старой, сгорбленной, как все старухи в округе, Работа на хозяйстве кого хочешь укатает!
Но даже эти мысли не могли утешить Акимку и погасить его тяжелую страсть. Даже старую и сгорбленную, он бы её желал так же пламенно и нестерпимо. Была бы его воля – убил бы, чтобы никому не досталась, раз судьба отвела ей другого мужчину.
Как-то Марылька сказала в сердцах:
– Всё сохнешь по своей красуле? Паненкой из курятника всё бредишь? А своя жонка лагодная не люба тебе? А то бабы казали…
– Паненка и есть. Значится, квас не про нас. И не слухай ты хлусню бабскую. Ничога не было.
– Ах ты, жук гнаявы! – кричала на него Марылька и била неверного рушником.
Однажды, ненароком встретившись на улице у колодца, Акимка подошел к Марии – будто помочь ведро на коромысло подцепить, и тихо, почти в самое ухо, сказал:
– Что это ты, бабонька, всё зыркаешь на меня, как на ворога? А я ж тебя, любка моя, больше жизни кахаю.
– Няужо? Адчапися! – тихо крикнула Мария, расплескивая воду. Но Акимка совсем забыл осторожность – близость любимой женщины совсем помутила его разум.
– Иди да мене, красуля, Ивана сення в селе нетути.
Мария поставила ведра на лавку у колодца и прошипела ему в лицо:
– А ты усё больш нахабны робишся! Я ж тябе, штоб ты знау, болей смерти ня хочу! Нашморгае табе Иван загрывак! Вот пабачыш! Прыде час!
– Ишь ты, панна якая! Чем я не подохожу, а? Мужик как мужик. Не пальцем, знаешь, делан! А ты кто такая супратив меня? Весь ваш род ганарливы, штоб вас усих… – злобно сказал Акимка и отошел в сторону. А когда Мария прошла шагов десять по тропке, негромко крикнул ей вслед: «И нечего нос драть! Нихто ты. Поняла? Нихто передо мной! Поняла, ты, хлусливая баба?»
Мария не обиделась на его грубые слова – она их уже не слышала. Она любила своего Ивана, была с ним обвенчана, и даже думать о том, что кто-то мог бы встать между ними, в её голову не приходила и не могла придти.
Судьба такая – жить за Иваном. А судьбу не меняют. И никакой мужик на целом свете не мог для неё хоть что-либо значить.
…Акимка рос незлым мальцом. Только не очень его брали в компании. Да ему и в одиночку не сильно скучно было, любил зверьё, особенно, дворовую собаку, что на привязи у амбара сидела. Ему жалко было псину, и он подкармливал своего мохнатого дружка Каштана, таская из кухни кости и корки хлеба, когда батька не видел. Узнает, порки не миновать. Однажды, когда Акимка отвязал Каштана и пустил его побегать на задах усадьбы, батька так цопнул его за шиворот, что чуть шею не свернул. Тогда Акимка был посажен на цепь и просидел у собачьей конуры до самой ночи. Мать плакала, а батька сказал, что прибьет её, если она отвяжет сына.
После этого случая Акимка стал заикаться, особенно сильно, когда шел к батьке на отчет. Через год бабка-шептуха заговорила, заикаться он перестал, но к собакам подходить не решался. И даже как-то бросил камнем в бродячего пса.
Получилось так, что работники украли мешок зерна из амбара, и Акимка это видел. Батьки он по-прежнему боялся, хотя уже осмеливался в глаза ему смотреть, когда тот брался за плетку.
У Акимки тогда уже усики пробивались. На девок начал заглядываться. Против батьки идти он, конечно, не мог, но и себя в обиду давать не спешил.
Он видел, как мужики мешок с амбара тащили, не потому что пожалел их, а просто батьке хотел отомстить – вот никому и не сказал. Когда батька стал дознание вести, один мужичок всё про больную жинку что-то мямлил, мол, с печки не слезает, хворая, у другого – детей полон двор, вечно голодных…
После десятой плетки этот, последний, стал кричать, что их нечистый попутал, «смутил з розуму».
«Вон твой пацаненок видел! Супротив своей воли в амбар залезли!» – так кричал мужик под плетью, а батькина рука уже тянулась к его, Акимкиной шее.
Мужиков отпустили, а нерадивый сын был порот до потери пульса. После наказания его отнесли в клеть, и там он лежал всю неделю. Только мать могла к нему заходить, да и то когда батьки дома не было.
Он долго молчал молчуном после этой экзекуции, а как спина зажила, словно другим человеком стал. Ему уже не страшно было, когда батька мужиков наказывал. Он сам приходил смотреть, и, сначала со стыдом, а потом – с тайной гордостью, он стал замечать, что эти картины волнуют его кровь.
Он теперь чувствовал себя совсем взрослым.
Однажды весной он видел, как буренка, разрешившись от беремени, закатила лиловый глаз и издохла, высунув изо рта большой бурый язык…
Он потом часто вспоминал эту подыхающую корову – во всех ужасных подробностях и красках, как слюна, тягучая и темная, текла изо рта, и как ноги её судорожно дергались на грязном полу хлева.
Где-то за грудиной начинало сладко ныть, а в ногах поднималась приятная истома…