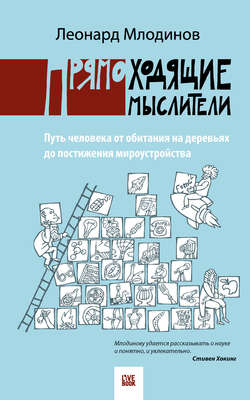Читать книгу Прямоходящие мыслители. Путь человека от обитания на деревьях до постижения миро устройства - Леонард Млодинов - Страница 5
Часть I
Прямоходящие мыслители
Глава 3
Культура
ОглавлениеТе из нас, кто смотрится по утрам в зеркало, видит то, что мало кто из животных распознает: себя. Кто-то из нас улыбается своему отражению и шлет себе поцелуй, есть и такие, кто стремится скрыть этот кошмар косметикой или бритьем и не выглядеть неряхой. Так или иначе по сравнению с животными человек реагирует на свое отражение необычно. А все потому, что где-то на пути эволюции мы, люди, начали осознавать себя самих. Но важнее другое: мы стали отчетливо понимать, что лицо, наблюдаемое в отражении, со временем покроется морщинами, зарастет волосами в неловких местах и, что еще хуже, перестанет существовать. Иными словами, мы впервые осознали свою смертность.
Наш мозг – ментальное «компьютерное железо», и ради выживания у нас развилась способность мыслить символами, задавать вопросы и рассуждать. Но «железо», стоит им обзавестись, можно применять много к чему, и, по мере того как воображение Homo sapiens sapiens скакнуло вперед, осознание, что все мы умрем, помогло повернуть нам мозги к экзистенциальным загадкам вроде «Кто главный в космосе?». Как таковая загадка эта ненаучная, однако дорожка к вопросам «Что есть атом?» началась с подобных раздумий, не говоря уже о более личных – «Кто я?» и «Можно ли мне изменить окружающую среду себе в угоду?». Именно превзойдя свое животное происхождение, мы, люди, сделали следующий шаг, чтобы стать биологическим видом, отличительная черта которого – думать и задавать вопросы.
Перемена в человеческом мыслительном процессе, приведшая нас к размышлению о таких предметах, назревала, возможно, десятки тысяч лет, начавшись примерно сорок тысяч лет назад или около того, когда наш подвид начал демонстрировать поведение, которое мы считаем современным. Но до полной зрелости дело дошло лишь двенадцать тысяч лет назад – где-то под конец последнего ледникового периода. Ученые именуют период от двух миллионов лет назад до этой точки палеолитом, или древнекаменным веком, а последующие семь-восемь тысяч лет – неолитом, или новокаменным веком. Названия происходят от греческих слов «палайо» (древний), «нео» (новый) и «литос» (камень). Обе эпохи характеризуются применением каменных приспособлений. Хотя поразительное изменение, приведшее нас из палеолита в неолит, мы называем «неолитической революцией», дело не в каменных инструментах. Дело в том, как именно мы думаем, какие вопросы задаем и что в нашем существовании считаем значимым.
* * *
Люди времен палеолита часто мигрировали и, как мои сыновья-подростки, шли туда, где еда. Женщины собирали растения, семена и яйца, а мужчины, в основном, охотились и обдирали чужую брошенную добычу. Эти кочевники перемещались каждый сезон, а иногда и каждый день, пожитков имели немного, двигались за потоком щедрот природы, терпели ее суровость и выживали ее милостью. И все равно изобилия любых мест хватало лишь из расчета один человек на квадратную милю[33], и потому почти весь каменный век люди прожили в маленьких бродячих группах, обычно не более сотни человек. Понятие «неолитическая революция» возникло в 1920-х годах для описания перехода от такого образа жизни к новому бытованию, когда люди начали обустраивать небольшие деревни от одного до десяти дворов и переключились с собирательства еды на ее производство.
С этим переходом произошла и подвижка от простого отклика на окружающую среду к деятельному влиянию на нее. Люди, зажившие в этих селениях, теперь не просто полагались на дары природы, а собирали материалы, в первозданном виде не имевшие ценности, и переделывали их в полезные предметы. Например, эти люди строили дома[34] из дерева, глиняных брикетов и камня, создавали инструменты из самородной металлической меди, сплетали из ветвей корзины, скручивали в нити волокна, изготовленные из льняной соломы и других растений, а также из шкур животных, и плели из них одежду, которая была гораздо легче, пористее и проще в стирке, чем облачения из цельных шкур, которые человек носил прежде. А еще эти люди лепили из глины и обжигали горшки и кувшины, в которых можно было готовить еду или хранить ее излишки.
На первый взгляд, изобретение предмета вроде глиняного кувшина кажется не мудренее осознания, что носить воду в кармане затруднительно. И действительно, до недавнего времени многие археологи считали, что неолитическая революция – лишь приспосабливание с целью упростить себе жизнь. Климатические перемены конца последнего ледникового периода, то есть десять-двенадцать тысяч лет назад, привели к вымиранию многих крупных животных и изменили маршруты миграции остальных. Это, как прежде считалось, ухудшило пищевое довольствие людей. Бытовали и соображения, что многие люди наконец доросли до понимания, что охотой и собирательством уже не прокормишься. В рамках такого представления оседлая жизнь и разработка сложных инструментов и других приспособлений – реакция на стечение обстоятельств.
Но с этой теорией есть неувязки. Начать с того, что недоедание и болезни оставляют следы в костях и зубах. Тем не менее, в 1980-х годах исследования останков скелетов никакого такого ущерба не выявили, а это может означать, что люди того времени от недостатка питания не страдали – напротив: палеонтологические свидетельства говорят нам о том, что у первых земледельцев было больше проблем с позвоночником, хуже зубы, сильнее выражены анемия и недостаток витаминов[35]. Они и умирали раньше, чем их предшественники – люди-собиратели. Более того, становление земледелия, похоже, происходило постепенно, а не в результате какого-нибудь большого климатического потрясения. Да и к тому же во многих первых поселениях не обнаружено никаких следов ни окультуренных растений, ни одомашненных животных.
Мы склонны считать первоначальный образ жизни человечества, связанный с поисками еды, эдакой суровой борьбой за выживание наподобие реалити-шоу, в котором уморенные голодом участники живут в джунглях и вынуждены есть крылатых насекомых и помет летучих мышей. Разве не проще была бы жизнь собирателей, располагай они инструментами и семенами из «Домашнего депо» и сажай брюкву? Необязательно: исходя из исследований немногих оставшихся охотников и собирателей, живших в нетронутых девственных районах Австралии и Африки аж до 1960-х годов, кочевые сообщества многотысячелетней давности наслаждались «материальным изобилием»[36].
Обычная кочевая жизнь состоит из временной оседлости и проживания на одном и том же месте, пока ресурсы на досягаемом от стоянки расстоянии не истощатся. Когда это случается, собиратели уходят. Поскольку все имущество необходимо переносить на себе, кочевникам мелкие предметы ценнее крупных, они довольствуются минимумом материальных благ и в целом почти не проявляют собственничества. Эти особенности кочевой культуры сделали кочевников бедными и нуждающимися в глазах западных антропологов, в XIX веке начавших изучать этот период жизни человечества. Но кочевники, как правило, не заняты изнурительной борьбой за пропитание и за выживание в целом. На самом деле, как показывают исследования племени сан[37] (также именуемого бушменами) в Африке, их собирательская деятельность продуктивнее сельскохозяйственной у европейских фермеров времен перед Второй мировой войной, а более широкое изучение групп охотников-собирателей c XIX и до середины ХХ века демонстрирует, что средний кочевник трудился ежедневно по 2–4 часа. Даже в выжженной африканской области Добе, где годовой объем осадков всего шесть-десять дюймов, пищевые ресурсы, как выяснилось, «и разнообразны, и обильны». Примитивное земледелие, напротив, требует многих часов потогонного труда: земледельцам приходится перетаскивать камни и валуны, снимать дерн и вскапывать тугую почву, применяя для этого простейшие орудия.
Подобные соображения наводят на мысль, что старые теории о том, почему человек перешел к оседлости, – еще не всё. Ныне многие считают, что неолитическая революция была не в первую очередь переворотом, подстегнутым практическими причинами, а скорее умственной и культурной революцией, питаемой ростом человеческой духовности. Эта точка зрения подтверждается одним из поразительнейших археологических открытий нашего времени – замечательным свидетельством, показывающим, что новый подход человека к природе не следовал за развитием оседлого образа жизни, а, скорее, предвосхищал его. Это открытие – впечатляющее сооружение под названием Гёбекли-Тепе, что, пока это место не раскопали, по-турецки означало «Пузатый холм».
* * *
Гёбекли-Тепе[38] расположен на вершине холма на юго-востоке современной Турции, в провинции Урфа[39]. Это потрясающее сооружение выстроено 11 500 лет назад, за 7000 лет до Великой пирамиды, геркулесовыми усилиями не оседлых людей времен неолита, а охотников-собирателей, еще не оставивших кочевой образ жизни. Но поразительнее всего в нем его назначение. Предвосхищая еврейскую Библию примерно на 10 000 лет, Гёбекли-Тепе, судя по всему, был религиозным прибежищем.
Колонны Гёбекли-Тепе образуют круги диаметром до шестидесяти пяти футов. У каждого круга есть две дополнительные Т-образные колонны в центре – в виде гуманоидных фигур с продолговатыми головами и длинными, худыми телами. Высочайшая из этих колонн – восьмидесяти футов высотой. Ее возведение требовало доставки больших камней, некоторые весом до шестнадцати тонн. Тем не менее постройку произвели еще до изобретения металлических инструментов, колеса и прежде, чем люди научились одомашнивать животных и использовать их как тягловую силу. Более того, в отличие от позднейших религиозных сооружений, Гёбекли-Тепе построили до того, как люди стали жить в городах, где можно было упорядочить мобилизацию рабочих рук. Как писал об этом журнал «Нэшнл Джиогрэфик», «обнаружить, что охотники-собиратели возвели Гёбекли-Тепе равносильно открытию, что кто-то собрал “Боинг-747” при помощи перочинного ножика».
Первыми на это сооружение наткнулись ученые-антропологи из Университета Чикаго и Стамбульского университета при исследованиях региона в 1960-х годах. Они заметили обломки известковых глыб, торчавшие из земли, но, сочтя их остатками заброшенного византийского кладбища, не уделили им должного внимания. Антропологическое сообщество широко зевнуло. Прошло три десятилетия. В 1994 году местный крестьянин наткнулся плугом на то, что впоследствии оказалось верхушкой громадной погребенной колонны. Клаус Шмидт, археолог, работавший в том же районе и когда-то читавший доклад Чикагского университета, решил все же взглянуть. «После минутного осмотра я понял, каков мой выбор: либо уйти и никому ничего не сказать, либо провести остаток жизни, работая над этой находкой»[40], – сказал он. Выбрал последнее и трудился на этих раскопках вплоть до своей кончины в 2014 году.
Развалины Гебекли-Тепе
Поскольку Гёбекли-Тепе старше письменности, никаких священных текстов, чья расшифровка пролила бы свет на проводившиеся в этом сооружении ритуалы, нет. Вывод, что Гёбекли-Тепе было местом поклонения, основан на сравнении с позднейшими религиозными постройками и практиками. К примеру, на колонах Гёбекли-Тепе высечены различные животные, но, в отличие от наскальных рисунков палеолита, это не образы добычи, которой питались строители сооружения, и они не связаны с охотой или другими повседневными делами. Это изображения устрашающих существ – львов, змей, диких кабанов, скорпионов и зверя, похожего на шакала с разверстой грудной клеткой. Их считают символическими или мифическими персонажами – животными, которым позднее начали поклоняться.
Древние люди посещали Гёбекли-Тепе из большой приверженности: постройка находится в полной глуши, и никто до сих пор не обнаружил ни единого признака человеческого обитания в этих местах, за всю историю человечества – ни источников воды тут, ни строений, ни очагов. Зато археологи обнаружили кости тысяч газелей и туров, которых, похоже, приносили сюда с дальних охот. Чтобы добраться до Гёбекли-Тепе, необходимо было предпринять паломничество, и, по некоторым признакам, сюда сходились охотники-собиратели из мест, расположенных аж в шестидесяти милях.
Гёбекли-Тепе «доказывает, что сначала произошли социокультурные изменения, а земледелие зародилось позже», говорит археолог Стэнфордского университета Иэн Ходдер. Возникновение группового религиозного ритуала[41], иными словами, похоже, послужило важной причиной начала оседлости людей, а религиозные центры стягивали кочевников, и так, на основе общих верований и знаковых систем, наконец возникли поселения. Гёбекли-Тепе возвели во времена, когда по Азии еще рыскали саблезубые тигры[42], а всего несколькими веками ранее вымер наш последний родственник не из вида Человек разумный – трехфутовый охотник и создатель инструментов Homofloresiensis[43], похожий на хоббита. И все же древние строители, похоже, уже перешли от практических вопросов жизни к вопросам духовным. «Можно убедительно доказать, – говорит Ходдер, – что Гёбекли-Тепе – подлинная колыбель сложных неолитических сообществ»[44].
Другие животные тоже решают простые задачи насыщения едой, другие животные тоже применяют простые приспособления. Но есть одна деятельность, которая не наблюдается ни в каком, даже зачаточном виде ни у одного животного, кроме человека, – постижение собственного существования. Поэтому, когда люди позднего палеолита и раннего неолита отвлеклись от простого выживания и заинтересовались «не насущными» откровениями о себе самих и своем окружении, был сделан один из наиболее значимых шагов в истории человеческого интеллекта. Если Гёбекли-Тепе – первая или, по крайней мере, первая нам известная церковь человечества, она заслуживает особого места в истории и религии, и науки, поскольку запечатлевает скачок нашего экзистенциального сознания, начало эры, в которой люди взялись прилагать большие усилия, чтобы ответить на главные вопросы о мироздании.
* * *
Природе на создание человеческого ума, способного задавать экзистенциальные вопросы, потребовались миллионы лет, но стоило этому произойти, как всего за крошечную толику этого времени наш вид развил культуры, преобразившие образ и жизни, и мысли человека. Люди неолита начали жить оседло[45], в маленьких деревнях, а по мере того, как они изнурительным трудом добивались большего производства пищи, селения их укрупнились, и плотность населения сильно возросла – от одного до сотни человек на квадратную милю.
Наиболее впечатляющее громадное неолитическое селение – Чатал-Гуюк[46], построенное около 7500 года до н. э. на равнинах центральной Турции, всего в нескольких сотнях миль от Гёбекли-Тепе. Анализ животных и растительных останков показывает, что обитатели селения охотились на диких копытных, свиней и лошадей и собирали дикие корнеплоды, травы, желуди и фисташки, а земледелием занимались мало. Что еще удивительнее, инструменты и приспособления, найденные в жилищах, говорят о том, что их обитатели строили и чинили свои дома сами и создавали произведения искусства для себя самих. Разделения труда, судя по всему, не существовало. Применительно к небольшой стоянке кочевников это не удивительно, однако в Чатал-Гуюке проживало до восьми тысяч человек – примерно две тысячи семей – и все они, по словам одного археолога, «занимались своими делами».
По этой причине археологи не считают Чатал-Гуюк и похожие неолитические деревни городами или даже городками. До появления первого города оставалось еще несколько тысячелетий. Разница между деревней и городом не только в размерах[47]. Она проявляется в общественных отношениях внутри населения, поскольку эти отношения зависят от средств производства и распределения. В городах есть разделение труда, а это значит, что отдельные люди и семьи обеспечивают себе еду и услуги, полагаясь друг на друга. Централизуя распределение нужных всем различных продуктов и услуг, город дает своим обитателям возможность не делать все необходимое самостоятельно, что, в свою очередь, позволяет им заниматься специализированной деятельностью. К примеру, если город становится центром, в котором сельскохозяйственные излишки, собранные земледельцами, проживающими рядом с городом, могут быть распределены между жителями, люди, которые в противном случае практиковали бы собирательство (или земледелие), могут развивать ремесло или делаются жрецами. Однако в Чатал-Гуюке, хотя жители и обитали по соседству, они, судя по сохранившейся утвари, занимались прикладными делами более-менее независимо друг от друга.
Если бы каждой семье требовалось быть автономной – если бы нельзя было добыть мясо у мясника, починить трубы силами сантехника, а намоченный телефон заменить в ближайшем магазине «Эппл», сделав вид, что аппарат не роняли в унитаз, – зачем тогда селиться стенка к стенке, деревней? Связывало и объединяло людей в селениях вроде Чатал-Гуюка, видимо, то же, что тянуло неолитических кочевников к Гёбекли-Тепе: зачатки общей культуры и общие религиозные верования.
Осмысление человеческой смертности стало примечательной чертой этих ранних культур. В Чатал-Гуюке, например, есть свидетельства ранней культуры смерти и умирания, и она сильно отличается от бытовавшей у кочевников. Кочевникам в своих долгих странствиях по холмам и через бурные реки не с руки было таскать с собой больных или слабых. И потому в кочевых племенах, когда приходит пора двигаться с места, стариков, слишком ослабевших для похода, оставляют на стоянке. Обитатели Чатал-Гуюка и других незапамятных деревень Ближнего Востока поступали строго наоборот. Семьи со всеми родственниками зачастую держались вместе не только в жизни, но и после смерти: в Чатал-Гуюке мертвых хоронили под полом жилья[48]. Младенцев иногда закапывали под порогом у входа в комнату. Под одной деревней на раскопках обнаружили семьдесят тел. В некоторых случаях, через год после захоронения, обитатели вскрывали могилу и ножом отсекали покойнику голову – для дальнейшего использования в ритуальных целях[49].
Жителей Чатал-Гуюка не только заботила их смертность, но у них появилось еще одно новое чувство – человеческого превосходства. В большинстве сообществ охотников-собирателей к животным относятся с большим уважением, словно охотник и его добыча – напарники. Охотники не стремятся подчинить добычу, а устанавливают с животными, которые отдадут свои жизни охотнику, своеобразную дружбу. В Чатал-Гуюке, однако, в настенных росписях отображены люди, подманивающие и травящие быков, диких кабанов и медведей. Люди уже не воспринимают себя партнерами животным – они властвуют над ними и пользуются ими так же, как ветками для плетения корзин[50].
Это отношение со временем приведет к одомашниванию животных[51]. За следующие две тысячи лет были приручены овцы и козы, а следом крупный рогатый скот и свиньи. Поначалу происходила избирательная охота – люди прореживали дикие стада, добиваясь возрастного и полового равновесия, и защищали их от естественных хищников. Однако постепенно люди взяли на себя ответственность за все стороны жизни животных. Поскольку домашним животным больше не требовалось о себе заботиться, они развили новые физические свойства, а также и поведение, мозги у них уменьшились, разума убавилось. Растения тоже подпали под человеческую опеку – пшеница, ячмень, чечевица и горох, среди прочих, – и стали предметом заботы не собирателя, но садовника.
Изобретение земледелия и одомашнивание животных катализировало новые интеллектуальные рывки, связанные с увеличением эффективности этих предприятий. Люди стремились теперь постичь правила и закономерности природы – чтобы ими пользоваться. Так зародилось то, что впоследствии стало наукой, но в отсутствие научных методов и понимания преимуществ логического мышления, волшба и религиозные представления смешивались, а иногда и подавляли эмпирические наблюдения и теории с целью более практической, нежели у современной чистой науки: помочь людям присвоить власть над силами природы.
Люди начали задавать новые вопросы о природе, и великое распространение неолитических поселений дало новые возможности на них отвечать. Поход за знанием перестал быть делом единиц или малых групп – теперь можно было объединять вклады множества умов. Вот так люди, хоть и почти оставив охоту и собирательство пищи, объединили усилия в охоте на знания и собирательстве идей.
* * *
В аспирантуре темой моей докторской диссертации стала разработка нового метода нахождения приближенных решений нерешаемых квантовых уравнений, описывающих поведение атомов водорода в сильном магнитном поле вблизи нейтронных звезд – самых плотных и маленьких из всех известных нам во Вселенной. Понятия не имею, почему я выбрал именно эту тему; похоже, не понимал этого и мой научный руководитель, быстро потерявший к ней интерес. Я потратил целый год на разработку различных новых методик приближения, которые одна за другой оказались для решения поставленной мной задачи ничем не лучше уже существовавших и, следовательно, докторскую степень мне бы не заработали. И вот однажды я разговорился с уже защитившим диссертацию научным сотрудником, чей кабинет был напротив моего. Он трудился над новым подходом к пониманию элементарных частиц под названием кварки, которые бывают трех «цветов». (Такое обозначение применительно к кваркам не имеет ничего общего с бытовым определением «цвета».) Затея заключалась в следующем: представить (математически) мир, в котором существует бесчисленное множество цветов, а не всего три. Беседуем мы о кварках, никак не относящихся к моей работе, и тут мне в голову приходит мысль: а что, если мою задачу можно решить, представив, что мы живем не в трех-, а в бесконечномерном мире?
33
James E. McClellan III, Harold Dorn, Science and Technology in World History, 2nd ed. (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2006), стр. 9-12.
34
Многие признаки такого прогресса зародились в более старших кочевых группах, но технические приемы не развивались, поскольку их применение приносило непригодные для бродячего образа жизни результаты. См. McClellan, Dorn, Science and Technology, стр. 20–21.
35
Jacob L. Weisdorf, «From Foraging to Farming: Explaining the Neolithic Revolution», Journal of Economic Surveys, 19 (2005), стр. 562–586; Elif Batuman, «The Sanctuary», New Yorker, 19.12.2011, стр. 72–83.
36
Marshall Sahlins, Stone Age Economics (New York: Aldine Atherton, 1972), стр. 1-39.
37
Там же, стр. 21–22.
38
Andrew Curry, «Seeking the Roots of Ritual», Science, 319 (18 января 2008), стр. 278–280; Andrew Curry, «Gobekli Tepe: The World’s First Temple?», Smithsonian Magazine, ноябрь, 2008, по состоянию на 07.11.2014, http:// www.smithsonianmag.com/history-archaeology/gobekli- tepe.html; Charles C. Mann, «The Birth of Religion», National Geographic, июнь, 2011, 34–59; Batuman, «The Sanctuary».
39
С 1983 г. – Шанлыурфа. – Примеч. перев.
40
Batuman, «The Sanctuary».
41
Michael Balter, «Why Settle Down? The Mystery of Communities», Science, 20 (ноябрь, 1998), стр. 1442–1446.
42
Разговорное именование саблезубых кошек.
43
Человек флоресский.
44
Curry, «Gobekli Tepe».
45
McClellan and Dorn, Science and Technology, стр. 17–22.
46
Balter, «Why Settle Down?», стр. 1442–1446.
47
Marc Van De Mieroop, A History of the Ancient Near East (Malden, Mass.: Blackwell, 2007), стр. 21. См. также Balter, «Why Settle Down?», стр. 14421446.
48
Balter, «Why Settle Down?», стр. 1442–1446; David Lewis-Williams, David Pearce, Inside the Neolithic Mind (London: Thames and Hudson, 2005), стр.77–78.
49
Ian Hodder, «Women and Men at Catalhfyük», Scientific American, январь, 2004, стр. 81.
50
Ian Hodder, «£atalhöyük in the Context of the Middle Eastern Neolithic», AnnualPieviewof Anthropology, 36 (2007), стр. 105–120.
51
Anil K. Gupta, «Origin of Agriculture and Domestication of Plants and Animals Linked to Early Holocene Climate Amelioration», Current Science, 87 (10 июля 2004); Van De Mieroop, History of the Ancient Near East, стр. 11.