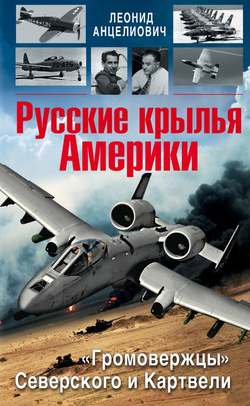Читать книгу Русские крылья Америки. «Громовержцы» Северского и Картвели - Леонид Анцелиович - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Часть первая. Северский
Глава 1. Будущие гении
Летающие Прокофьевы
ОглавлениеСлава и доходы модного артиста оперетты и исполнителя цыганских романсов Николая Георгиевича Прокофьева росли не по дням, а по часам. Многочисленные поклонники таланта певца знают его по сценическому псевдониму как Николая Северского. Он автор и постановщик музыкальных спектаклей, в которых традиции русской оперетты дополняются цыганскими мелодиями и сюжетами. У него уже свой театр, выпускаются и раскупаются его пластинки с романсами. Муж очаровательной и любящей Варвары, отец двух сыновей Александра и Георгия, а также дочери Ники, становится богатым жителем Петербурга. Казалось бы, благополучная жизнь семьи Прокофьевых застрахована от неожиданных перемен. Но это оказалось не так. Всё началось с воскресной поездки всей семьёй в Гатчину, а закончилось страстным увлечением, изменившим дальнейшую жизнь и судьбу Прокофьевых.
В южном пригороде Петербурга по дороге на Лугу и Псков расположился Гатчинский дворец. Здесь, на военном поле Кирасирского полка, впервые в России ещё 11 октября 1909 года заезжий французский механик Жорж Леганье продемонстрировал публике пилотаж невиданного летательного аппарата типа «Вуазен» с мотором. Этому полю суждено было вскоре стать первым аэродромом России, на котором началась подготовка лётных кадров и испытания новых самолётов. Торжественное открытие Гатчинского аэродрома состоялось 26 марта 1911 года, и к этому времени уже 36 русских офицеров имели дипломы пилотов. Взлётно-посадочная полоса размечена и выровнена. На окраине аэродрома построены ангары для самолётов, мастерские, бензохранилище и примитивная метеостанция. На аэродроме находился дежурный врач, и проводился обязательный предполётный осмотр пилотов. Над Гатчиной не смолкал гул летающих самолётов. Самыми популярными были «Фарманы».
Петербургское высшее общество вдруг воспылало необыкновенным интересом к самолётам. О них писали газеты и говорили при встречах. У Российской авиации появились могущественные покровители и щедрые меценаты. Заказывались новые русские самолёты и приобретались французские «Фарманы». Самые смелые петербуржцы из числа военных и штатских захотели летать, среди них были и отважные женщины – спортсменки и актрисы. Посмотреть на аэропланы с близкого расстояния и полюбоваться их полётами в Гатчину приезжало много народа, благо Балтийский вокзал железной дороги был совсем рядом.
Увлечение аэропланами не минуло и семью Прокофьевых. Николай Георгиевич с выросшими сыновьями Сашей и Жоржем после первой поездки зачастил в Гатчину. Там он познакомился с начальником Офицерской воздухоплавательной школы генералом Кованько и заведующим аэродромом штабс-капитаном Горшковым. Знаменитого артиста встречали с большим почтением. Прокофьевым не только показали «Фарман» в ангаре, но и объяснили его устройство. Даже предложили поочередно посидеть на месте пилота.
Теперь дома, когда они бывали вместе, отец с сыновьями обсуждали каждую новую публикацию о самолётах, спорили над каждой фотографией новой модели. Мальчики увлеклись авиамоделизмом. Саша даже придумал конструкцию модели самолёта с соосными пропеллерами, вращаемыми резиновым моторчиком в разные стороны.
При первой же возможности они продолжали наведываться в Гатчину. Кадету Александру было нелегко выкроить время и получить увольнение из Морского корпуса, но иногда это удавалось. И вот наступил день, когда с разрешения начальства сердобольный пилот-конструктор Игорь Сикорский, хороший знакомый отца, покатал Сашу Прокофьева в качестве пассажира на заднем сиденье учебного «Фармана».
Для семнадцатилетнего Прокофьева полёт, по его словам, был изумлением и захватывающим приключением. Он твёрдо решил, что будет лётчиком. В этот день воздушными пассажирами стали его отец и младший брат Георгий. Их восторгам не было предела. Они тоже мечтали самостоятельно летать.
К этому времени на Гатчинском аэродроме открылась частная авиашкола, которую организовал промышленник Щетинин. Она носила название «Гамаюн» по имени мифической птицы, поющей божественные гимны и предсказывающей будущее. В эту школу принимали всех, кто платил деньги. План созрел быстро. Прокофьевы должны поступить в эту авиашколу. Правда, со старшим, Александром, вышла заминка – он не мог отвлекаться от занятий в Морском корпусе.
И вот уже одетый в кожаный лётный костюм, в крагах и сапогах, с высоким кожаным шлемом на голове, знаменитый артист и режиссёр Николай Прокофьев (Северский) гордо восседает высоко над землёй на твёрдом сиденье учебного «Фармана», сжимая правой рукой его ручку управления.
Николай Северский учится летать
Программа освоения самолёта была простой. Сначала полёты с инструктором, потом самостоятельные рулёжки по траве аэродрома и, наконец, несложные полёты. Обучение завершалось пилотским экзаменом. Отец и младший сын Георгий оказались способными учениками, быстро начали самостоятельно летать и получили дипломы.
Как-то сама собой возникла идея купить собственный «Фарман» и арендовать для него место здесь, на Гатчинском аэродроме, в ангаре Всероссийского аэроклуба. Но эта идея категорически не понравилась супруге Николая Георгиевича и матери его дочери Ники.
Варвара Григорьевна Чонкина умела добиваться своего. Она была на десять лет младше мужа, и теперь на ней держалась семья. Статная и привлекательная, она слыла красавицей. Они с Николаем были отличной парой, и, наверное, Бог создал их друг для друга. На восьмом году замужества Варвара была уверена в силе своих чар. Ей не трудно будет уговорить Николая отказаться от этого опасного увлечения. Ведь даже бурная артистическая жизнь мужа и его гастроли по всей России не могли разрушить их любовь и нежные чувства глубокого уважения друг к другу.
В её благородном облике было что-то от западных аристократов. Продолговатое тонкое лицо с удлинённым изящным носом и острым подбородком. Слегка припухлые чувственные губы выдавали страстную натуру. Пышные черные волосы открывали большой лоб и прикрывали слегка выступающие уши. Внимательные, цепкие глаза излучали доброту и приветливость. Идеальная фигура этой некрупной женщины только увеличивала её привлекательность. Но главной причиной небывалого успеха Варвары у мужчин была загадочность её взгляда. Она была умна и образованна, окончила полный курс женской гимназии.
Когда Варвара узнала, что муж собирается купить аэроплан, она поняла, что это опаснейшее занятие летать на механической машине не кончится быстро, как очередное модное увлечение ещё одной технической новинкой. Дело шло к превращению её мужа и его детей в профессиональных пилотов, которые будут днями пропадать на этом опасном аэродроме и находиться в воздухе многие часы. Она прекрасно знала, как часто гибнут лётчики. И перспектива остаться вдовой или потерять детей делала её непреклонной в домашней «войне» против покупки самолёта.
Но сражение она проиграла. Доводы мужа и его сыновей были настолько убедительными и вескими, что она сдалась. Они говорили о техническом прогрессе, о невиданном и перспективном скачке авиации, который перевернёт весь уклад жизни человечества, и о том, что лучшие представители русского народа не могут быть в стороне от этого феноменального явления и должны непременно принять в нём участие.
Вскоре в ангаре Гатчинского аэроклуба появился новенький «Фарман» с мотором «Гном», приобретенный у французов через фирму «Иохим и К°». Он принадлежал знаменитому певцу Николаю Северскому, которого в авиационных кругах Петербурга знали как поручика Николая Георгиевича Прокофьева. Аэроплан был очень дорогой и стоил 14 тысяч рублей. Николай опробовал в воздухе своё приобретение и остался доволен. Затем взлетел и его младший сын Георгий. Он был любимцем всего аэродрома, и за ним закрепилось имя Жорж.
Аэродром в Гатчине жил своей напряжённой жизнью и издалека напоминал муравейник. На взлётно-посадочной полосе всё время взлетали и садились аэропланы. Рядом на поле рулили учебные «Фарманы» с курсантами. И тут и там находились регулировщики с флажками, оберегающие аэропланы от столкновения. По аэродрому ездили автомобили с разными грузами. На стоянках перед ангарами вокруг самолётов суетилось множество механиков и пилотов.
Только год назад командование Офицерской воздухоплавательной школы, готовившей пилотов аэростатов и дирижаблей, решило, что пора готовить русских пилотов и механиков самолётов. Во Францию, в авиационные школы Блерио, Антуанетт и Фармана были командированы шесть офицеров для обучения полётам и шесть нижних чинов для освоения обслуживания самолётов. Вернувшись с дипломами, они стали инструкторами в Гатчинском аэродроме и подготовили здесь много пилотов и механиков самолётов.
Аэроплан Прокофьевых полностью покорился отцу и сыну. Они много летали и уже считались опытными авиаторами. Но, если для Николая Георгиевича полёты в небе над красивейшими просторами земли были волнительным и увлекательным хобби, то для Жоржа это был путь обретения профессии. В авиашколе его стали приглашать обучать новичков в качестве инструктора, а конструкторы новых самолётов из мастерских на краю аэродрома начали доверять ему лётные испытания своих творений.
Какую же белую зависть испытывал кадет Александр Прокофьев, когда ему удавалось вырваться на аэродром и наблюдать полёты отца или брата. Он для себя уже твёрдо решил, что обязательно будет лётчиком. Но пока строгий распорядок и напряженный учебный план Морского корпуса не позволяли ему осуществить заветную мечту.
Но вот наступил 1914 год – последний год обучения Александра. Он уже в старшем классе и гордо носит красивое звание гардемарина. Теперь их обучают всему тому, что должен знать и уметь боевой морской офицер. В составе Второго Балтийского экипажа он уходит в учебное плавание на канонерке «Бобр». Стойко переносит морскую качку даже в сильный шторм и легко управляется с торпедными аппаратами. И тут война – большая, длительная и кровопролитная – Первая мировая. Выпуск гардемаринов в Морском корпусе задержался до декабря. Успешно сдан последний экзамен, и в торжественной обстановке зачитывается высочайший указ о присвоении Александру Прокофьеву офицерского звания мичмана. Вот он, офицерский мундир и погоны с одним просветом! Ему только двадцать лет, и вся жизнь впереди. Но идёт война, и он как боевой офицер должен драться с врагом. Морские сражения уже рисовались в его воображении. А тут оказалось, что корабль, к которому он приписан, стоит в доке на ремонте.
Надо учиться летать! Эти слова бесконечно повторял Александр и писал рапорты начальству. Оказалось, что в это время его желание совпало с потребностью флота. Ещё за два года до войны Морской Генеральный штаб обосновал необходимость создания морской авиации. Самолёты флота должны вести разведку, охранять корабли и базы, а также наносить бомбовые удары по морским целям. Приказом Морского министра Григоровича от 18 мая 1912 года на всех флотах России начали формироваться авиационные подразделения. Тогда же, помимо Гатчины, морских лётчиков начали готовить на Офицерских теоретических курсах авиации и воздухоплавания имени В. В. Захарова на кораблестроительном отделении Политехнического института в Петербурге. Эти курсы существовали на проценты от пожертвования гражданина Франции, Василия Васильевича Захарова. Сейчас, в начале 1915 года, нехватка морских лётчиков стала очевидной и для начальства. Рапорт мичмана Прокофьева был удовлетворен, и он командируется на Офицерские курсы при Политехническом институте.
Здесь преподают теорию полёта, конструкцию самолётов и авиационных двигателей, приборное оборудование самолётов и их вооружение, а также тактику боевого применения авиации. После завершения теоретического курса офицеры направляются в лётные школы для обучения полётам. Мичман Прокофьев получает назначение в Гатчину. Тут его младший брат Георгий, будучи уже инструктором по лётной подготовке, берётся сделать из Александра пилота.
Александр учится летать на «Фармане», 1915 год
Старенький и надёжный «Фарман» оказался самым подходящим для первоначального обучения, и Саша, волнуясь как школьник, облачившись в лётную форму, занимает совершенно открытое место пилота.
Весна 1915 года была в Гатчине тёплой и солнечной. Братья трудились со всей ответственностью. Через неделю после вывозных полётов и рулёжек в отведённом для этого секторе аэродрома Александр вылетел на «Фармане» самостоятельно. Третий Прокофьев начал свою лётную жизнь. Вся программа обучения полётам была пройдена, и мичман Александр Прокофьев уже собирался возвращаться в Петербург в Политехнический институт для сдачи выпускного экзамена. Но у его флотских начальников были другие планы. Они решили сделать из него боевого лётчика и откомандировали мичмана в Севастопольскую авиашколу для освоения скоростного «Вуазена». У этого самолёта уже была полузакрытая кабина и мощный звездообразный мотор с толкающим винтом.
Севастопольская офицерская авиационная школа располагалась в новом посёлке на берегу реки Кача в нескольких километрах от берега Чёрного моря. На краю её лётного поля стояли аэропланы самых последних конструкций, оснащённые пулемётами. Командированные сюда офицеры уже умели летать. Здесь они переучивались на новые типы самолётов и отрабатывали приёмы воздушного боя. Биплан Вуазена покорился Александру с первого же полёта. Он был более маневренный, и на нём очень хотелось закладывать глубокие виражи, пикировать и затем взмывать, ощущая, как перегрузка вдавливает тело в сиденье. Азарт свободного полёта часто захлёстывал рассудок молодого пилота. В воздухе он чувствовал себя как рыба в воде. Когда приступили к учебным бомбометаниям и стрельбам по воздушным целям, Александр проявил себя как расчётливый снайпер, необременённый пилотированием самолёта. Уже начали говорить, что мичман Прокофьев один из лучших курсантов авиашколы. Но в один день всё рухнуло.
Летающие Прокофьевы. Николай с сыновьями Георгием (слева) и Александром
В этот день учебный процесс инспектировало начальство из Петербурга, и полётами руководил сам начальник авиашколы. Александр взлетел вторым и по утверждённому плану должен был провести воздушный бой с лучшим и опытнейшим курсантом авиашколы. При этом ему было приказано изображать немецкий самолёт и позволить «противнику» зайти себе в хвост, чтобы быть условно сбитым. Но в пылу воздушного боя он ослушался приказа и сам зашел в хвост товарища, разрушив так хорошо придуманный патриотический сценарий показательного воздушного боя. Но этого было мало. После посадки «сбитого» самолёта Александр садиться не хотел и продолжал крутить в воздухе замысловатые фигуры, включая пикирование на стоянку самолётов, возле которой стояло всё начальство. Такое поведение курсанта Прокофьева квалифицировали как воздушное хулиганство и неисполнение приказа начальника авиашколы. Его отстранили от полётов, а через несколько дней зачитали приказ: «…мичмана Прокофьева отчислить из Севастопольской Офицерской авиашколы и командировать в Гатчинскую авиашколу для дальнейшего обучения полётам». Это был страшный удар по самолюбию молодого офицера, но пришлось подчиниться и поехать в Петроград.
Так в начале мая 1915 года Александр снова оказался в обществе отца и брата. Теперь, во время войны, они оба служили инструкторами в Гатчинской авиашколе и готовили боевых лётчиков.
Старший Прокофьев решил, что полученные им навыки пилота-любителя сейчас, когда Отечество в опасности, более востребованы, чем его артистическая деятельность. Он добровольно из запаса вступил в действующую армию, сохранив звание поручика.
Николай Прокофьев был уважаемым лётным инструктором, с шиком носил офицерскую форму поручика, молодцевато закручивал кверху кончики усов и уже почти забыл, что для коллег артистов и многочисленных почитателей его вокального таланта он был Николаем Северским. Высоко оценивая его лётное мастерство, начальство даже перевело сорокапятилетнего поручика на боевую работу в Эскадру воздушных кораблей «Илья Муромец». Но он подхватил воспаление лёгких и оказался в госпитале. После выздоровления Николая Прокофьева снова вернули на инструкторскую работу в Гатчину.
Теперь он с младшим сыном Жоржем прилагает все усилия, чтобы их Александр чаще летал над морем на разных самолётах и совершенствовал навыки воздушного боя, ведения разведки и прицельного бомбометания. В конце июня 1915 года мичман Александр Прокофьев успешно сдаёт выпускной экзамен в Офицерских курсах авиации Политехнического института, получает лётный диплом № 337 и звание морского лётчика. Номер диплома говорит о том, что в России в то время подготовленных пилотов было ещё очень мало. Но теперь все трое Прокофьевых были с лётными дипломами и с гордостью носили на правой стороне груди отличительный серебряный знак российских пилотов. На венке из дубовых и лавровых листьев красовались скрещенные мечи, покрытые щитом с двуглавым орлом и развёрнутыми крыльями.
Морской лётчик мичман Прокофьев получил назначение во Вторую базу гидросамолётов на острове Эзель. Сейчас он принадлежит Эстонии и называется Сааремаа. Остров расположен на входе в Рижский залив, и российские гидросамолёты контролировали немецкое судоходство в Восточной Балтике. По дороге в начале июля 1915 года он на несколько дней задержался на базе авиации Балтийского флота в Ревеле, сейчас это Таллин, где предварительно познакомился с боевым гидросамолётом, принятым на вооружение.
Знак пилота Александра Прокофьева
Александру досталась двухместная летающая лодка с крыльями схемы биплан французской фирмы FBA. На воде она держалась уверенно, опираясь при необходимости на подкрыльные поплавки. Звёздообразный двигатель воздушного охлаждения мощностью в 100 л.с. располагался на стойках между крыльями и крутил толкающий винт. Россия закупила три десятка таких машин во Франции, и ещё столько же было построено на заводе Лебедева. Освоить эту летающую лодку для Александра не составит большого труда. И вскоре начнутся боевые вылеты на разведку и свободную охоту за немецкими боевыми кораблями.