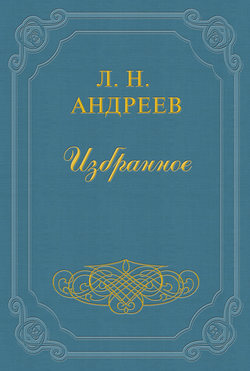Читать книгу Анфиса - Леонид Андреев - Страница 2
Первое действие
ОглавлениеВ доме присяжного поверенного Федора Ивановича Костомарова. Вечер под Новый год. Гости.
На сцене небольшая комната бабушки, отделённая от тех комнат, где гости, коридорчиком и дверью. Перед дверью три ступеньки – дом очень стар, выдержал много перемен, и комната бабушки находится в пристройке. Сквозь неплотную, быть может, кем-нибудь не запертую дверь приносится шум празднества, играет на пианино тапёр, танцуют, что-то все кричат – а у бабушки тишина, покой бесстрастной старости, слабый свет цветных лампадок и небольшой лампы на столе. Постель старухи и киот загорожены довольно высокими ширмами; за небольшим окном царит январская, лунная, беззвучно-звонкая ночь.
Сама бабушка – древняя старуха неведомых лет и всеми позабытой неведомой жизни – сидит, углубившись в кресло, и быстрым, привычным движением вяжет чулок. Одна за другою, повторяясь бесконечно, нанизываются серые петли; догоняют одна другую и не могут нагнать, торопятся по кругу. И поблёскиванию спиц отвечают слепые мигания небольшого, небольшого маятника, едва успевающего хватать летящие секунды, озабоченного до ужаса.
Против старухи, опершись головой на руки, сидит Ниночка, семнадцатилетняя гимназистка, и внимательно смотрит на бесшумное и бесконечное нарастание петель. У неё пышные молодые волосы, и щеки её нежно розовеют; и сидит она тихо, словно очарованная.
Ниночка (не шевелясь, медленно и глубоко) Бабушка! Скажи ты мне… (Недоговаривает и смотрит, словно считает петли. И опять:) Бабушка, скажи ты мне…
Бабушка (ворчливо и ласково). Скажи, скажи! Все тебе скажи. Нечего говорить, все сказано. Скажи…
Ниночка. Бабушка, скажи ты мне… Ты много жила на свете, и ты все знаешь, и ты все можешь рассказать, если захочешь. Скажи ты мне, бабушка, как это происходит – Новый год? Я не понимаю. Мне все кажется, что, как только пробьют часы двенадцать, сейчас же, в ту же минуту раскроются огромные ворота, и в них увидишь… что? Бабушка, что?
Бабушка молчит.
Ниночка. Не хочешь говорить. Жалко! А я уверена, что ты видишь и могла бы сказать, если бы захотела. Но ты никого не любишь и оттого молчишь. Дядя Федя говорит, что тебе сто лет, бабушка, – правда это, скажи? И будто позади тебя лежит такой длинный, длинный путь, что ты умеешь немножко видеть и впереди. Правда это, скажи?
Бабушка (посмеиваясь). Умею. Умею.
Ниночка. И ещё он говорит, что ты вовсе не глухая, что ты все прекрасно слышишь, а только притворяешься. Он говорит, что ты хитрая, лукавая, злая раба, которая знает много чьих-то преступлений и оттого боится говорить и не хочет слышать. Скажи, это правда? Ты слышишь или нет?
Бабушка. Тебя слышу.
Ниночка. А дядю Федю?
Бабушка. А его нет. Дядя Федя, дядя Федя…
Ниночка (смеётся). Ну, и хитрая же ты!
Бабушка утвердительно кивает головой и вяжет.
Ниночка. Бабушка, скажи: а отчего умер твой муж? Я видела его карточку в альбоме, он ужасно похож на дядю Федю, и такой же красивый. Вот странно: ты совсем старая, а он ведь молодой. Уже не старятся те, кто умирает. Как просто и странно! Скажи, отчего он умер?
Бабушка. Не слышу.
Молчание. Ниночка, прищурившись, разглядывает старуху и покачивает головой.
Бабушка. Музыка играет?
Ниночка. Играет.
Бабушка. Танцуют?
Ниночка. Танцуют… Мне вдруг стало там так скучно! Петя Тройнов пьян и все лезет ко мне с объяснениями; глупый мальчишка, который воображает, что он влюблён и что будет очень страшно, если он напьётся. Скажи, бабушка, что такое любовь? Не хочешь, так я тебе скажу: это юное, мучительное чувство. Когда человек любит, он сразу становится такой же безумно старый, как и ты, и начинает помнить то, что было десять тысяч лет тому назад. Ты думаешь, мне семнадцать лет? Это тебе семнадцать, а мне десять тысяч лет. К сожалению, я не могу сказать всего, а то у тебя волосы поднялись бы дыбом… Ах, мне делать, что мне делать!
Бабушка. Делать, делать… Нечего делать, все сделано.
Ниночка. Ты знаешь, дядя Федя все время с Анфисой.
Бабушка. Так, так!
Ниночка. Ну, да. И он ужасно неправ: Анфиса неискренняя женщина. И у неё тоже есть ваша милая привычка: помалкивать и тихонько улыбаться. И ты заметила, как ходит? Посмотри, бабушка, как хожу я. Посмотри! (Несколько раз проходит по комнате, звонко постукивая руками.) Слышала? А она? (Неслышною тенью, еле ступая, быстро скользит по комнате. Многозначительно.) Не нравится это мне, старая, не нравится. И потом: почему он ей постоянно целует руки и так почтительно, как будто к иконе прикладывается? А она, видите ли, целует его в лоб… Тоже… штучка!
Бабушка. Ничего ты не понимаешь.
Ниночка. Ах, оставь, бабушка! Так понимаю, что и тебя ещё кое-чему научить могу. Ты думаешь, я не знаю, зачем выписала её эта несчастная Саша? Да ведь это весь дом знает, вороны на деревьях и те знают. Сама не умеет сделать так, чтобы муж её любил и не изменял бы ей, так вот пусть сестра Анфиса его научит. Господи, ну и кому ж, как не ей, научить? Умна, решительна, – муж ей слово сказал, она с ним в пять минут развелась – ходит в чёрном платье – и не завивается! Настоящая для Феди гувернантка. Ну, она его научит – ты увидишь!
Бабушка. Сама не понимаешь, что говоришь.
Ниночка (строго). Только не подумай, пожалуйста, и из ревности говорю. Что я такое? Девочка, девчонка, которую ещё можно на колени сажать. А эти? Ну, и несчастный же дядя Федя человек: одна облепила его, как тесто, а другая паутиной ложится на него.
Открывается дверь из тех комнат.
Ниночка (быстро). Саша несчастная идёт. Но то ты так, бабушка, как будто ничего не слышала, а то и ходить к тебе не стану. Умрёшь тут ты одна, как крыса в банке. Ну, не сердись! (Целует старуху.) Старушечка, друг мой единственный!
Входит Александра Павловна, жена Костомарова, и его адвокат Татаринов, высокий, худощавый, очень черноволосый человек. Идёт он немного позади, уступая дорогу Александре Павловне, женщине крупной и чрезвычайно, даже до ослепительности, красивой.
Татаринов. Вот я когда-нибудь окончательно сломаю себе шею на этих ступеньках.
Александра Павловна. Ты что это запряталась сюда, Ниночка? А там тебя ищут.
Ниночка. Кто?
Александра Павловна. Кто же может искать? Молодые люди ищут.
Татаринов (целует руку у бабушки). Здравствуйте, Нила Евграфовна.
Александра Павловна. Господи, да откуда вы знаете, как её зовут? Уж и мы-то её имя позабыли.
Татаринов. Каждого человека нужно звать по имени-отчеству. Знаете вы, как вашего кучера зовут?
Александра Павловна. Ну, Еремей.
Татаринов. Нет, не Еремей, а Еремей Петрович. А как горничную зовут? По-вашему Катя, а по-настоящему Катерина Ивановна, и фамилия её Перепелкина.
Александра Павловна. Устала я. Поди, Ниночка, потанцуй, голубчик. Мне с Иваном Петрович поговорить нужно. Да если Федя меня искать будет, скажи ему, что я пошла немного отдохнуть.
Ниночка. Что ж, отдохни. (Уходит, хмуро оглядываясь.)
Александра Павловна. Садитесь, Иван Петрович… Скажите, кто, по вашему мнению, самая красивая женщина сегодня?
Татаринов (твёрдо). Анфиса Павловна.
Александра Павловна (несколько неприятно удивлённая, но улыбаясь). А не я? Федя говорит, что я самая красивая женщина.
Татаринов. С одной стороны. А с другой стороны – у вас, Александра Павловна, нет характера в лице.
Александра Павловна. Какой вы честный. А у неё есть?
Татаринов (твёрдо). А у неё есть.
Александра Павловна. Впрочем, я рада, что вы так говорите про её характер. Ведь вы знаете, зачем я попросила сестру приехать?
Татаринов. Знаю.
Александра Павловна. Ну, как, изменился Федя? Ведь вы его видите постоянно. Если уж она не может на него повлиять, так уж и не знаю, кто. Я раз слушала в щёлочку…
Татаринов (негодующе). В щёлочку!..
Александра Павловна. Ну, да, в щёлочку, как она с ним говорила. Так мне даже жалко стало Федю. Стоит он, бедный мой мальчик, как виноватый, а она ему говорит так резко, решительно, сурово, точно и не женщина совсем, а какой-то судья. (Хватает Татаринова за руки.) Иван Петрович, голубчик, ну, вы друг Феди, ну, скажите же мне, что сделать, чтобы этого не было, не было, никогда не было. (Плачет.)
Татаринов (смущённо). Чего? Я не понимаю.
Александра Павловна. Не понимаете? А скажите, – вот вы всех знаете, – как зовут по имени и отчеству ту особу, у которой вы бываете с Федей?
Татаринов. Не знаю.
Александра Павловна. Лжёте, стыдно! Роза Леопольдовна Беренс, вот как её зовут. Как же вам не стыдно: Федя едет к любовнице, а вы с ним, – что же это такое?
Татаринов (оглядываясь). Бабушка…
Александра Павловна. Ах, оставьте, она ничего слышит.
Татаринов. Но если так, то вот что я вам скажу. Мне нисколько не стыдно, и даже я испытываю противоположные чувства, потому что я езжу за Фёдором Ивановичем, как его верный друг, который поклялся перед его талантом никогда его не оставлять.
Александра Павловна (насмешливо). Это к любовнице-то?
Татаринов (возмущённо). Да разве я для одобрения езжу? Ведь я над ним, как… факельщик сижу. Ведь он, осел, сколько раз выгнать меня хотел. А я разве ушёл? Нет, не ушёл, и не уйду никогда. И буду сидеть перед ним, как воплощённый укор его потерянной совести. Что я ему там говорю? Я ему говорю: Федя, не забудь, что у тебя прекрасная жена и двое маленьких детей. Федя, не забудь, что у тебя талант, для правильного развития которого необходима честная семейная жизнь… Федя…
Александра Павловна. Простите, голубчик, я просто так. Я знаю, что вы его единственный друг.
Татаринов. Я ничего не пью, я вегетарианец, я ненавижу рестораны, я видеть не могу это хамьё во фраках… Как вас зовут? Михаил-с. А по отчеству? Помилуйте-с, какое у нас отчество, мы так. Хороши, а? Ну, а кто же сидит с вашим Федей по целым ночам в кабаке, как не я? Ведь он меня до чахотки доведёт. А тут ещё эта… развратнейшая личность, сплетник и клеветник – Розенталь… И тоже, изволите видеть, называется его другом. И можете представить…
Александра Павловна (нетерпеливо). Голубчик!
Татаринов. Нет, вы можете себе представить: я уж месяц как не подаю ему руки, а позавчера сидим мы в ресторане втроём, я, Федя и этот негодяй, и он заговаривает со мной. Вы понимаете это?
Александра Павловна. Да, да, я знаю, не волнуйтесь. Я знаю, насколько Розенталь вреден для Феди.
Татаринов (успокаиваясь). Вреден! (Вдруг вспоминает.) Позвольте, а откуда вам известно, что я с Федей ездил к этой самой Беренс?
Александра Павловна (смущённо). Мне… кучер Еремей рассказывал.
Татаринов. Вот так Еремей! (Возмущённо.) Да ещё Петрович! Но, по крайней мере, он, этот ваш поверенный в семейных делах, сообщил вам, что уже два месяца, как Федор Иванович не был у Беренс?
Александра Павловна. Да, я знаю: с тех как приехала Анфиса. (Тихо.) Как я счастлива, если б знали!
Татаринов (растроганно). Милая вы моя!
Александра Павловна. Я так измучилась.
Татаринов. Милая вы моя, так успокойте же вашу душеньку, знайте, что уж больше он к этой женщине не поедет – он мне честное слово дал. А вы говорите, зачем езжу? – Высидел-таки его.
Александра Павловна. Да. Он и мне слово дал, только верить-то я боюсь. Как тут поверить, когда кругом такое делается… Вы заметили, что сегодня нет у нас ни Переплетчикова, ни Ставровского, ни Роговича…
Татаринов. Заметил. Как же этого не заметить!
Александра Павловна. Что не приехал сегодня ни Тимофей Андреевич, ни Маслобойников и никто товарищей-адвокатов? Кто у нас сегодня? Шушера какая-то, да ещё помощники Федора Ивановича, да ещё этот Розенталь… О вас я не говорю – вы Федин друг.
Татаринов. Тяжело мне говорить вам, Александра Павловна… но и я сегодня не приехал бы, не поклянись я никогда не оставлять Федора Ивановича.
Александра Павловна (возмущённо). Послушайте, как вы смеете это говорить! Разве Федя нечестный человек, к которому нельзя и в дом прийти? Мне уши прожужжали с этой историей на суде. А я и до сих пор не понимаю, что здесь такого! Сказал он что-то, – но ведь вы же сами находили, что речь его была блестяща.
Татаринов (успокаивая, кладёт свою руку на её). Да, да, милый друг, вы этого не понимаете. Как бы вам это объяснить? Ну, в увлечении защитой, желая во что бы ни было выиграть дело, быть может, сорвать лишний аплодисмент, – Федор Иванович очень любит поклонение, – он позволил себе очень резко, даже грубо и даже совсем непристойно отозваться о потерпевшем, человеке очень несчастном…
Александра Павловна. Правда, что из публики кричали: вон?
Татаринов. Ну, один там крикнул.
Александра Павловна. Мне передавали, что Федя обернулся и так гордо посмотрел на этого, который крикнул.
Татаринов. Ну, уж какая тут гордость – извиниться бы надо, а не гордость! Ну, вот, все товарищи его: Ставровский, Рогович, ну, я и другие – мы и думали как-нибудь уладить дело – все из-за любви к его таланту. Ведь вы представить не можете, какие надежды мы на него возлагали! Но вот тут как раз Федор Иванович и отмочил свою штуку: вместо того, чтобы послушаться нас и публично извиниться перед потерпевшим, он стал в этакую… гордую позу и говорит: «Не оттого ли, господа, вы так накинулись меня, что вам просто – завидно: ведь дело-то я выиграю. Мне надоела ваша опека, господа». Повернулся и вышел. Ну, и дело-то он выиграл, это верно…
Александра Павловна. Он тогда всю ночь по кабинету шагал. И все вздыхал. А потом как ударит кулаком по столу… я за дверью слушала. Господи, что же теперь будет?
Татаринов. Что ж? Будем судить вашего Федю. И должен вам сказать, что я, как член совета, тоже подам голос за осуждение. Нельзя-с!
Александра Павловна. Что же делать, что же делать?
Татаринов (разводя руками). Ну, уж как-нибудь.
Александра Павловна. А позор? Федя этого не переживёт. Вы поглядите, какой он сегодня – на него страшно смотреть. (Улыбается.) Тапёра зачем-то пьяным напоил.
Татаринов (в негодовании). Вот это-то и есть, это-то и скверно. (Передразнивает.) «Тапёра пьяным напоил». Людей не уважает ваш Федя, вот в чем его беда. Чтобы кланялись ему любит, а на тех, кто кланяется, плюёт. А попробуй-ка не поклонись!
Александра Павловна. Вас он уважает.
Татаринов. Я не про себя. Мне до его уважения дела нет, я клятву дал. Пригрезилось ему, что он не адвокат во фраке, как все мы грешные, а завоеватель какой-то, – и он воюет, и он воюет! А с кем? Тапёра пьяным напоил. Черт знает что… Не могу я этого выносить! Опять с ним завтра целый день ругаться буду.
Александра Павловна (устало). Да, да, побраните его. Нездоровится мне, голубчик. Идите себе, а я поваляюсь на бабушкиной постели. (Вдруг смеётся.) Но я счастлива, если б вы знали!
Татаринов. Ничего не понимаю.
Александра Павловна. Ну, идите, идите. (Вдогонку.) И помните, что я самая красивая женщина, а не Анфиса.
Татаринов (глухо, издалека). Нет, Анфиса Павловна.
Уходит. Александра Павловна идёт за ширмы и говорит оттуда. Бабушка перестаёт вязать и внимательно слушает, вытянув шею и руку приставив к уху.
Александра Павловна. Бабушка, ничего, я у тебя на постели полежу? Голова очень кружится. Вот, когда я Верочкой беременна была, так совсем иначе себя чувствовала, а теперь и не знаю, что со мной делается. Второй месяц беременности, а кажется, так уж будто полгода прошло. Не понимает, не понимает, да как же ему понять мою радость? И неужели же, бабушка, есть женщины, которые боятся беременности, родов? – Да ведь это же такое счастье! Анфиса говорит: лучше умру, а опять не забеременею… Да… Не было у неё хорошего мужа, не знает она, что такое хороший муж. Ты слышала, бабушка, он больше к этой мерзавке не ездит, и дурак Татаринов думает, что это от него… Ах, как хорошо, так бы, кажется, и осталась тут лежать. Немножко распустила корсет, а уж и то какое облегчение… Нет, от Анфисы это, от моей милой, благородной, несчастной Анфисы, от моей милой, несчастной сестры, которая сама изведала, что значит мужская измена и женское горе… Ты знаешь, бабушка, эту её историю в Смоленске… с офицером? Федя про неё не знает, одна только я знаю. Ведь это же ужас! Приехала она…
Споткнувшись на ступеньках, почти вбегает в комнату гимназист Петя. Он очень красен, возбуждён и минутами слегка шатается.
Петя. Фу, чтоб тебя черт!.. Извините, пожалуйста, я, кажется, не туда. Нины Павловны здесь нет? Мне показалось, извините, пожалуйста.
Бабушка молчит и снова вяжет. Голос от двери гимназиста Померанцева, мрачного товарища Пети.
Померанцев. Петя, оставь!
Петя. Я её пригласил на третью кадриль, извините, пожалуйста, я вижу, что тут её нет… До свидания!
Так же быстро уходит и слышно у двери, как оба гимназиста хохочут.
Александра Павловна. Как он меня напугал, я уж Бог знает что подумала. Ох, надо собираться! Скажу Феде, что больше корсета носить не стану, боюсь повредить ребёнку. Ведь не разлюбит? (Тихо смеётся.) Зато я ему непременно мальчика рожу. Чувствую я это. Когда женщина беременна мальчиком, то у неё должны быть минуты такой глубокой задумчивости, такой глубокой задумчивости… Вот как у меня иногда. В сущности, я совершенно понимаю Федю, почему он не любит девочек и так хочет мальчика. Ну, что такое мы, девочки?..
У двери голос Федора Ивановича: «Осторожней, Анфиса Павловна, тут ступеньки».
Александра Павловна (испуганно). Ах, Господи, Федя!
Прячется за ширмы. Очень быстро, сильно взволнованная, входит Анфиса Павловна; за нею, словно настигая её, крупно шагает Федор Иванович. Потому ли, что дальше идти некуда, потому ли, что она какой-нибудь защиты, Анфиса останавливается у самого кресла, держится за спинку кресла. Разговор отрывистый, дышать трудно, смотрят друг на друга почти с ненавистью.
Анфиса. Я не хочу слышать.
Федор Иванович. Я должен сказать.
Анфиса. Я не хочу слышать. Оставьте! Бабушка…
Федор Иванович. Она не слышит. Я должен сказать. Я не могу! Во всем доме нет места, где бы я мог. Послушайте!
Анфиса. Я не хочу.
Федор Иванович. Я не могу. Вы делаете нарочно, чтобы измучить меня. Вы уходите, прячетесь. Я вас ищу во всех тёмных углах. Я сейчас без шапки бегал по саду, по колена в снегу, и звал. Зачем это?
Анфиса. Я была в гостиной.
Федор Иванович (гневно). Да, в гостиной, сидела в углу – с этим ничтожеством – улыбалась ему, а я её искал – по колена в снегу. Это вы делаете нарочно, вы хотите измучить меня!
Анфиса. Вас? Но при чем же вы здесь? Какое вы имеете отношение к тому, что я делаю? Опомнитесь, Федор Иванович. И я вовсе сидела не в углу…
Федор Иванович. Нет, в углу! Боже, зачем и ещё лжёте?
Анфиса. Федор Иванович…
Федор Иванович. Ну, ладно, ну, простите. Я говорю глупости. Но я так измучен! (Садится.) У меня ещё и сейчас дрожат колена. Простите. Но больше я не могу. Я люблю…
Анфиса (быстро). Вы любите жену.
Федор Иванович (удивлённо). Жену?
Анфиса. Да. Вы сами говорили это. Вы помните? Вы были с нею так нежны, я так рада этому… Бедная Саша!
Федор Иванович (все так же удивлённо). Я с нею нежен? Разве? Это правда? Да, да, может быть, – но вы не понимаете? Вы, умная такая. Я нежен с ней, потому что люблю вас; свою любовь к вам я назвал иным именем… Только для вашей ласковой улыбки, только для того, чтобы на мне остановился с ласкою ваш взор, я готов любить её, другую, третью! Что за вздор!
Анфиса. Молчите. Я не хочу! Пустите меня. И были равнодушны ко мне, и вы говорили, что даже женщины во мне не видите.
Федор Иванович. Это неправда.
Анфиса. Так зачем же вы говорили неправду?
Федор Иванович. Не знаю. Но это неправда. Вы даёте… Вы знаете один мой маленький ужас, который становится теперь таким большим? Это может быть только в церкви, да, только в церкви. И, вероятно, многие из нас испытывают это, но молчат. Тогда, на моей свадьбе, я ведь видел вас впервые. На мне уже был венец, жена – жена моя, невеста, не знаю, кто она тогда была, на ней также был венец – улыбнулась кому-то и шепнула: «Смотри, приехала Анфиса, как я рада!» И я взглянул, и я тут же подумал, даю вам в этом честное слово, и я тут же подумал – почему я женюсь на этой, а не на той? Потом забыл, а теперь вспомнил.
Анфиса. Мне кажется… кажется, я почувствовала это. Впрочем, это неправда!
Федор Иванович. Зачем вы пришли так поздно?
Анфиса. Пустите меня. Где Саша?
Федор Иванович. Зачем вы пришли так поздно?
Анфиса (твёрдо). Пропустите меня, Федор Иванович. (Спокойно проходит, задев его платьем, останавливается и говорит в полоборота.) Все это неправда, голубчик. Я вас понимаю, вы ошиблись. Благодарность к врачу вы приняли за любовь и уже начинаете мучиться здоровьем, но это пройдёт. Вы будете любить Сашу, вы сейчас любите её, а я завтра – уеду.
Федор Иванович. Уедете? Оставите меня одного?
Анфиса. При чем здесь вы? Я уеду, потому что мне надо ехать, потому что я устала, соскучилась, потому что надоел, наконец, ваш город, ваш Татаринов, вся ваша жизнь. При чем здесь вы?
Федор Иванович. Уедете теперь, теперь, когда все оставили меня, – теперь? Вы забыли, вы, наверно, забыли, что делается вокруг меня, иначе вы, великодушная, не сказали бы. Вы видели сегодня провалы: пустые места – там должны были находиться мои друзья. И их нет – они ушли.
Анфиса. Вы сами оттолкнули их.
Федор Иванович. Ах, оставьте! Это должно было случиться. Я не могу вместиться в ту щель, которую они оставили мне. Я не могу!
Анфиса. Вы оскорбили их.
Федор Иванович. Я не виноват! У тех, кто хочет много, свои законы. Я не виноват. Но все же мне больно, и мне их жаль… и одиночество пьёт мою кровь. Помоги мне, Анфиса! Ты так же одинока – помоги мне, Анфиса! Дай, чтобы в моей руке я почувствовал другую, сильную, смелую, правдивую руку. Дай! (Хватает Анфису за руку.) Анфиса. Оставьте меня! (Вырывает руку.) Что с вами сделалось, Федор Иванович? Вы стали… грубы.
Федор Иванович. Я люблю вас.
Анфиса. Нет, вы просто стали грубы. Ещё вчера… такой мягкий… благородный… вы показались близки мне, как женщина. Ведь вы плакали вчера, когда я играла… Да, да, как женщина.
Федор Иванович. Я плакал от любви к тебе, Анфиса, а сегодня… Ах, Боже мой! Без шапки, по колена в снегу, я бегал и звал её – звал её, – а она сидела там – в углу – с этим ничтожеством. Как вы смели!
Анфиса. Вы становитесь неприличны, Федор Иванович! Я завтра уезжаю.
Федор Иванович. Скажи мне: да. Выйди к ним ко всем и скажи, что любишь меня.
Анфиса. Завтра я уезжаю.
Федор Иванович. А я один?
Анфиса. С вами останется жена.
Федор Иванович. Плохая шутка, Анфиса Павловна.
Анфиса (гневно). Ах, Боже мой! Да поймите же вы, что я просто, что я просто – не люблю вас.
Федор Иванович (устало и покорно). Да? Так вот как, значит. Хорошо! Ну, так уходите же – чего же стоите, разве вы не все сказали? Что вы так смотрите на меня – я вам противен? Быть может, жалок? Ну? Разве вы не все сказали?
Анфиса (коротко). Все.
Быстро уходит. Федор Иванович несколько раз проходит по комнате, останавливается, думает о чем-то, сально вздыхает и, окинув комнату быстрым взглядом опомнившегося человека, хочет уходить. Но вспоминает – и, подойдя к самому креслу бабушки, продолжительно и строго грозит ей пальцем.
Федор Иванович. Молчи.
Спицы в руках бабушки заметно дрожат. Федор Иванович уходит. Из-за ширмы появляется бледная, растерянная Александра Павловна, торопливо застёгивает крючки на лифе и как-то нелепо, словно слепая, тычется в углы.
Александра Павловна. Ах, Боже мой! Что же это, бабушка. Как же мне быть, если он догадается, я была здесь и все слышала. Что я ему скажу? Он не поверит; что я нечаянно. Молчи, бабушка, молчи! Бабушка, милая бабушка, у меня ноги подгибаются, я упаду сейчас, бабушка…
Вбегают очень весёлые Ниночка и гимназист Петя.
Ниночка. Саша, Саша, где ты? Тебя Федя ищет. Скорее, сейчас ужин!
Александра Павловна. Я только сейчас, я была в детской.
Ниночка. Уже скоро двенадцать!
Александра Павловна. Вот как, а я и не думала, что уже скоро двенадцать. Я была в детской. Вот как странно – уже скоро двенадцать.
Ниночка (удивлённо). Да что с тобой, Саша?
Александра Павловна. Я была в детской, что же может быть со мной; вот странно! Я все время была в детской.
Ниночка (берет её за руку). Идём, идём!
Александра Павловна. Да, конечно, идём, а то как же? Конечно, идём. И вы с нами, Петя, или вы останетесь тут?
Петя (хохочет). Тут? С бабушкой?
Александра Павловна. Ну да, я хотела сказать…
Уходят, оставляя дверь открытою. Бабушка перестаёт вязать и слушает, приложив руку к бескровному уху. Слышны восклицания, смех, обрывки музыки и пения, затем наступает тишина – и в тишине большие часы отчётливо и гулко отбивают двенадцать ударов. И как торопливое, маленькое эхо, запоздав на минуту, отвечают и маленькие часы в бабушкиной комнате. Тех, далёких часов бабушка, видимо, не слыхала, но к этим прислушивается внимательно, подтверждает слабыми кивками головы торопливые удары – и снова берётся за чулок. А там уже снова говор и смех и тонкий звон стекла, поздравления, разрозненное, неудавшееся «ура». Весь этот разноголосый шум приближается сюда, и отдельные всплески его раздаются в самой бабушкиной комнате.
Голоса.
– К бабушке, к бабушке, поздравлять, – держите тапёра – он разобьёт фортепиано. Петя, оставь!
Первыми входят старики Аносовы, родители Александры Павловны.
Аносов. Ну, держись, бабушка, к тебе целое нашествие! Так пока что, до галдёжу всякого, мы вот и пришли со старухой тебя поздравить. Поздравляю. Ничего, живи себе, уж столько прожила, что ж с тобой поделаешь. Ну, и что Федя с этим музыкантом наделал: он эту самую свою фортепиану, как хороший муж хорошую жену, бьёт и по ушам, и по мордасам, и за волосы её волочит… а сам-то хохочет, чудак! Хороший, видно, человек!
Аносова. Я уже и смотреть боюсь, как он мудрует, вот-вот посуду бить начнёт. Хороший человек в семейном доме так себе напиться не позволит. Я уже и то говорю Сашеньке: ты бы, дочка, лучше в кухню его отправила, пусть там по столу колотит. Она говорит, нельзя – гость. Какой же он гость, когда музыкант, да ещё пьяный.
Аносов. Вот и они. Весёлый народ!
Голос Розенталя. Господа, факельцуг. Берите свечи.
Беспорядочной толпою, с попыткой изобразить факельное шествие, спотыкаясь на ступеньках, с говором и смехом, входят гости. Развязно, несколько иронически, видимо проделывая шутку, поздравляют бабушку; но встречают старое, серое от старости и знания замкнутое лицо, видят мелькающие спины, слышат глухое, но тревожное молчание – и в смущении неловко отходят.
Розенталь (добродушно кричит старухе на ухо). Бабушка, слыхали, ещё Новый год наступил. Понимаете, Новый год? Поздравлять пришли. С новым счастьем, с новым годом, ну, и так далее. Ну, а вот зубы-то уже не вырастут, бабушка?
Аносов. А вы её, господин Розенталь, не тревожьте – от такого ласкового крика она и помереть может, жизнь-то у неё промеж пальцев вертится. Не сдунуть бы.
Ниночка (целует старуху). Милая ты моя старушка, вот и раскрылись ворота.
Гимназист Петя идёт под руку с тапёром, оба покачиваются. Тапёр молодой, краснолицый, прыщеватый малый, с длинными мочалистыми волосами, которые нависают ему на лоб и которые он смахивает с таким видом, как будто ловит муху. Радостно смущён, давно уже потерял язык и только временами дико хохочет и взмахивает руками, как бы разбивая рояль. Подружившийся с ним Петя громко поёт ему на ухо.
Петя. «Разбив моё сердце безбожно, она мне сказала: „прости“. Так будем же пить, пока можно, а там хоть трава не расти».
Отчаянно машет рукой, тапёр дико хохочет.
Померанцев (пьяный и мрачный). Оставь, Петя, не унижай себя.
Аносова. Ай-ай-ай, вот бы повидали вас родители!
Померанцев (мрачно). У нас нет родителей. Мы подкидыши.
Петя (кричит). Нина Павловна, с Новым годом и новым счастьем! «Рассудок твердит укоризну, но поздно, меня не спасти…»
Под руку с женой входит Федор Иванович, улыбается, что-то шепчет, наклоняясь к ней. С той же улыбкой, безразлично, но слишком долго смотрит на Анфису, которая в стороне тихо разговаривает с очень скромным молодым человеком в судейской форме.
Федор Иванович. Что с тобою, Саша, тебе нездоровится?
Александра Павловна. Да, я устала очень. Ты знаешь…
Федор Иванович (резко). Я не люблю усталости! (Нежно.) Впрочем, и правда, ты, быть может, прилегла бы. Устала, бедная моя красавица!
Александра Павловна (вздыхает). Да, красавица.
Розенталь (подхватив последние слова). Да не всем красота моя нравится. Верно. Тише, господа. Maestro, перестаньте так дико хохотать – наш Цицерон намеревается произнести речь. Внимание, внимание!
Татаринов (длительно и строго смотрит на Розенталя, потом отворачивается и медленно начинает). Господа! Перед лицом этой почтённой старости меня особенно волнует вопрос о времени, о его, так сказать, чести, и в связи с ним вопрос о том, что такое Новый год, для встречи которого…
Розенталь (передразнивая). На основании вышеизложенного…
Татаринов (ещё строже и ещё медленнее). Для встречи которого мы собрались под гостеприимным кровом Федора Ивановича. Новый год…
Розенталь. И имея в виду кассационное решение, за номером 2240…
Татаринов. Федор Иванович, попросите вашего друга замолчать, иначе я за себя не ручаюсь.
Федор Иванович. Оставь, Иван Петрович. Ты же по гражданским делам, а тут… тут, брат, дело уголовное. (Отстраняет от себя жену, выступает несколько вперёд и говорит, глядя только на старуху. Только раз или два в течение речи быстро взглядывает на Анфису.) Да, господа. Не скажу, чтобы мы находились перед таким уже почтённым лицом, как выразился мой товарищ, – но что это лицо важно, что это лицо загадочно и даже страшно, об этом я позволю себе сказать несколько слов.
Татаринов. Ну, раз ты сам хочешь говорить, тогда дело другое. Послушаем. Господа, Федор Иванович говорит.
Федор Иванович (небрежным, несколько презрительным жестом указывает на бабушку). Взгляните на неё. Никто не знает, откуда она пришла и чем она была; я только смутно слышал о каком-то её муже, брате моего деда, который умер слишком рано, да, слишком рано. И, родившись вместе с этими старыми, полусгнившими стенами, я нашёл и её, такую же старую, гнилую, наполовину истлевшую – но живую. И уже в детстве я боялся её, и этой комнаты, и этих бесконечных петель, которые нанизывает она. (Быстро.) Я не верю, что это – чулок.
Аносов (беспокойно и примирительно). Ну, что, Федя, старушка и старушка. Эка, тогда и всех нас, стариков, бояться надо.
Татаринов. Ты отходишь от темы, Федор Иванович.
Федор Иванович. Кто она? Где обитает её тёмная душа? В каких болезненных корчах, смутных и страшных снах, в бреду старческого безумия доживает последние дни её истлевший, полумёртвый дух, измученный пленом долгой жизни? Она женщина – что это значит? Она старуха, что это значит? Какие образы хранит её дырявая, обветшалая память?.. Быть может, вся в ничтожных мелочах, быть может, вся в чаду зловещей тайны каких-то зол, каких-то страшных преступлений.
Александра Павловна. Федя…
Татаринов. Федор, оставь, нехорошо. Нетактично.
Федор Иванович (гневно). Молчи!.. Я пример, например, что притворяется она глухой, – зачем? Затем, чтобы слышать – чтобы знать? Затем, чтобы молчать? Но я – человек не робкий – я боюсь этой глухоты, в которой много чуткости, я боюсь этого молчания, в котором так много неразгаданной, но громко кричащей лжи!