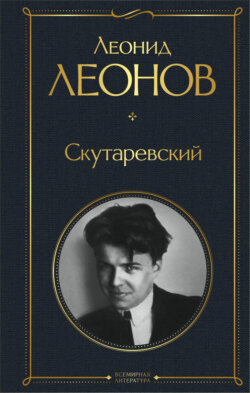Читать книгу Скутаревский - Леонид Максимович Леонов, Леонид Леонов - Страница 8
Глава 8
ОглавлениеЗа весь этот срок фронтовые друзья не повидались ни разу и, хотя отрасли их деятельности почти соприкасались, даже не слыхали друг о друге. Укрепившись в институте, Черимов зашел однажды к Кунаеву, который неделю проводил на съезде в Москве, и потом они вместе поехали к Скутаревским; Кунаев давно искал более близкого знакомства с Сергеем Андреичем, которого издали уважал и ценил. Жили они все в том же переулочке, и тот же гипсовый Олимп таращился на посетителей при входе. Старика, как его называли заглазно, не оказалось дома. Арсений брился перед зеркалом, у матери сидел Федор Андреич… В первое мгновенье, пока не разглядели друг друга в подробностях, оба искренне обрадовались встрече; они даже обнялись бы, не будь Арсений в мыле, – во всяком случае, рукопожатия им не хватило, чтоб выразить всю радость о воскресающей дружбе. Потом, когда восклицания иссякли, они уселись вместе на тахте, как бы готовясь к целой неделе обстоятельной беседы.
– А это Кунаев, всеобщее наше начальство. – Черимов не преувеличивал; удивительно круто поднималась кунаевская звезда. – Смотри, Сенька, какая орясина! Знакомьтесь, непременно станете друзьями…
Тот мешковато пожимался, озабоченно щурился на завешанные картинами стены и все косился на дверь, в которую должен был войти отец.
– Ну, вырос ты, как-то поширел… а башка все та же, цыганская. Служишь где-нибудь по артистической части? – допытывался Арсений. – Ты ведь петь пробовал… А как со слухом?
– Нет, я по научной… Да неужели же Сергей Андреич ничего не рассказывал обо мне?
– Мы разошлись немножко, – потупился Арсений. – Так это ты и есть?… тот самый Черимов?
В памяти он держал его совсем другим – задиристым и не без азиатчинки парнем, к которому в мыслях всегда относился чуточку свысока; не без самодовольства и даже ставя себе в заслугу, он припоминал тот отдаленный, у костерка, вечерок, – о, эти незадышанные, еще горьковатые вода и воздух юности!.. – когда он сбивчиво и с жаром вдалбливал в Черимова простенькие сведения об амебе. Лекция не выходила из пределов популярного учебника, но Черимову и это было откровением, а Арсению, если покопаться поглубже, приятно было сознавать, что кто-то на свете знает еще меньше, чем он сам. Теперь его постигло странное ощущение, будто перешагнули через него, будто в знакомых с детства стихах любимую строчку подменили плоской и несозвучной. У Арсения нашлось честности сообразить, что новая его эмоция вовсе не похожа на прежние юношеские соревнованья… У него на стене висел в рамке давний рисунок дяди на знаменитый пушкинский сюжет о двух музыкантах, молодом и старом; Арсений всегда поражался ничтожеству одного и беспечности другого. И вот наяву из душевных сумерек в сумрак вечера прошмыгнула сутулая тень Сальери; тогда пятнистый румянец проступил по его щекам.
– …Женат?
– Нет.
– Но уже, конечно, в партии? – напряженно спросил Арсений.
– Аты, конечно, нет? – в тон ему улыбчато откликнулся Черимов и тогда, стремясь избавить приятеля от ответа, прибавил дружески: – Ты брейся, брейся, а то сидишь в мыле, как судак в подливке. Спешишь?… Заседанье?
– Нет, я в театр, – быстро солгал Арсений, и теперь ложь ему удалась гораздо легче, чем десять лет назад. – Дают Игоря…
– Может, и нам поехать? – раздумывал Черимов, вопросительно глядя на Кунаева. – Никогда не слыхал этой оперы. Говорят – здорово, а?
Перестав бриться, Арсений с горящими ушами смотрел через зеркало на Кунаева. Тот колебался:
– Не выйдет у меня со временем, пожалуй… Вечером Семен обещал забежать.
И опять Арсений мазал себя пушистой пеной и, хотя успокоился в отношении театра, все еще не мог примириться с новым Черимовым, который в плане житейском становился теперь рядом с ним. Из вежливости он спросил его, как все это произошло; тот отделался шуткой, – не любил говорить о себе. Между тем Арсений видел, что, даже поднявшись на эту высокую гору, он пока еще одышкой не страдал. Заметна была, наоборот, подчеркнутая тщательность в повадках, в речи, костюме и в отлично выбритых щеках; украдкой, по старой привычке, он пригляделся к черимовским ушам: они были нормальны, мочка великолепно закруглялась вверх, они были чисто вымыты. «Боится, что заподозрят… догадаются о банной родне», – снисходительно решил Арсений, хотя и знал, что это клевета. То была лишь опрятность механизма, сознающего свою ответственность. «Вот оно, племя младое, незнакомое…» – еще определил он и тут же почувствовал, что отношения их никогда не станут прежними.
– А ты молодцом, Николай. Ты… ловко. Нет, отец не рассказывал, нет. – Он сам брил себе шею, слегка касаясь бритвой. Тонкие эластичные подтяжки, с рисунчатой выделкой, упруго натянулись, и Кунаева всерьез щекотнула смешная догадка, не сделаны ли они из дамского материала. – Слушай, Николай, а ведь через два месяца ровно десять лет… И вот встретились, как это говорится, во втором воплощении. Странная штука жизнь… и есть в ней все-таки тайны, Николай, которых мы так никогда и не узнаем.
Черимов насмешливо покосился в его сторону, и вот уже ни один из них не испытывал сожаления, что со времени давней разлуки они не обменялись и письмом.
– Да, это похоже на тайгу. Все перегнило, и стало расти другое. Занятно, конечно…
Арсений перебил его:
– А помнишь, мы собирались навестить Гарасю… – Он с особой мягкостью произнес это слово. – Знаешь, я даже хотел разыскивать тебя. Вдруг как-то накатило: ехать, ехать, ехать… Поедем, а?
– Я не помню, о чем ты?
– Когда мы зарывали старика, мы дали обещание посетить его через десять лет. Через два месяца – срок. – И он распространился о Гарасе, возвышая его чуть ли не до былинного старчища, который с рогатиной, один на один, вышел на интервентов; он утверждал, что не пришел еще Гомер этого грозного человеческого бунта, потому что зачатки поэм только раскиданы по ветру и многое пока не проросло; скучную Гарасину гибель он возвышал до подвига, и если в конечном итоге выходило у него не плохо, то оттого лишь, что о смерти и самое дурацкое мудро. Он героизировал все подряд, потому что тем самым и себе, существованию своему создавал оправданье, теплое и уютное, как селение горнее. – Едем?
– Пустяки, Сенька. Старик не обидится, он полежит еще. Мы были тогда щенками, он поймет. А полководец он плохой: за один удар все войско свое потерял… Работать надо, Арсений, а мы все спим.
– Ну, впрочем, мы не спим… – с ироническим холодком поправил Арсений.
– Я сказал – спим, – резко бросил Черимов. – Мы делаем мало, даже если мы делаем много. Мы еще не понимаем смысла переворота, который произошел. Мы допускаем чудовищные резервы… помнишь, Фома, сибирскую торфянку?… – И, почему-то смягчась, прибавил: – Я злой нынче…
– Да, ты сердитый сегодня. Ты и меня в оппортунисты вклеил, – тихо упрекнул Кунаев.
– Я на Ширинкина нынче обозлился… да ты его знаешь, Фома! Он из наших, мы кончали вместе. Давеча заехал к нему и… черт его знает, какая расстроилась у него секреция. Понимаешь, Арсений, его одолели вещи, хватательный инстинкт развился, а ведь как дрался-то в Октябре… то есть он депеши по городу под выстрелами таскал еще мальчишкой. И оказался дьявольской пустоты человек. Так он для заполнения дырки вещи в нее впихивает: сервант купил ореховый, абажуры – как юбки кокотки… банкетки, годные только для разврата. И понимаешь, хватило хамства: пианиной хвастался… – Он нарочно исказил слово, чтобы оскорбительней вышло. – Стенвей, говорит, ранних номеров, а всего полтыщи. «Играешь?» – спрашиваю. «Нет, говорит, а для параду». И подмигивает, скотина, взятку дает… «Может, говорю, ты за этой лакированной штукой и на баррикаду лез?» Молчит, молчит… «Ну, говорю, шагай в жизни и портфель свой крепко прижимай к боку, чтоб не вырвали».
– Да, ты злой нынче, – со рдеющими ушами согласился Арсений. – А может, у него мечта была, а ты пришел, надругался да еще, поди, окурок на клавише оставил.
– Окурок я ему в китайскую вазу засадил, – сурово поправил Черимов.
– Я хотел сказать, всякий имеет право на свою радость, – неуклюже сформулировал Арсений.
– …Что-о? – И хохотал, но уже не яблоки, не антоновка незрелая, а хрустящая галька пересыпалась в мешке. – Не имеет… он обязан классу… в нем моя, плебейская кровь. Если мы… если мы проиграем…
– …хотя это вряд ли, – внушительно вставил Фома.
– …проиграем – иеромонахи Европой станут править, смекаешь?
Арсений все брился, но дрожала его рука. Уже саднило кожу, а он все брился, потому что следовало в эту минуту спиною стоять к другу и не показывать лица. И он чувствовал, что брань, назначенная для другого, самого его хлещет по щекам. Он заговорил, волнуясь и срываясь с голоса:
– А если усталость?… Мы босыми ногами шагаем по истории, а ты думаешь – не больно. И разве стыдно говорить об этом? Была молодость, романтика, теперь – государство, закон. И потом, ведь социализм-то – ведь это для человека. Я даже допускаю его право сидеть и рисовать домики, если ему надоело воевать, бороться, не спать ночей, если ему надоело нравиться тебе и ежеминутно заслуживать твое одобрение. А может, он хочет, я к примеру, на Малайском архипелаге срубить собственноручно баобаб.
Черимов опустил глаза; было ему стыдно перед Кунаевым за эту словесную размазню. А тот сидел в полном изумлении и все слушал, все слушал.
– Баобаб – это оригинально, но голландцы визы не дадут, – пошутил с кривой усмешкой Черимов. – Ведь ты это про себя! Ну, милый, какая там романтика! В отряде ты был всего три месяца, в двух-трех перестрелках…
– Нет, я и раньше… – отмахнулся Арсений, словно отбивался от руки, которая его раздевала.
– …я и не спорю. Ты рано начал воспоминаниями жить, товарищ. Вчерашняя романтика всегда хуже сегодняшней. Романтику мы делаем сами. Слушай, Арсений, брось ты этот музей, в котором живешь. Уезжай куда-нибудь на стройку, где каждая строка стоит иной твоей фронтовой страницы… Ты слышал что-нибудь об ударниках? Иди в массы, растопи свой лед, не буксуй зря… Вот Кунаев начинает большое дело на Урале. Он тебя возьмет… Возьмешь его, Кунаев?
Кунаев привстал с серьезным и решительным видом; он быт огромен; крупные рябины искажали самый овал его лица; похоже было, будто в детстве жевал его какой-то дикий восточный мор и, поломав зубы, бросил. Арсений близоруко щурился и все не мог понять, почему неприятна ему уверенная, литая кунаевская сила.
– Давай чернила и бумагу, – сказал Кунаев дружественно и зычно. – Счас я напишу тебе назначенье… хотя постой. Едем послезавтра вместе. Я тебя окуну в эту домну по самую макушку. Я твоего отца крепко чту, на большой палец, во.
Арсений молча вытирал бритву, острие ее заманчиво щекотало палец, а Черимову стало скучно. Он опять отошел к шкафу и зорко рассматривал Арсеньевы книги; одолевало его непонятное желание отыскать то, чего там не было. И все еще грязной казалась бритва Арсению… Он слабо пошевелил губами: переродиться. Но надо слишком крепко умереть, чтоб родиться заново. Вода лишь полгода бывает камнем, а потом снова течет. В эту минуту он почти читал черимовские мысли. Первая была: «Как мало общего у него с отцом»; вторая была очень длинная, ленивая и кончалась сочным зевком. Смута и растерянность охватили Арсения. А ведь он искренне берег в себе воспоминание о фронтовой поре как феерической смеси опасностей, случайностей и лишений. Не имея ни силы, ни желания вторично пережить все это, он, однако, не согласился бы вымести из памяти этот драгоценный сор. Он поистине любил отчаянных и погибших друзей: мертвых любить приятно и необременительно… Теперь же стало так, точно они ворвались к нему, эти не очень милые фронтовые призраки, и растоптали уютный уголок, где он взлелеял свое лирическое тщеславие. Вдруг прозрев, он понял, что всегда, заодно с Черимовым, презирал чуть-чуть и Гарасю; он вспомнил, как в потаенной мысли своей, умирая от усталости, он дивился в ту ночь угрюмой Гарасиной живучести; он вспомнил свои ноги, сбитые в кровь корявыми мужицкими сапогами, разбухшие лошадиные трупы посреди романтических пейзажей; он догадался, что ничего не изменилось бы в мире, если бы и его самого расклевала горбоносая падальная птица… Раздетый догола, не смея даже кричать о грабеже, Арсений насильственно улыбался и молчал. Молчание это было одинаково томительно для всех троих.
Вдруг он сказал:
– Чудно… а теперь, может быть, ту пихту уже срубили на экспорт.
– Это Гарасину? – неискусно подхватил Черимов. – Но, позволь, ведь мы его закопали под лиственницей.
– Да нет же, ты забываешь. Это дерево я как сейчас вижу. Чуть наклоненное бурей, корье растрескалось, вершина двойная… и рядом другая, потоньше. И еще почему-то шпора там валялась, а чья – неизвестно. И надо признаться, мы оба испугались ее…
– Вот шпоры не помню, – очень настойчиво и вежливо ответил друг и, потягиваясь, встал, чтобы не садиться больше. – Ну, ты извини, мы ведь мимоходом забежали. Еду в командировку. Что делать, партии не хватает своих инженеров. Да надо еще к дядьке забежать, поругаться. Ничего, что мы задержали тебя в театр?
– Театр?… – смутился Арсений. – Нет, я еще поспею ко второму акту.
В эту минуту вошла мать в сопровождении Федора Андреича. Она не сразу узнала Черимова, который суховато поклонился ей на пороге. Только после, по конфузливой торопливости, с которой сын побежал провожать гостей, она вспомнила того бесштанного Арсеньева спутника, от которого панически прятала серебряные ложки. С теми же красными ушами, что и сын, она стояла спиной к двери и слушала ужасное молчание бывших друзей. Его не могли заглушить, конечно, поскрипыванья нового кунаевского полушубка.
Впрочем, Арсений сказал:
– Снег не идет?
– Нет, опять потеплело. Когда Фома надевает шубу – наступает оттепель, – и все не мог попасть в рукав, в котором оторвалась подкладка.
– Этот галстук на тебе заграничный? – из последних сил старался удержать что-то Арсений.
Кунаев попрощался и вышел на лестницу, Черимов не расслышал Арсеньева вопроса, и тут что-то вскипело в нем самом:
– …а ведь я ехал напиться с тобой, Сенька. Ведь мы с тобой сизопузых ворон вместе жрали…
Скользя рукой по убегающему блику перил, Арсений побежал было за ним:
– Ты приходи, Николай, непременно приходи… – «До свиданья!» – кричало навзрыд Арсеньево сердце. «Нет, навсегда…» – отзывалось неслышное эхо снизу. Тогда, оскорбленно улыбаясь, растирая в пальцах потухший окурок, Арсений вернулся к себе. В продолжение всего этого нежеланного посещения его одна тревожила боязнь – а вдруг Черимов да еще этот монументальный большевистский праведник останутся на весь вечер? Часам к десяти молодой ждал гостей. Никогда ему еще не приходилось стыдиться своих знакомых, ни по суду не опороченных, ни по службе, но едва только сопоставлял их с Черимовым – разом выяснялось их большее, чем даже расовое, отличие. Внезапно Арсений схватил с подзеркальника газету и пальцем отыскал отдел театральных объявлений; еще немного, и брызнула бы кровь из закушенной губы. В опере давали Кармен… Арсению представилось, что Черимов все же уговорил Кунаева поехать на Игоря; он увидел, как наяву, – при миганье уличного фонаря Черимов показывает Кунаеву то же самое место в газете, и они смеются, смеются неуклюжей лжи сломавшегося друга. Арсений только учился лгать, и первые уроки давались ему с трудом.
– Ну, здравствуй, – басисто сказал Федор Андреич, не замечая расстроенного племянникова лица. – Кто это был у тебя, такой резкий, неприятный, многообещающий самурай?
Арсений с удивлением к необычному слову поднял глаза.
Федор Андреич курил, созерцая длинный, кудреватый смерч над собою. То был высокий жилистый человек, с белесым, равнодушным лицом и лысой шишковатой головой. Изредка судорога какой-то страсти, никогда не получившей удовлетворения, подергивала его рот. В его руках было что-то от челюстей, которые жуют, пальцы его беспрестанно двигались, как бы ища какую-то утраченную форму. Ничто, кроме пятнышка берлинской лазури на тыльной стороне ладони, не подсказывало о его ремесле. Дядя приходил по пятницам. Ремесло его кормило плохо. У брата он подкармливался.