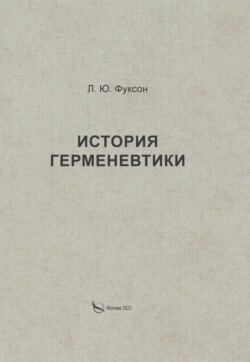Читать книгу История герменевтики - Леонид Юделевич Фуксон - Страница 4
Герменевтика античности
ОглавлениеКак ранее было уже отмечено, не только по существу, но и исторически первична герменевтика жизни, внятная каждому человеку, а не учёная, специальная герменевтика текстов. Человеческая жизнь – путь, имеющий в той или иной степени осознанное направление, то есть смысл. Но этот общий смысл – впереди и всегда лишь предполагается, намечается, пока жизнь не завершилась, не «окаменела» в судьбу, то есть пока её смысл окончательно не сбылся. Человеческое существо поэтому никогда не исчерпывается модальностью наличной действительности. Жизнь для человека прежде всего горизонт возможностей. Их постоянный набросок означает, что человек – это не только то, что уже есть, но и то, чем он лишь ещё собирается стать. Такая модальность возможности, модальность «ещё» и определяет осмысленность нашей жизни, иначе говоря, какое-то открываемое её направление. С этим связано то, что мы постоянно пытаемся предвосхитить происходящее с нами.
Древнейшее свидетельство герменевтической проблематики – фигура так называемого оракула. В греческом храме Аполлона в городе Дельфы прорицатель раз в месяц отвечал на вопросы прихожан. Именно так узнал о своей страшной судьбе Эдип (Софокл. Эдип-царь 764–770). Кто такой прорицатель, пророк? – Корень «рок» означает «речь». Приставка же этого слова (про- = пред-) указывает на способность заглянуть в будущее: пророк, прорицатель – предсказатель. Таков провидец-кудесник из пушкинской «Песни о вещем Олеге», который говорит князю:
Грядущие годы таятся во мгле,
Но вижу твой жребий на светлом челе (…)
Различные способы гадания, дошедшие до нас из самой глубокой древности, – это попытки заранее разведать будущее. Все они строятся на вере в то, что время жизни целостно и указатели будущего находятся в настоящем, как, например, судьба человека якобы отпечатывается в свёрнутом виде на его ладони. Ладонь – раскрытая книга, испещрённая тайными «провидческими» знаками. И для успешного истолкования этих знаков необходимо герменевтическое искусство хироманта. Такое же предвещающее значение с древности придавалось снам. Книги, интерпретирующие сны («сонники»), появились очень давно. Вымышленный автор известного сонника позднего времени (XVIII век) Мартын Задека назван в пятой главе романа «Евгений Онегин» «главой халдейских мудрецов». Именно его «глубокое творенье» читает Татьяна Ларина в надежде понять, что предвещает увиденный ей накануне страшный сон. Последний, самый знаменитый, сонник принадлежал уже упомянутому во введении Зигмунду Фрейду. Правда, эта его прославленная книга «Толкование сновидений», вышедшая на границе XIX и XX веков, должна была помочь заглянуть не в будущее, а, наоборот, в прошлое, которое человек в бодрствующем состоянии сам от себя прячет, что, как можно вспомнить, и является вскрываемой психоаналитиком причиной болезни.
В Древнем Риме для обозначения способности предчувствовать, предвидеть использовали слово «дивинация» (divinatio). Цицерон посвятил этому феномену целый трактат (Цицерон. Философские трактаты. М., 1985. С. 191–298). А уже в Новое время понятие дивинации было переосмыслено в герменевтике Фридриха Шлейермахера, о чём речь впереди.
* * *
От герменевтики гаданий и пророчеств решительный переход к рациональному мышлению совершили ранние греческие мыслители.
Парменид, философ из Элеи (VI–V вв. до н. э.), в своей поэме «О природе» писал о пути истины – ἀλήθεια, что буквально переводится как несокрытость. Хайдеггер, обращая внимание на отрицательную приставку этого слова, акцентирует в нём семантику спора – спора с сокрытостью, откуда следует, что истина «никогда не наличествует “в себе”, но завоёвывается» (М. Хайдеггер. Парменид. СПб., 2009. С. 39, 45). Путём истины идёт «чистое» мышление Парменида и его последователей, для которых лишь бытие есть, а небытия нет (Фрагменты ранних греч. философов. Ч. I. М., 1989. С. 288, 290). Сокрытость истины выражается в «мнениях», порождённых чувствами, – δόξα. В мнениях как раз смешиваются бытие и небытие: «глазеть бесцельным (невидящим) оком, слушать шумливым (по сути глухим – Л. Ф.) слухом и пробовать на вкус языком» – такова ограниченная сфера чувственных впечатлений – мнений (Фрагменты ранних греч. философов. Ч. I. М., 1989. С. 290). Смешанности бытия и небытия изоморфна смесь истины и заблуждения.
Итак, мысль в понимании Парменида осуществляется не непосредственно, а как спор с ненадёжными показаниями чувств, развёртывающийся в виде ряда противопоставлений: истина – мнение, бытие – небытие, неподвижность – движение, свет – тьма. Причём первые члены этих оппозиций утверждаются как истинные, а вторые – отвергаются как мнимые. Такое принципиальное разграничение мнимого (кажущегося, явного) и реального (скрытого, неочевидного) указывает на напряжение, лежащее в основе герменевтической ситуации и проходящее через всю историю герменевтики.
Зенон Элейский (V век до н. э.) – ученик Парменида – развернул доказательства положений учителя в виде ряда парадоксов, или апорий (ἀπορία – тупик). Апория – приём опровержения тезиса путём логического приведения его к абсурду. Таким наглядным приёмом впоследствии пользовался Сократ, как это известно по диалогам Платона. Апории Зенона дали право Аристотелю назвать его изобретателем диалектики. То же самое можно прочитать у Гегеля, считавшего, что именно с Зенона диалектика «собственно и начинается» (Г. В. Ф. Гегель. Лекции по истории философии. Кн. I. СПб., 1993. С. 271).
Приведём самый знаменитый пример апорий Зенона, обсуждаемый в числе других Аристотелем в пятой книге трактата «Физика». Быстроногий Ахиллес никогда не догонит черепаху, так как пока он пробежит расстояние до того места, где она была в начале движения, она всё же преодолеет какое-то (хоть и меньшее) расстояние. И так расстояние между ними будет бесконечно сокращаться, никогда не доходя до нуля. Зенон не отрицал движение в том виде, как оно дано чувствам. Но показания чувств, по его мысли, продолжающей мысль Парменида, – лишь мнение. Движение неистинно по своей сущности, коль скоро содержит в себе внутреннее противоречие, демонстрируемое апориями.
В образе одного из героев стихотворения Пушкина «Движение» можно узнать именно представителя элейской школы:
Движенья нет, сказал мудрец брадатый.
Другой смолчал и стал пред ним ходить.
Сильнее бы не мог он возразить;
Хвалили все ответ замысловатый.
Но, господа, забавный случай сей
Другой пример на память мне приводит:
Ведь каждый день пред нами солнце ходит,
Однако ж прав упрямый Галилей.
Свидетелей спора в мире стихотворения убеждает наглядный аргумент, но для элеатов свидетельства чувств, конечно, не имеют доказательной силы, как и для «упрямого Галилея».
Гегель, комментируя апории Зенона, писал: «… Но двигаться означает быть в данном месте и в то же время не быть в нём, – следовательно, находиться в обоих местах одновременно; в этом состоит непрерывность времени и пространства, которая единственно только и делает возможным движение. Зенон же в своём умозаключении строго отделял друг от друга эти две точки» (Г. В. Ф. Гегель. Лекции по истории философии. Книга 1. СПб., 1993. С. 281).
Близкое гегелевскому возражение Зенону представил Анри Бергсон, видевший корень парадокса в том, что движение элейский философ описывает как сумму «покоев», фрагментируя существенно непрерывный процесс на множество стационарных состояний: «Когда Ахилл преследует черепаху, то каждый из его шагов должен считаться неделимым точно так же, как и каждый шаг черепахи… Движение, рассматриваемое Зеноном, только тогда могло бы быть эквивалентным движению Ахилла, если бы можно было вообще смотреть на движение, как смотрят на пройденное расстояние, поддающееся произвольному разложению и составлению» (А. Бергсон. Творческая эволюция. М., 1998. С. 298).
Отметим, что конфликт логики и показаний чувств в учении элейских мыслителей осознаётся не только как гносеологический «тупик», но и как онтологическая проблема надёжности самих жизненных ориентиров, колебание которых и является основой герменевтической ситуации. Эта ситуация глубоко развёрнута в греческой трагедии, о чём скажем позже.
Представление о неочевидности знания, то есть о несовпадении того, что есть, и того, что кажется, является важнейшим открытием элеатов в истории европейской герменевтики; открытием, освобождающим «чистую мысль», по выражению Гегеля (Г. В. Ф. Гегель. Лекции по истории философии. Кн. 1. СПб., 1993. С. 257).
Гераклит (VI–V вв. до н. э.) истолковывает реквизит Аполлона – лук и лиру – как в основе своей нечто единое: лук (атрибут войны, разлада) – перевёрнутая лира (эмблема мира, лада). [См.: Фрагменты ранних греч. философов. Ч. I. М., 1989. С. 199–200]. Эта интерпретация упомянута в диалоге «Пир» (Платон. Соч. Т. 2. М., 1970. С. 113). Смысл её в том, что Гераклит видит в основе бытия единство противоположных начал: «Одно и то же для Единого живое и мёртвое, одно и то же бодрое и спящее, и юное, и старое. Ибо то, обернувшись, есть это, а это, вновь обернувшись, первое» (Гераклит. Всё наследие. М., 2012. С. 172). Это парадоксальное «утверждение-оборотень», которое как будто вступает в спор с самим собой, а также подобные ему, возможно, и породили прозвище философа – Тёмный (непонятный, загадочный). Его наблюдения акцентируют изменчивую, подвижную природу бытия: «Холодное нагревается, горячее охлаждается, влажное сохнет, иссохшее орошается»; «Болезнь делает приятным и благим здоровье, голод – сытость, усталость – отдых» (Фрагменты ранних греч. философов. Ч. I. М., 1989. С. 214). Как мы видим, само понимание болезни и здоровья, голода и сытости и т. п. – взаимно – это понимание с помощью противоположного. Кассирер, говоря о человеке как месте напряжения полярных противоположностей, ссылается именно на Гераклита (Э. Кассирер. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 703–705). Георг Зиммель, истолковывая творения Микеланджело, упоминает Гераклита и его понимание бытия мира как борьбу и единство противоположностей (Г. Зиммель. Избранное. Т. 1. М., 1996. С. 422–423). Гераклитовская онтология работает в исследовании немецкого философа, как мы видим, на герменевтику художественных изображений.
Гегель сравнивал диалектику представителей элейской школы и Гераклита, напоминая о том, что элеаты лишь бытие считали истинным, отрывая бытие от небытия. Такой отрыв Гегель полагал свойством рассудка. Разум же познаёт одно с помощью другого. К пониманию единства бытия и небытия как становления как раз и пришёл впервые, по мнению Гегеля, Гераклит (Г. В. Ф. Гегель. Лекции по истории философии. Книга 1. СПб., 1993. С. 287–290).
В диалектической мысли, на развитие которой так повлиял греческий философ, мы обращаем внимание прежде всего на герменевтическую сторону: мы понимаем «одно с помощью другого» – противоположного: тепло и холод отсылают друг к другу, как темнота и свет, путь вниз и путь вверх. Финк говорил в ходе обсуждения взглядов Гераклита, что, например, смертность людей и бессмертие богов понятны лишь в их взаимной обращённости друг к другу, соотнесённости (М. Хайдеггер, Е. Финк. Гераклит. СПб., 2010. С. 255).
Нельзя не упомянуть следующее утверждение греческого философа: «война (πόλεμος) – отец всего сущего» (Фрагменты ранних греч. философов. Ч. I. М., 1989. С. 202–203). Эта сентенция показывает, что диалектическая онтология является фундаментом диалектики как познавательной процедуры (полемики – словесной войны).
К герменевтической ситуации, которой органически присуще напряжение сокровенности, загадочности, относится не менее известный тезис Гераклита: «… природа любит прятаться, и сокровенная сущность богов не терпит того, чтобы её грубо открывали нечистому слуху в обнажённых выражениях» (Фрагменты…, с. 192). Мы найдём ту же мысль в требовании средневекового схоласта Пьера Абеляра. Кроме того, утверждение Гераклита отсылает к описанному выше пониманию Парменидом сущности истины как несокрытости, что представляет познание напряжённым усилием преодоления сокровенности, «спрятанности».
Эмпедокл (V век до н. э.). Для герменевтики представляет особый интерес учение Эмпедокла о двух типах отношений между известными ранней философии основными четырьмя элементами космоса (вода, земля, воздух, огонь). Это, как о них пишет Секст Эмпирик, излагая концепцию Эмпедокла, «два деятельных начала всех вещей – Любовь (φιλία) и Ненависть (νέικος)» (Фрагменты ранних греч. философов. Ч. I. М., 1989. С. 341). Их действие описано в поэме Эмпедокла «О Природе» так:
Под действием Злобы все [элементы] разнообразны и все порознь.
Под действием Любви они сходятся и вожделеют друг друга.
Из них – всё, что было, что есть и что будет (…).
(Фрагменты…, с. 349)
Следует добавить, что познание этих двух начал осуществляется, как считал Эмпедокл, подобным – Любовью и Враждой. В пересказе Зиммеля: «мы познаём вещи потому, что элементы всех вещей содержатся в нас самих: воду мы познаём через элемент воды в нас, огонь – через элемент огня, борьбу в природе мы постигаем через борьбу в нас, и любовь – через любовь» (Г. Зиммель. Избранное. Т. 1. М., 1996. С. 390).
В своей работе «Ordo amoris» (1914) Макс Шелер транспонирует космологическое учение Эмпедокла о любви и вражде в план этики, говоря о системе ценностей индивида, семьи, народа как порядке любви и ненависти, «расположения и нерасположения» – ordo amoris (М. Шелер. Избранные произведения. М., 1994. С. 341). Отсюда неслучайный эквивалент этого понятия – «нравственный космос» (346). Окружающие любого человека люди и вещи создают, по мнению Шелера, комплекс «притяжений и отталкиваний», в которых присутствует всегда определённый относительно устойчивый ordo amoris (343–344).
Объективности ради следует отметить, что ближайшим историческим предшественником ordo amoris Шелера был, скорее всего, не Эмпедокл, а Паскаль с его «аргументами сердца» (с. 354–361), к чему мы ещё вернёмся при рассмотрении герменевтики Нового времени. Однако между космическим порядком сил притяжения и отталкивания, установленным Эмпедоклом, и нравственными полюсами оценки, о которых писал Шелер, есть также несомненная близость.
Можно провести параллель между космосом, как его видел Эмпедокл, и художественным образом мира, который представляет собой, как правило, трудную герменевтическую проблему. В качестве аналога «любовного» тяготения и «враждебного» отталкивания, о которых говорил греческий философ, в художественном мире выступают символическая репрезентация (уподобление) и напряжение противоположных ценностей.
С одной стороны, феномен репрезентации как посредничающего представительства является основой единства смысловой перспективы в полисемической реальности художественного произведения – взаимное «притяжение» («филия») различных смысловых слоёв символической структуры. С другой стороны, любое художественное произведение раскрывает изображаемый мир как организованный его ценностной поляризацией, что Эмпедокл назвал бы враждой («нейкос»).
Направлениям этих двух смысловых «энергий» художественного произведения соответствуют две оси его интерпретации – интегральная и дифференциальная, схватывание внутренних связей по принципу «притяжения» либо «отталкивания».
Например, прекращение Дон Кихотом чтения рыцарских романов и решение его самому стать странствующим рыцарем можно понять как, во-первых, преодоление границы искусства (вымысла) и жизни (реальности). Во-вторых, одновременно eo ipso это означает переход от слов к делам (попытку «сказку сделать былью»), но ещё, в-третьих, покидание замкнутого пространства дома и вступление в открытое пространство дороги. Между перечисленными плоскостями истолкования имеется своего рода смысловое «притяжение» («любовь»): каждая из них репрезентирует остальные. Так выявляется интегральная шкала смысла произведения.
С другой стороны, сложность авторской оценки в романе «Дон Кихот» базируется на споре и взаимной отчуждённости («вражде») прошлого, ставшего нереальным, тем, что прошло, и настоящего. Многочисленные приключения, вводящие рыцарские нормы поведения, возвышенные в куртуазном романе, в обыденный прозаический контекст начала буржуазного – железного – века, реализуют ситуацию утраченных иллюзий, такую частую для более позднего европейского романа XIX века. Попытка буквального соблюдения героем рыцарского кодекса смешна как анахроничная. Однако в прошлое уходит не только внешняя, буквальная, но и внутренняя – духовная – сторона рыцарства. Вот почему комичный Дон Кихот – Рыцарь Печального Образа. Темпоральное ценностное напряжение открывает дифференциальную шкалу смысла романа Сервантеса.
Этот пример убедительно, на наш взгляд, демонстрирует герменевтический потенциал древних философских учений.
Диалектика ранних греческих философов, можно сказать, персонифицировалась в диалогах Платона (V–IV вв. до н. э.), в которых противоположности бытия и познания олицетворялись собеседниками и, таким образом, создавалась живая драма поиска многогранной, внутренне противоречивой истины. Кроме того, у Платона затрагивались сами диалектические темы досократиков. Например, в диалоге «Пир» один из собеседников называет врачебное искусство как «уменье установить дружбу между самыми враждебными в теле началами и внушить им взаимную любовь. Самые же враждебные начала – это начала совершенно противоположные: холодное и горячее, горькое и сладкое, влажное и сухое и т. п.» (Платон. Соч. Т. 2. М., 1970. С. 113). Похожее действие приведения к согласию силой Эрота обнаруживается и в музыке. Это отзвук учения Эмпедокла. Здесь же читатель находит отсылку к Гераклиту. В диалоге «Парменид» появляются фигуры элейских философов – Парменида и Зенона, – с которыми вступает в беседу юный Сократ. В «Софисте» развёртывается диалектика бытия и небытия, понимаемых одно с помощью другого. Причём без этой диалектики, по мнению Платона, невозможно было бы отличить ложь от истины. Софист Протагор же, будучи предтечей постмодернистов второй половины XX века, как раз утверждал, что лжи не существует и что «всё на свете истинно» (Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М., 1986. С. 348).
В диалоге «Ион» Сократ рассуждает о Музе, которая «делает вдохновенными одних, а от этих тянется цепь других, одержимых божественным вдохновением» (Платон. Соч. в 3-х томах. Т. 1. М. 1968. С. 138). Поэтическое творчество, таким образом, оказывается выражением этой божественной одержимости, а сами поэты, по мнению Сократа, являются «толкователями воли богов» (с. 139). Но на них цепь божественного вдохновения не обрывается, так как рапсоды (певцы), толкующие творения поэтов, – это «толкователи толкователей» (там же). Последнее же из звеньев этой цепи – читатели, слушатели, зрители (с. 140).
Образ герменевтической цепи, нарисованный Сократом, говорит о ситуативном понимании смысла как единства толкуемого и толкующего, как чего-то объективного, а точнее – интерсубъективного, существующего в пространстве между. Вольфганг Изер в работе «Изменение функций литературы» (см.: Современная литературная теория. М., 2004. С. 38–40) высказывает верную мысль о том, что литература сама является формой интерпретации. Однако он считает открытие такой функции исторически позднейшим. Между тем то, что литература, поэзия, а также искусство вообще всегда представляли собой интерпретацию, сознавал, как мы видим, уже Платон.
Само греческое слово «диалог» означает буквально: через (διά) слово (λογος). То есть это не что иное, как словесное посредничество. Поэтому диалог можно считать тем, что относится к самой сущности герменевтики.
Кассирер, обращая внимание на открытие Сократом нового релевантного подхода к пониманию природы человека, писал: «Мы не можем исследовать природу человека тем же путём, каким раскрываем природу физических вещей. Физические вещи можно описать в терминах их объективных свойств, человека же можно описать и определить только в терминах его сознания (…). Мы должны действительно очутиться с человеком лицом к лицу, чтобы понять его. Следовательно, вовсе не новизна объективного содержания, а новизна самого мышления – его деятельности и функции – составляет отличительную черту философии Сократа» (Э. Кассирер. Избранное. Опыт о человеке. М., 1998. С. 448–449).
Важно особо отметить, что платоновские диалоги наиболее ясно выявили герменевтическую значимость вопроса как формы мысли и речи. Гадамер, ссылаясь как раз на Платона, писал: «Знание может быть лишь у того, у кого есть вопросы, вопросы же всегда схватывают противоположности между “да” и “нет”, между “так” и “иначе”» (Х.-Г. Гадамер. Истина и метод. М., 1988. С. 429). Главный герой диалогов – Сократ – не столько сообщал какие-то истины, сколько, постоянно задавая вопросы, помогал собеседникам самим прийти к истине. Говоря о том, что он унаследовал у матери, повитухи Фенареты, её ремесло, Сократ подразумевал своё умение помогать вопросами «рожать» знание: «В моём повивальном искусстве почти всё так же, как и у них (у повитух – Л. Ф