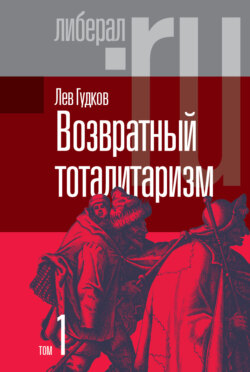Читать книгу Возвратный тоталитаризм. Том 1 - Лев Гудков - Страница 3
Раздел 1
Технология массовой консервативной мобилизации
Ресентиментный национализм[11]
ОглавлениеСоциальное воображение как условие аналитической работы. 2014 год останется в новейшей истории России отмеченным не просто многообразием событий (их явно было больше, чем в любой другой год последнего десятилетия, включая и кризисные 2008–2009 годы[12]), но и тем, что политики и комментаторы из разных лагерей старались придать им некий общий смысл, подчинив их интерпретацию единой логике происходящего (подчас прямо противоположной по характеру). До последнего времени вопрос о сути происходящего не возникал: усиление авторитаризма заставляло политологов гадать о том, как долго путинский режим сможет протянуть, занимаясь лишь перераспределением нефтегазовой ренты и игнорируя потребности остальной части экономики и модернизации страны в целом. После 2014 года ситуация изменилась. Очевидна потребность понять, что ждет страну, выявить не просто закономерности путинского периода, но и поставить его в общий контекст эволюции постсоветского социума. Однако вопросы формулируются не в общей форме: «Что такое сегодняшняя Россия?», а в политически прикладной или даже сугубо практической: «Чего ждать от сегодняшней России?», – вызывающей серьезную тревогу у соседних стран своей «иррациональностью», непредсказуемостью, «упрямством» Путина и послушного ему кремлевского руководства («Прижатый к стенке Путин становится опасным»[13]). Поэтому отдельные события воспринимаются символически нагруженными, как бы «сами собой» встающими в общую цепь причинно-следственных зависимостей. Статус самых важных из них поднят до «поворотных», «определяющих судьбу России» на ближайшие десятилетия, как это было относительно путча 1991 года или подавления антиельцинского мятежа в октябре 1993 года., повлекшего за собой оправдание насилия в решении политических проблем и последующую войну в Чечне. Тогда они обозначили реванш консерваторов и закрепление авторитарного режима в 2002–2004 годах.
Потребность понять смысл происходящего возникает не только из самой неопределенности ближайшего будущего, но и из экстраординарности массового возбуждения, националистической эйфории, вызванной аннексией Крыма, подскока рейтингов одобрения власти после длительного снижения ее авторитета. Признаки такой консолидации были столь очевидны (чем бы они не вызывались – массированной пропагандой и манипулированием общественным мнением или инерцией имперских и советских представлений населения), что это были вынуждены признать даже те, кто ранее обвиняли социологов в подтасовке данных массовых опросов[14].
Многие обозреватели как в самой России, так и за рубежом говорят о «кризисе режима» или приближающемся конце путинского правления. Оснований для такого «окончательного диагноза» пока явно маловато. Всегда остаются сомнения, не являются ли такие констатации не более чем выражением иллюзий либералов, их самонадеянности или политического солипсизма. Но даже если принять этот вариант как весьма вероятный сценарий обозримого будущего, то все равно «конец» не означает, что уход Путина (вместе со своим окружением) будет равносилен переходу к демократии и к правовому государству. Можно согласиться с теми, кто говорит, что попытки нынешних руководителей государства найти выход из углубляющегося кризиса, вызванного их же собственным неэффективным управлением, оборачиваются лишь нагромождением негативных последствий, усиливающих общий дисбаланс в стране. Они переводят частные социальные дисфункции в системные и общеполитические, с течением времени ведущие к настоящему параличу государства и экономики (как это было во второй половине 1980-х годов). Но предстоящий паралич власти сам по себе не тождественен либерализации российского политического устройства или победе демократов в общественном мнении. Речь может идти лишь об исчерпании нефтегазовых ресурсов данной системы, а это не то же самое, что ресурсы массовой поддержки или легитимности власти. В любом случае потенциал власти или потенциал массовых выступлений против власти (границы терпения и признания) представляется весьма дискуссионным вопросом.
Резкое обострение общей ситуации в России в 2014 году и признаки приближающегося крупномасштабного финансового кризиса ставят перед социальными учеными множество вопросов, на которые вряд ли стоит ждать ответов в ближайшее время. В лучшем положении оказываются экономисты, указывающие на последствия политики руководства страны, проводившейся на протяжении многих лет[15], в худшем – политологи и социологи, уклоняющиеся от интерпретации социальных процессов в постсоветское время и ограничивающиеся лишь анализом текущих событий и комментариями к ним.
В нашей стране бедность социологического воображения и используемых средств объяснения (понимания) обусловлена более сложными причинами, нежели ограниченные индивидуальные способности тех или иных политологов или комментаторов. Вопрос в социальной обусловленности знания, потребности в изучении реальности, порождающей ответные необходимые усилия в разработке интеллектуальной техники понимания, описания, объяснения. Социология как наука сама по себе гораздо сложнее, чем структура российского общества, в целом абсолютно равнодушного и инертного в отношении знания о себе. Как известно, социология родилась в силу потребности в объяснении совершенно новых, непонятных явлений и отношений, возникших в пространстве больших городов, в процессах модернизации европейских стран в конце XIX века. Первые социологи (ставшие классиками) были маргиналами из размывающегося привилегированного сословия буржуазии, в том числе и «буржуазии образования» (Маркс, Теннис, Зомбарт, Вебер, Зиммель, Дюркгейм и др.), фиксирующими новые социальные проблемы. В советское время запрос на социологию был связан с необходимостью «оптимизации государственного управления» и идеологической пропаганды, таким он во многом остается и сегодня. Если не считать маркетинга, то основные представления о смысле и целях социологических исследований сводятся к «электоральным опросам», что редуцирует саму дисциплину до обслуживания власти или ее оппонентов. Сам по себе знак идеологических симпатий или антипатий ничего не меняет в убожестве и примитивности социального воображения образованной части нашего общества. Различий в понимании социальной природы человека у кремлевских политтехнологов или у их оппонентов, демократов, практически нет. Отсутствие интереса к человеку в обществе отражает структуру самого общества. Этим российская социология отличается от российской экономической науки, где есть запрос на реальное знание, серьезный интерес к реальным отношениям в разных сегментах общества, поскольку этот интерес детерминирован практической значимостью знаний о трансакциях, обменных отношениях, хозяйственных, экономических мотивах поведения различных групп. Можно сказать, что состояние экономической науки отражает степень изменений постсоветского социума, а состояние социологии – изменения лишь политической системы. Во многих аспектах именно экономистами ставятся те проблемы (вынужденным образом), которые не замечают социологи. Другое дело, что экономисты, исходя из своих внутридисциплинарных средств познания, дают неадекватные им решения, чаще всего – «экономизируя» и излишне инструментализируя человеческое поведение, недооценивая символический и культурный план человеческого сознания.
Бедность социального воображения есть отражение «неинтересности» нас друг для друга, что само по себе должно было бы рассматриваться как результат деятельности институтов насилия, определенной структуры институтов власти, организации общественной жизни, постоянных усилий государственной власти по упрощению способов социального человеческого взаимодействия, а стало быть – систематического обесценивания человека, девальвации «другого». Можно сказать, что эффект тотальной принудительной бюрократизации социума (нивелирования отношений социального и культурного неравенства и разнообразия, как об этом писал Вебер[16]), многократно усилившего последствия тоталитарного (или еще более раннего – крепостного) наследия России. По отношению к отечественной социологии (тем более к политологии) отсутствие интереса к реальности, к обычным людям проявляется как стремление подогнать объяснение под готовый ответ – под схемы интерпретации, представленные в университетских (западных) учебниках по социологии. Иными словами, ориентированность на внешние критерии оценки исследовательской работы отражают сильнейшую зависимость ученых от государства (и отсюда – неискоренимо провинциальный характер российской социологии), а следовательно, отсутствие собственных, внутридисциплинарных познавательных интересов и критериев значимости научной работы.
После ликвидации слабых зародышевых институтов демократии в России (и замены их в середине 2000-х годов на структуры «управляемой» или «суверенной демократии») политика как область открытой конкуренции политических партий и определения целей общественного движения была заменена разного рода суррогатными образованиями и имитациями. С установлением жесткой и действенной цензуры публичные дискуссии о партийных программах, социальных проблемах, целях и характере государственной политики полностью прекратились. Телевидение заполняет эфирную пустоту разного рода отражениями власти, саморекламой власти, являя населению образ несменяемого, заботливого и умелого высшего начальства, дополняемого чередой тасуемых и сменяемых нижестоящих чиновников-временщиков, щедринских помпадуров. Аморфное и лишенное представительства и организации население по-прежнему отделено от механизмов принятия государственных и политических решений и контроля над их осуществлением. Общество, отказавшееся от участия в политике, с подавленной сферой представительства групповых интересов, механизмов определения будущего (структуры политического целеполагания), чрезвычайно ценит свою приватность и «повседневность». Отдав свои права авторитарному режиму в обмен на «гарантии» существования, оно безнадежно понизило уровень своих интеллектуальных и моральных запросов. Повседневная жизнь определяет рамки возможного («чтоб не хуже») и выступает средством противоядия от избыточных мечтаний обывателя. Массовый конформизм определяет горизонт возможного как практически желаемого[17]. Именно таким и является общество при Путине.
С точки зрения общих национальных интересов (модернизации и развития страны), нынешний режим означает усугубление процессов деградации, захватывающей самые разные стороны общественной жизни России – экономику, внешнюю и внутреннюю политику, культуру, социальную сферу (пенсии и здравоохранение) и т. п. Но это точка зрения либералов, сторонников сближения с Западом, откуда только и могут поступать новые технологии, идеи и ценности, без которых длительное благосостояние населения немыслимо. Совершенно иные представления о национальных интересах у правящей элиты, паразитирующей на сырьевой ренте и озабоченной лишь легитимацией своей бесконтрольной и несменяемой власти. Отсюда – обращение к давно ушедшим идеологиям геополитики, имперского блеска и пышности, что при отсутствии культуры и вкуса производит впечатление китча и абсурда. Режим, по мнению многих обозревателей, неадекватно реагирует на обостряющиеся проблемы, возникающие в самых разных сферах – будь то коррупция, медицина, наука, ксенофобия, общая деморализация и деградация страны. И это ведет к тому, что частные дисфункции переносятся на более высокий уровень, порождая, в свою очередь, кризис общесистемного характера.
Понимание нынешним руководством страны своего предназначения, своей «исторической роли» сводится к восстановлению статуса «великой державы». Если снизить пафос, то в реальности эти намерения ограничиваются рутинизацией краха тоталитарной системы и обеспечения своего положения. Дефицит легитимности, родовая травма обоих режимов после распада СССР заставляет путинскую администрацию искать ресурсы для массовой поддержки в обращении к суррогатам идеологии групп, уже сошедших с политической сцены: идеологии социально-политического консерватизма, псевдотрадиционализма, догматического православия, показавших свое убожество и непродуктивность еще в конце XIX – начале XX века. Все усилия кремлевских политтехнологов (и еще массы жаждущих одобрения власти) сводятся к тому, чтобы подавить любые возможности рационализации и моральной переработки тоталитарного прошлого. Новых идей и смыслов вся эта идеологическая суета породить не может, но ее итогом оказывается стойкий каркас демагогии и официального лицемерия, блокирующего реальные общественные дискуссии о социальной проблематике и эволюции страны. Наиболее тяжелые последствия это имеет и будет иметь для всей системы социокультурного воспроизводства: деградирующие здравоохранение и образование. Примером здесь могут быть ускоряющееся сокращение медицинских учреждений, численности врачей, ограничение доступа значительной части населения к качественной медицине, растущая бюрократическая регламентация и бессмысленные споры о ЕГЭ, утрата интереса детей к учебе, стерильности школьной и университетской этики.
Еще очевиднее эти процессы проявляются в смысловом пространстве современной русской литературы, по существу, потерявшей своего читателя – объем читательской аудитории, в сравнении с поздним советским временем, сократился в несколько раз[18]. Массового читателя можно понять: преобладающими направлениями в современной премиальной литературе стали социальный садизм и мстительный мазохистский китч. Таковы, на мой взгляд, лучшие романы В. Сорокина, М. Елизарова, З. Прилепина, В. Пелевина, Р. Сенчина или обоих А. Ивановых – екатеринбуржца и «эстонца», Д. Данилова, Ю. Буйды, равно как и других авторов из очень длинного ряда лауреатов «Русского Букера», «Нацбеста», «Большой книги». Поэтому потеря читательского интереса к самоописаниям аномичного и дезориентированного сознания легко объяснима: фактически это никому не нужно, даже самим авторам, если исходить из буквального содержания их текстов[19]. Литераторы стали слоем маргиналов, утративших вместе с интеллигентской культурой свое место и чувство предназначения.
Труднее оценить отдаленные последствия такого положения дел: без системы социокультурного воспроизводства, ориентированной на высокие образцы идеализма, не имеет смысла даже надеяться на появление самостоятельного и ответственного индивида, хотя бы идеи такового, не говоря уже о реальном существовании и действии людей с чувством собственного достоинства, а значит, и стремлением к свободе, то есть к отстаиванию своих прав (собственности, информации, вероисповедания, эстетических пристрастий и т. п.). Низкая или слабая «валентность» ценностей (дефицит значений и смыслов личности) восполняется через этос «потребительского общества», со своей стороны порождая обоснованные подозрения в справедливости и достоинствах этого типа социальной гратификации, и развращенность коррумпированного чиновничества и депутатского корпуса, основных бенефициариев потребительского бума 2000-х годов. Сомнения, что характер потребления может быть эквивалентен «заслуге», достоинству, обусловлены чувством несправедливости действующей в путинской России системы распределения, отражающей не столько индивидуальные усилия и качество достижений (профессиональных, предпринимательских, человеческих), сколько близость к источникам административной ренты и наличие привилегий в распределении.
Причины массового консерватизма заключаются не в традиционализме как таковом, а в отсутствии представлений о том, каким должно и каким будет будущее страны в среднесрочной и дальней перспективе, за счет чего могут произойти желаемые изменения. Это заставляет большую часть населения упорно держаться за настоящее, оценивая его исключительно с точки зрения вчерашнего прошлого (то есть отталкиваясь в своих ориентациях и жизненных стратегиях от «худшего»)[20]. Ригидность (что точнее в плане дефиниций, чем понятие консерватизма) российского массового сознания – производная характеристика, следствие опыта выживания в условиях искусственной безальтернативности тактик и моделей поведения. Отсутствие выбора есть результат используемых авторитарным режимом технологий господства, целенаправленной социальной политики государства, не контролируемого населением и, следовательно, не испытывающего ответственности за свои действия. Фактически это приспособление к политическому, законодательному и экономическому произволу власти.
Симптоматика «исчезновения будущего» указывает на отсутствие идеализма, альтруизма, гуманности, то есть на незначимость понятий более высокого уровня, нежели собственно потребительское существование[21]. Без этого крайне необходимого фермента жизнедеятельность современного, то есть непрерывно развивающегося, общества, невозможна. Без него не происходит осмысления новых явлений и процессов в посткоммунистическом обществе, все новое воспринимается и осознается через сетку старых или квазитрадиционных категорий и понятий (геополитики, племенной или великодержавной этики, изоляционизма, антизападничества и т. п.). Возникающие нетривиальные явления и социальные механизмы организации общества, прежде всего – формирование потребительского общества при архаической системе государственного патернализма, не могут быть осмыслены или хотя бы фиксированы в массовом сознании. Для этого даже у «культурной» или «интеллектуальной элиты» нет ни языка, ни средств социальной маркировки или рационализации. В таких условиях обеднение угнетенной символической сферы (аморализм, игра на циническом понижении представлений о человеке, незаинтересованности в других) оказывается основным ресурсом и тактикой власти[22]. Поэтому в массовом сознании действует максима «понижающей адаптации»: ориентироваться не на что-то лучшее, а стараться не потерять то, что уже есть. Сохранение советских ценностных представлений обусловлено всем институциональным контекстом существования, и не в последнюю очередь – мало меняющимся характером работы репродуктивных и образовательных институтов, рутинным воспроизводством предшествующих советских культурных и символических ресурсов коллективной идентичности. А это значит – сохранением характера и способов социализации новых поколений[23].
Следствием такой идеологической политики мог быть лишь подъем аморфных, резидуальных представлений, оставшихся в массовой памяти от предыдущих эпох. Сама по себе кремлевская пропаганда не была бы столь результативной, если бы не атмосфера массовой потребительской культуры, которая в условиях размытого государственного патернализма играла роль катализатора консервативных настроений. Рассмотрим это подробнее.
12
Всю совокупность событий 2014 года можно разбить на несколько категорий: 1) крах режима В. Януковича и антиукраинская политика российского руководства (антимайданская пропаганда в январе – марте, аннексия Крыма, сопровождаемая патриотической демагогией и консолидацией населения вокруг режима, сбитый малазийский «Боинг», моральную ответственность за катастрофу которого мировое сообщество возложило на Россию), смена руководства Украины, ее новый прозападный и антипутинский курс; 2) западные и ответные путинские санкции, вызвавшие стремительный рост потребительских цен, международная изоляция России, превращение ее в страну-изгоя; 3) падение цен на нефть, нарастание симптомов экономического кризиса (стагфляция, декабрьский обвал рубля), ожидаемое банкротство регионов; 4) меры по защите режима (новые антидемократические законы, продолжающиеся репрессии и судебные процессы против оппозиции, выдавливание из публичного поля независимых организаций гражданского общества и СМИ, издевательский приговор братьям Навальным, проект «закона Ротенберга»), наконец, всякого рода акций против «либерастов», шум вокруг победы на «Евровидении» Кончиты Вурст и пр.; 5) продолжение демонстрации в стилистике «великая держава»: Олимпиада в Сочи, беспрецедентная по затратам и коррупционным скандалам, 6) теракты на Кавказе, нападения боевиков в Грозном и ответные действия Кадырова, разрывающие правовое поле России и т. п.
13
См., например: Пресса Британии: трещины в имперской мечте Путина // Русская служба BBC. Обзор британской прессы от 09.01.2015. URL: https://news.mail.ru/politics/20679664/. Хотя угрозы нанести ядерные удары по западным странам исходят от депутатов, имеющих репутацию политических шутов или от третьестепенных фигур в окружении Путина, тем не менее сама по себе такая манера поведения «государственных лиц», немыслимая ранее, говорит о том, что риски радикализации конфликта России с мировым сообществом развитых стран очень выросли. Для серьезного аналитика проблемой становится ограниченность его собственного социального и политического воображения, обусловленная самой его причастностью к современной культуре, то есть безусловной значимостью ценностей всех тех, кто ориентируется на нормы либерально-правового мышления и рациональности, присущей цивилизации, учитывающей опыт тоталитаризма, Второй мировой войны, гуманитарных катастроф первой половины ХХ века и более поздних геноцидов. Дело даже не в отсутствии понятийных средств анализа, а в ценностно-моральных нормах, блокирующих для такого типа сознания саму мысль о возможности стратегий поведения, которые вполне релевантны или органичны, «естественны» для диктатора. В определенном плане даже не так уж важно, действительно ли подобный фюрер или национальный лидер слепо верит в свою удачу, будучи по природе своей игроком (а значит – шантажистом), или он ведет себя так потому, что теряет голову от страха, когда ему мерещится призрак Чаушеску или Каддафи.
14
Это не изменило их общей установки («не верю я в эти 85 %»), но все же вызвало какое-то смутное беспокойство относительно «иррациональности» происходящего, которое, впрочем, не привело к критической переоценке собственной позиции.
15
См., например: Иноземцев В. Л. Что Россия сделала с нефтью? Что России делать с нефтью? // Ведомости. 16.12.2014; 22.12.2014. URL: http://www.vedomosti.ru/opinion/news/37645191/chto-rossii-delat-s-neftyu. Как пишут А. Кудрин и Е. Гурвич: «Проблемы нашей экономики носят хронический характер <…>. Причины этих проблем в слабости рыночной среды, вызванной доминированием государственных и квазигосударственных компаний, имеющих искаженную мотивацию по сравнению с обычной рыночной логикой и “неформальные” отношения с государством. <…> Меры, которые обсуждаются или реализуются сегодня, не соответствуют масштабам проблем, стоящих перед российской экономикой» (Кудрин А. Л., Гуревич Е. Р. Новая модель роста для российской экономики // Вопросы экономики. 2014. № 12. С. 33). Система держится исключительно на перераспределении нефтегазовой ренты и других сырьевых ресурсов. Исчезли стимулы к развитию (сокращению издержек, рационализации производства), и у бизнеса, и у чиновников преобладает ориентация исключительно на освоение казенных денег.
16
Weber M. Die legale Herrschaft mit bürokratischem Verwaltungsstab // Weber M. Wirtschaft und Gesellschaft. Grundriss der verstehenden Soziologie. 5. Aufl. Bd. 1. Kap. III. Tübingen: J.C.D. Mohr (Paul Siebeck), 1972. S. 124– 130.
17
Приведу одну цитату из Яна Щепаньского, которую мне когда-то уже приходилось приводить: «Повседневность <…> есть санкция величию и одновременно его тест на выживаемость, его проверка. Революция становится тем, что из нее делает повседневность. Повседневность – окончательная кухня истории» (Szczepanski J. Reflexion über das Alltägliche // Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie. Opladen. 1979. № 20. S. 322).
18
Дубин Б. В., Зоркая Н. А. Чтение и общество в России 2000-х годов // Вестник общественного мнения. 2008. № 6 (98) С. 30–52.
19
См., например, повести Д. Данилова «Черный и зеленый» (2004), «Горизонтальное положение» (2011). Неудивительно, что массовый потребитель перешел на другие образцы, пусть и сниженные, но более жизнелюбивые и позитивные варианты американской или европейской массовой культуры.
20
Традиционная культура разрушена в ходе социальных катастроф, потрясавших Россию весь ХХ век, начиная с Первой мировой и Гражданской войн, но особенно в 1930–1940-е годы советского тоталитаризма (террор, коллективизация, гулаговская индустриализация, принудительное идеологическое «воспитание» и борьба с религией и пережитками прошлого). Об отсутствии спроса на религиозный фундаментализм говорит то, что, несмотря на номинально очень высокий авторитет церкви, большая часть россиян против вмешательства РПЦ в частную повседневную жизнь. Более того, большинство продолжает, как и в советское время, настаивать на том, что церковь должна быть отделена от государства (в среднем так устойчиво считают 56–57 %), за «симфоническое слияние» церкви и государства выступают 30 % респондентов. Апелляции к традиционализму представляют собой попытки кремлевских политтехнологов создать идеологический эквивалент утраченной единой государственной идеологии советского времени. Пока, как показывают социологические исследования, эти усилия не приносят желаемого результата, однако, по мере усиления репрессивной политики и все более жесткой пропаганды шансы на закрепление в массовом сознании основных постулатов этой новой идеологии будут повышаться.
21
Левинсон А. Г. Гражданское общество в самоизоляции // Ведомости. 10.04.2020. URL: https://www.levada.ru/2020/04/03/grazhdanskoe-obshhestvo-v-samoizolyatsii/
22
Гудков Л. Д. Человек в неморальном пространстве // Наст изд. Т. 1. С. 463–623.
23
Зоркая Н. А. Современная молодежь: к проблеме «дефектной» социализации // Вестник общественного мнения. 2008. № 4 (96). С. 44–77; Ее же. Молодежь: типы адаптации, оценка перемен, установки на социальное достижение // Мониторинг общественного мнения. 2001. № 2. С. 22–30.