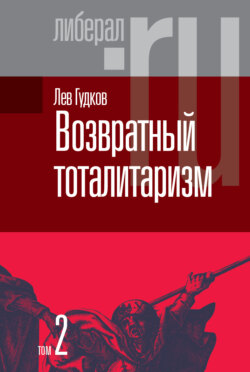Читать книгу Возвратный тоталитаризм. Том 2 - Лев Гудков - Страница 3
Раздел 2
Институциональные и культурные ресурсы регенерации репрессивного социального порядка
Образ Сталина в общественном мнении России: структура тоталитарного символа[27]
ОглавлениеПредварительные замечания
Риторическое обращение нынешних российских политиков к Сталину как эталону государственного деятеля и не менее частое представление самой сталинской эпохи в качестве примера форсированного развития страны[28] следовало бы расценивать прежде всего как свидетельство невежества и цинизма российского политического класса, но ограничиться подобными оценками нашей «элиты» не позволяет резонанс, который получают их выступления в обществе. Речь при этом идет не об историческом Сталине. О нем знают мало, поскольку историческое знание для большинства обывателей недоступно и не представляет особого интереса. «Сталин» в сегодняшней России – это реквизит политической мифологии, используемой как кремлевской администрацией для компенсации слабой легитимности нынешнего режима, так и коммунистами, позиционирующими себя в качестве оппонентов действующей власти.
Как и другие «мифы ХХ века», комплекс представлений о Сталине не имеет ничего общего с традиционными космогоническими или героическими верованиями, воспроизводимыми в племенных ритуалах, или фольклорными легендами, объясняющими происхождение институтов. Сталинский миф – продукт бюрократической работы, прежде всего – массовой пропаганды. Для понимания его действенности важно не его правдоподобие, а частота повторения, играющая роль аналога группового ритуала или государственного церемониала, посредством которых многократно повторенные суждения превращаются в стереотипы или клише массового сознания. Подобные символы существуют не потому, что в них так уж нуждаются и верят массы, а потому что к ним постоянно апеллируют различные влиятельные политические силы, которые, руководствуясь своими интересами, навязывают их обществу.
Политические мифы управляют не отдельными фактами или аргументами, а целыми риторическими контекстами[29]. Так, имя «Сталин» объединяет разнородные представления о стиле руководства страной, характере общества, отношениях с другими странами, оно поддерживает связанность времен и упорядоченность массовой идентичности, задает определения «реальности» и ориентиры национального развития. Структура мифологемы «Великий Сталин» включает следующие цепочки представлений:
1. Сталин и аппаратные интриги, борьба за власть с «ленинской гвардией», старыми большевиками, соратниками Ленина; Сталин и уничтожение внутрипартийной оппозиции как условие единства власти, необходимого для успешной индустриализации и коллективизации.
2. Сталин и триумф Победы в Великой Отечественной войне, Сталин и раздел послевоенной Европы, выход СССР на международную арену в качестве ядерной супердержавы.
3. Сталин и становление великой державы, апология массового террора как экстраординарных мер и неизбежной платы за стремительное развитие страны; утверждение, что только такими методами можно было сохранить страну, нацию от уничтожения, которым грозила война с Германией; террор в этих условиях следует считать единственным эффективным средством принудительной мобилизации и модернизации.
4. Сталин соединил техническую модернизацию с социальной контрмодернизацией, что стало причиной последующего в 1970-е годы застоя и далее – краха коммунизма.
5. Сталин – параноидальная личность, маньяк и садист, его личностные черты определили особенности репрессивной организации государства и общества, жертвами которой стали миллионы невинных людей, разоблачение культа личности на ХХ съезде КПСС не означает признания ошибочности политики партии и советского руководства.
6. Сталин – воплощение национальной славы России, эффективный менеджер, обеспечивший превращение отсталой страны в одну из двух мировых супердержав, все его ошибки и перегибы не могут заслонить достоинств великого государственного деятеля, создавшего огромный блок стран соцлагеря, противостоящего Западу и т. д.
Список элементов и составляющих этого мифа принципиально открыт, он допускает включение любых других компонентов, ставших актуальными в какой-то социально-политической ситуации (тематическими они могут быть любыми: нужда в вожде, мудрость власти, отец нации и защитник русской идеи, органическая структура социума, враги и вражеское окружение, романтический энтузиазм строителей нового общества и пр.). «Величие Сталина» представляет собой довольно сложную смысловую композицию, фиксирующую ключевые ценностные моменты навязываемой обществу структуры массовой идентичности мобилизационного, закрытого и репрессивного социума, нацеленного на подавление процессов структурно-функциональной дифференциации и утверждение автономности отдельных институтов. Эти представления транслируются, уже не будучи привязанными собственно к персоне Сталина, а воспроизводятся через весь контекст интерпретаций актуальных событий героического прошлого, легенды советского государства, ее важнейших моментов (войны, формирования сверхдержавы), с которой обязательно ассоциировалось и связывалось имя Сталина. Устранение (после 1953 года, а особенно после «разоблачения культа личности», инициированного Н. Хрущевым в 1956 году) из этой конфигурации значений собственно «личностного компонента» (исторически конкретного Иосифа Джугашвили-Сталина), к которому партийным идеологам удалось привязать проблематику тоталитарного режима (террор, институты репрессий, двойной характер социальной организации общества-государства, природу коммунистической идеологии и пр.), вытесняемого таким образом, не затронуло структуры этих значений. «Сталин» сегодня – это не образ конкретного политического деятеля или набор сколько-нибудь достоверных знаний об исторической личности, а комплекс символов и стереотипных, банальных представлений, играющих существенную роль в поддержании связности и упорядоченности образцов массовой идентичности, политических установок по отношению к государству и его величию. С одной стороны, для значительного числа жителей России Сталин – бесчеловечный тиран, палач и диктатор, фигура, с которой связаны представления о массовых репрессиях, концлагерях, гибели миллионов людей, но с другой – для не меньшего числа людей – это национальный вождь, под руководством которого, как считается, страна одержала победу в Великой Отечественной войне, разгромила Гитлера, достигла наивысших успехов в своей истории, стала одной из двух супердержав в мире. По большей части эти представления, как мы увидим ниже, каким-то образом укладываются в одних и тех же головах.
Важно, что во всех вариациях этой идеологемы присутствует два постоянных мотива: а) суверенитет руководства, полнота власти (почти мистическая) без ответственности, пассивное население без участия, без представительства (без механизмов репрезентации) групповых интересов и ценностей, общество без политики, человек без прав и сознания собственной, имманентной ценности, только как объект управления и принуждения; б) постоянство политики конфронтации, необходимость противостояния (врагам самого разного толка).
Нужда в мифологемах такого рода обычно проявляется в ситуациях кризиса мобилизационного государства или слабой легитимности недифференцированной и персоналистской власти, особенно острой в ситуации ее неизбежной передачи, смены или падения массовой поддержки.
Секулярный (политический) миф, как и любая другая идеология, не существует отдельно от тех социальных групп или институтов, стараниями которых он вырабатывается, трансформируется и распространяется. Никакой спонтанной или «естественной» потребности общества в подобных идеологических комплексах нет. Падение или рост значимости сталинского мифа носят «рукотворный», искусственный характер и могут быть вполне рационально объяснены действиями механизмов пропаганды. Любая идеология (в том числе идеологизированная «культура», становящаяся предметом специальной заботы «государства») существует лишь в практике ее социальной организации, бюрократических ведомств, обеспечивающих ее воспроизводство в массовых слоях общества. По отношению к такого рода идейным структурам работает не «внутренняя логика» движения идей, а лишь направленность групповых и институциональных интересов действующей власти (обеспечения массовой поддержки, мобилизации, удержания власти, дискредитации противников, нейтрализации недовольных) или ее конкурентов и критиков. Метафоры «свободно парящей интеллигенции» Маннгейма или «третьего царства» идей Поппера как модели внутренней организации института, вносящего в сознание публики новые смыслы, здесь неприменимы. Напротив, речь идет о намеренном навязывании определенной модели отношений власти и общества и массовой готовности ее принять или сопротивляться этому. Последнее косвенным образом может свидетельствовать о латентной структуре общества или его культуре. Поэтому я хотел бы рассматривать здесь сталинский миф в качестве «меченого атома», то есть своеобразного индикатора различных состояний посттоталитарного общества.
На вопрос, заданный социологами в марте 2016 года: «Можно ли сказать, что наша страна уже избавилась от последствий сталинизма?», 34 % опрошенных ответили «да, уже избавилась», 21 % – «нет, но постепенно преодолевает», 13 % – «никогда не избавится» и 15 % – «это и не нужно, при Сталине было много хорошего»; 17 % затруднились ответить. Такое распределение означает, что в российском обществе сегодня нет определенности в отношении к советскому прошлому[30]. Тема Сталина, прежде всего – массовых репрессий в 1930–1940-х годов, в значительной степени утратила свою остроту и актуальность, поскольку относительно немногие россияне допускают в будущем возврат к политике террора.
Таблица 126.2
Возможно ли в обозримом будущем в России повторение подобных репрессий?
N = 1600. В % к числу опрошенных.
Отношение к Сталину в российском массовом сознании носит двойственный и противоречивый характер. Сила подобного коллективного мифа измеряется его способностью присоединять к основной схеме «гениального вождя и учителя», разработанной в 1930–1940-е годы, новые представления и пропагандистские клише: от ностальгического образа генералиссимуса – победителя в войне с Германией или лидера мирового коммунистического движения до символа национального превосходства русских, образца государственного «эффективного менеджера», обеспечившего форсированную модернизацию отсталой страны[31].
Главное, что смысловая доминанта интерпретации Сталина, навязываемой пропагандой, остается прежней: абсолютная власть диктатора, не подлежащая какому-либо контролю или ограничению со стороны общества, которое при этом мыслится пассивным, зависимым, направляемым его волей и интересами. Персонификация абсолютной власти (мудрой, дальновидной, отечески заботливой, способной концентрировать ресурсы страны и подчинять людей задачам процветания государства) соотносится с представлением, что сама по себе жизнь отдельного человека малозначима, что никаких возможностей «предъявить счет» кому-либо за погубленную жизнь миллионов людей в ходе репрессий нет, а потому надо терпеть или забыть то, что было. Важно подчеркнуть, что массовые представления о Сталине заданы рутинным, повседневным и практически не контролируемым отдельным человеком воздействием многих институтов: школой, массовой литературой и кино, СМИ, армией и т. п. Именно предельно клишированные формы появления фигуры Сталина, как правило, в качестве персонажа третьего ряда на фоне каких-либо сюжетов о войне или жизни в советское время задает стандарт его восприятия и оценки в коллективном сознании. Стереотипность и повторяемость этого образа делает его устойчивым к попыткам критики и переоценке, другим интерпретациям. Любые изменения в массовом восприятии этой фигуры обусловлены изменением общего идеологического и политического контекста интерпретации настоящего и следующих из этого проекций на прошлое. Отмечу еще один момент: разрыв между академическим знанием профессиональных историков и миром массовой культуры, обусловленный отсутствием системы коммуникаций между наукой и публичной сферой, находящейся под контролем нынешних СМИ[32].
Динамика отношения к Сталину
Резкая, хотя и очень поверхностная перестроечная критика советского прошлого сводилась главным образом к обличению бюрократических «извращений социализма», к раскрытию масштабов и трагических последствий массовых репрессий, террора 1937 года, коллективизации и т. п. Но при этом публицистика не затрагивала ни причин, ни морально-правовой оценки самого советского тоталитаризма, сводя все дело к параноидальной личности Сталина, идеологическому догматизму или жестокости его окружения. Поэтому в 1989 году, в одном из первых опросов, где ставилась задача выявить «пантеон» «самых выдающихся людей, общественных и культурных деятелей, оказавших наиболее значительное влияние на мировую историю», имя Сталина в России назвали всего 12 % опрошенных (11-е место в списке, включавшем больше сотни различных деятелей)[33]. В 2012 году, через 23 года после первого замера, Сталин занял в этом списке ведущую позицию: его в этом качестве назвали 42 % опрошенных (табл. 127.2).
Таблица 127.2
Динамика самых значимых имен – символов национальной идентичности
Назовите, пожалуйста, 5–10 имен самых выдающихся людей всех времен и народов?
В % к числу опрошенных (ответы на открытый вопрос); ранжировано по 1989 году.
Рис. 14.2. «Назовите, пожалуйста, десять самых выдающихся людей всех времен и народов»
За это время идеологические фигуры – символы советской эпохи – постепенно теряли свою значимость и отходили на задний план. Их место занимали имена, воплощавшие славу империи – полководцы, политики, герои, поэты-классики и ученые, с упоминания которых начинается массовое школьное образование, а значит, и процесс социализации и формирования национальной идентичности. Классики марксизма-ленинизма и советские легендарные деятели (Маркс, Энгельс, Ленин, большевики, активные участники революции или строительства СССР) были вытеснены теми, кто представлял новую идеологию – патриотизма или русского имперского национализма. Все прежние персонажи были по-новому интерпретированы в изменившихся рамках понимания характера коллективной идентичности. Так, например, царь Николай II, вызывавший симпатии в 1990 году лишь у 4 % россиян, к началу 2000-х годов стал почитаемым уже 22 % опрошенных, а антипатии к нему сошли практически «на нет» (4 %). Ушли и персонажи перестройки – Сахаров, Горбачев и др.
Таблица 128.2
Изменение ранга значимых имен в общественном мнении России, 1989–2017
В % к числу всех опрошенных в каждом замере.
В первых замерах Сталин, в сравнении с другими «деятелями времен революции и Гражданской войны», вызывал самую сильную антипатию: в 1990 году о нем в таком ключе отозвались 49 % опрошенных[34].
В конце 1990 года, на излете перестройки, мало кто в России думал, что Сталин останется в ее истории в каком-нибудь ином контексте, кроме описаний массового террора, коллективизации, голода, военной катастрофы 1941 года и т. п. Так, в начале 1991 года всего лишь 0,2 % опрошенных думали, что через поколение о Сталине будет помнить кто-нибудь, кроме историков советского времени, а 70 % респондентов полагали тогда, что уже к 2000 году Сталина забудут или он не будет иметь никакого значения, всего 10 % опрошенных считали, что через 10 лет имя Сталина будет еще что-то значить для «народов СССР» (у остальных 10 % не было какого-либо определенного мнения на этот счет). Но в дальнейшем, после тяжелого кризиса, связанного с распадом СССР и трансформационными процессами в экономике, на фоне падения уровня жизни, среди наиболее бедной части населения или тех групп, которые утратили прежнее социальное положение и авторитет, заметно усилились ностальгические настроения и идеализация советского прошлого. По контрасту с текущей ситуацией советские символы (но не ближайшего времени – брежневского «застоя», а более отдаленного – военного и послевоенного времени) стали набирать силу и притягательность. Поэтому сталинский период на фоне реформ 1990-х годов стал оцениваться все более позитивно (табл. 129.2).
Таблица 129.2
С какой оценкой сталинского периода в истории нашей страны вы бы скорее согласились? Как вы считаете, время Сталина принесло больше хорошего или плохого?
Медленный рост восстановления «величия Сталина» наблюдался на протяжении всех 1990-х годов. Начиная с 2002–2003 года Сталин открыто становится предметом телевизионной пропаганды и политической рекламы. Перелом в общественном отношении к нему наступил с приходом к власти Путина. Масштабная программа реидеологизации общества, развернутая в начале 2000-х годов, достигла своей (первой!) кульминации во время подготовки к празднованию 60-летия Победы над Германией. Тогдашний формальный руководитель правящей «Единой России» и спикер Госдумы Б. Грызлов в день рождения Сталина (21 декабря 2004 года) возложил цветы к его памятнику у стены Кремля и призвал пересмотреть историческую оценку Сталина. Он заявил, что «перегибы» деятельности Сталина не должны закрывать для нас «незаурядность» личности этого человека, который как «лидер страны многое сделал для Победы в Великой Отечественной войне». Секретарь ЦК ВКП (б) А. Куваев, назвав тогда же Сталина «самым выдающимся государственником», «политиком, которого не сегодня хватает России», заявил, что «сегодня Россия в плачевном состоянии», а потому ей «нужен новый Сталин».
Таблица 130.2
Как бы вы оценили роль Сталина в советской истории, истории нашей страны?
* Сумма ответов «безусловно положительную» + «скорее положительную» и «скорее отрицательную» + «безусловно отрицательную».
** В опросе 1994 года была использована иная шкала; помимо уже приведенных вариантов ответа вводилась подсказка «незначительная роль», которую выбрали 5 % опрошенных.
Реабилитация Сталина носила осторожный и двусмысленный характер: не отрицая самого факта массовых репрессий и преступлений сталинского режима, кремлевские политтехнологи старались отодвинуть эти обстоятельства на задний план, всячески подчеркивая заслуги Сталина как полководца и государственного деятеля, который обеспечивал модернизацию страны и превращение ее в одну из двух мировых супердержав.
N = 1600.
Рис. 15.2. Какую роль сыграл Сталин в жизни нашей страны?
Рис. 16.2. Как вы лично в целом относитесь к Сталину?
Результатом этой политики «исторической памяти» можно считать, что уже в 2008 году на вопрос: «Будут ли через 50 лет люди в России вспоминать о Сталине, и если да – то с какими (хорошими, плохими или смешанными) чувствами?», респонденты давали уже не столь однозначные, как ранее, ответы: лишь 23 % россиян полагали, что в будущем Сталина полностью забудут, но относительное большинство опрошенных (45 %) все же полагало, что вспоминать о нем будут, правда, «со смешанными чувствами».
Таблица 131.2
Будут ли через 50 лет люди в России вспоминать о Сталине, и если да, то с чувствами: хорошими, плохими или смешанными?
Октябрь 2008 года. N = 1600.
Второй пик популярности Сталина приходится на «посткрымский период» усиления антизападной, антилиберальной риторики и мощного разворота пропаганды в сторону русского консерватизма и традиционализма. В январе 2017 года показатель позитивного восприятия Сталина составил уже 46 %, а удельный вес негативных суждений снизился более чем вдвое[35].
Полярные и четко выраженные мнения представлены равным, хотя и незначительным числом респондентов: положительные установки проявлены у 7 % респондентов, негативные – у 9 % (16 % затруднились с ответом).
То, что столь малое число россиян сохранило к этому моменту выражено негативную оценку диктатора, указывает на отсутствие ресурсов для моральной и исторической рационализации советского прошлого.
Изменения социально-культурного фона постсоветского общества и траектория сталинского мифа
Вопрос: что стоит за расширяющимся признанием «величия Сталина» – требует ответа. Прежние интерпретации этих фактов – сокращение фактического знания о сталинской эпохе, имморализм российского общества, слабость моральных авторитетов, государственный сервилизм и «молчание» профессиональных историков, общий оппортунизм образованных слоев, а также эффективность кремлевской пропаганды, нуждающейся в освящении нынешнего коррумпированного режима заимствованным «величием» прошлого – справедливы, но недостаточны[36]. Они не объясняют самого механизма возвращения Сталина и вытеснения из массовой памяти, из сферы публичности практики государственного террора.
Рассмотрим контекст произошедших за 20 лет изменений, выделив пять наиболее значимых для нашей темы моментов:
1. Две перемены политических режимов: советская политическая система рухнула и заместилась ельцинским правлением, условно говоря, «переходным к демократии», которое, в свою очередь, после кризиса 1998 года, сменилось путинским авторитаризмом. Смены типов господства сопровождались циркуляцией и перетряской персонального состава элит, вектором идеологии и, соответственно, характером легитимации политической власти. За установлением авторитарного режима естественным образом последовало вытеснение политики из общественной жизни и восстановление привычного состояния «выученной беспомощности» масс.
2. Ушло поколение, жившее и в сталинское, и в последующее советское время, а значит, обладавшее личным опытом, непосредственным повседневным знанием той эпохи; это знание (в силу закрытости общества и отсутствия необходимых интеллектуальных средств) не стало, и не могло стать предметом публичной рефлексии, моральной и социологической рационализации прошлого. (Жили и помнят это время сегодня 6 % населения, многое слышали от старших и знают об этом – 13 %.) Ушло не столько в демографическом смысле, сколько в общественном: его взгляды и ценности перестали быть значимыми для молодых. Соответственно, увеличивается доля опосредованного, препарированного знания.
3. С распадом советской системы закончилось существование двусмысленной интеллигентской культуры 1960–1980-х годов с ее специфическим сервилизмом и сопротивлением государственному насилию; именно она была держателем нормы гуманизма в советском обществе; с крахом интеллигенции резко ослабла культура страха и памяти. Интеллигентская культура возникла (одновременно с критикой «культа личности» Сталина)[37]в качестве самообоснования репродуктивной бюрократии советского времени. Стимулами для осмысления опыта прошлого стала война, вина власти за поражения первых лет, за громадные потери и безжалостное растрачивание людей, сговор Сталина с Гитлером, безответственность руководства на всех уровнях, стремление определить цену сохранения советской власти. Носителем этой культуры было не само военное поколение, а непосредственно следующее за ним, рожденнное в 1930–1940-х годы[38]. Только этот слой производил «понимание» советской истории. Интеллигенция держалась лишь до тех пор, пока сохранялась советская власть, которая обеспечивала ее существование, а затем этот слой рассыпается, деградирует и интеллектуально, и морально, и исчезает, оставляя за собой пространство цинизма и недоразумения. Распад государственной организации культуры и замещение ее массовой культурой (это два независимых друг от друга процесса, не стоящих между собой в причинно-следственных отношениях) привели к разрушению связей между центром и периферией, к изменениям в механизмах передачи образцов от «интерпретаторов» или носителей высокой культуры к реципиентам – зависимым в интеллектуальном и моральном плане потребительским группам.
Следствием подобных изменений оказалась устойчивая тенденция к общей примитивизации общественной жизни. Как показывают социологические исследования, определенное – и более проработанное – отношение к Сталину сохранилось лишь у тех, кто сознает опасность повторения репрессий, кто боится их. Лишь у них сохраняется историческая память о той эпохе и характере советской системы, так как они в состоянии учитывать исторические уроки; понятно, что это образованные, пусть даже и поверхностно, группы, обладающие некоторыми интеллектуальными средствами рефлексии и культурными ресурсами; они больше других встревожены ситуацией в стране, более критически относятся к нынешней власти, понимая потенциал исходящих от нее угроз[39]. Поэтому после ухода интеллигентской культуры, в образовавшейся пустоте идей и представлений о будущем, уже при Путине, в окружении которого особую роль играли бывшие сотрудники КГБ (родившиеся позже, в начале 1950-х годов, прошедшие социализацию в условиях брежневского безвременья, реакции и наступившей деморализации), в идеологической практике воцарился дух мстительного консерватизма, реванша и демонстрации наглой силы.
4. Наряду с изменениями в институциональной системе общества произошли изменения и в структуре механизмов и каналов репродукции исторической памяти. Каналы информированности (знания) – это не случайные «путепроводы» исторических сведений, а институциональные средства воздействия на общество (социализации, идеологической индоктринации или, напротив, нейтрализации определенных взглядов и мнений, стерилизации и вытеснения страшного опыта сталинского времени). Изменение в их структуре непосредственно отражается на характере массовых представлений и оценкок прошлого. Во-первых, сократился до минимума удельный вес письменной культуры – художественной литературы, исторической публицистики, дававших ранее основную долю критической интерпретации сталинской эпохи[40]. Во-вторых, пропорционально этому сокращению вырос объем школьных знаний о сталинской эпохе, препарированных и идеологизированных в соответствии с установками власти, а потому – скучных, безжизненных, оторванных от этических проблем молодого поколения[41]. В-третьих, основная роль производства представлений о сталинском времени перешла к государственным каналам телевидения, трансформировавшим изображение исторической эпохи в глянцевое, мелодраматическое представление событий частной жизни, разыгрываемых на фоне иррационального и беспричинного общественного террора[42]. В-четвертых, резко вырос объем и влияние массовой исторической паралитературы и гламурной продукции, выстраивающих освещение исторического прошлого по моделям авантюрной, конспирологической или развлекательной и «желтой прессы». Распространение, хотя масштабы его и не следует переоценивать, получили работы о Сталине, написанные в канонах националистической (конспирологической, антисемитской или антизападной) или бульварной, авантюрной прессы[43].
5. В 2000-е годы в России возникает совершенно неизвестное в российской истории явление – формируется «общество потребления», характеризующееся очень коротким временным горизонтом, ценностными императивами «здесь и сейчас»[44]. Идеология общества потребления противоречит и разрушает этос мобилизационного общества и его структуры. Мотивация и смысл «потребления» в 2000-е годы мало связаны с гратификацией личного труда, напротив, в очень большой степени потребительская мораль стала выражением «подавленных» или «отложенных желаний» родителей нынешних потребителей, проживших свою жизнь в условиях социалистической уравниловки и принудительного аскетизма планово-распределительной экономики, и от образа жизни которых молодое поколение стремится всяческим образом дистанцироваться как от «совкового прошлого», идентифицируя себя с жизнью в «нормальных странах». Неконвенциональное прошлое (то есть такое, которое лишено символической связи с величием национального целого – без георгиевских ленточек и «Спасибо деду за Победу») в нынешней гламурной культуре оказывается не функциональным, избыточным, более того, порождающим дискомфорт и диссонанс в массовых установках на потребление. Оно выпадает из значений реальностей настоящего[45]. Ненужной оказывается сама модальность необходимости осмысления травматического опыта прошлого (в том числе национального стыда и страха). Отказ от прошлого означает, что будущее предстает как бесконечная или многократная итерация настоящего (с повышением качества потребления). Такой тип ценностных регулятивов делает ничтожной значимость культуры, а вместе с ней и представления о более сложных запросах, чем нормы потребительского образа жизни. Нынешняя деэтатизация ценностных запросов и ориентаций (ослабление идеологии государственного патернализма в среде самых продвинутых групп населения) в сочетании с сознанием подавленных возможностей политического участия легко сочетает потребительский гедонизм с готовностью уживаться с авторитарным режимом. Другими словами, идет общая ювенилизация жизни (в том числе инфантилизация коллективной, публичной жизни).
Явление «общества потребления» в российском исполнении указывает на то, что возник диссонанс, люфт, разрывы между новыми сферами социальной жизни (рыночной экономикой, массовой культурой, моделями потребления), и центральными институтами тоталитарной системы, которые крах коммунизма практически не затронул: организации власти, не подконтрольной обществу, полиции, суда, массового образования.
Подобный ценностный сдвиг, произошедший во второй половине 1990-х годов (а не просто плохое преподавание истории в школе, на которое ссылаются все преподаватели вузов) разорвал историческую преемственность поколений в постсоветское время. Это не случайное обстоятельство или частный процесс, а проявление специфической структуры российской истории – ее прерывистость. Левада назвал эту особенность «короткими рядами традиции»[46], когда смена политического режима влечет изменение всей институциональной организации культуры, а значит, и всего воспроизводимого ею (организацией культуры) микрокосмоса смысловых значений, ценностей, представлений и т. п. При такой структуре социокультурного процесса мы имеем дело не с аккумуляцией культурных продуктов, идей, знания, рационализацией социального опыта и его исторической и моральной проработки, а практически полным и одномоментным замещением, стерилизацией памяти предшествующего поколения, забвением истории. Это не развивающееся или усложняющееся общество, а общество повторяющееся, воспроизводящее механизмы интеллектуальной и моральной самокастрации.
В конечном счете сталинское время в массовом сознании откладывается как время диффузного, беспредметного, иррационального ужаса. Такое впечатление возникает из-за того, что теряется смысл террора и массовых репрессий, что государственная организация общества, живущего в условиях террора, остается вне рамок публичного рассмотрения. Иначе говоря, репрессии поданы в качестве инициатив отдельных «плохих людей», как проявление частных корыстных интересов (разного уровня – от сталинской «паранойи» и карьерных интриг до доносительства соседей, стремящихся захватить комнату в коммуналке). Самое важное, что производится этой поточной продукцией, это отсутствие в представлениях о сталинской эпохе идеи социального взаимодействия, а стало быть, подавление понятия субъективной ответственности за те или иные поступки и действия. Мир, реальность в этой картине непредсказуемы, поскольку не подчиняются воле и разуму отдельного индивида. Поэтому ощущения тотального страха или неопределенной угрозы, идущей отовсюду, опасности, исходящей от любого представителя власти, партийного функционера или сотрудника органов, от коллег по работе, желающих выслужиться перед начальством, случайных попутчиков – отражает не только сегодняшнее массовое знание о репрессиях того времени, но переносит на него современное чувство – осознание обывателем своей уязвимости, правовой и социальной незащищенности от окружающего произвола. Именно в качестве коррелята к такой системе восприятия реальности возникает или принимается массовым сознанием фигура экстраординарного вождя – всевластного и всемогущего руководителя огромного государства, охватывающего своим взором все происходящее в стране.
Такая интерпретация времени террора и лишенного смысла государственного насилия оказывается иной, нежели изображение государственной машины, бездушной «системы», отбирающей во власть догматиков и конформистов, садистов или слепых исполнителей чужой воли. «Хорошие» или «обычные люди» поданы авторами телесериалов как пассивные жертвы обстоятельств, которые они не в состоянии контролировать и тем более изменить. Телевизионные передачи на «исторические темы», сталинские сериалы оставляют за рамки внимания и сюжетного нарратива несколько вещей, принципиально важных для осмысления прошлого: характер и структуру социальной организации советского общества сталинского времени, номенклатурный принцип власти (сращения партии и государства), функции идеологии, социальную направленность репрессий и другие особенности функционирования тоталитарных режимов. При этом теряется главное – субъектность представлений об истории (история как взаимодействие различных действующих лиц) и, следовательно, институциональная природа государственного насилия и его последствия для морали общества (оснований общественной солидарности). Акцент на «психологических» драмах и переживаниях маленьких людей оборачивается мелодраматизацией истории, лишает зрителя, читателя, реципиента этой медиальной продукции интеллектуальных средств понимания особенностей той эпохи, общих рамок ее интерпретации. История вроде и «есть», знакомые еще по школе события проиллюстрированы костюмированными актерами, но суть тех событий, ценностно-эмоциональный акцент и соотношение моральных оценок смещены или отодвинуты на дальний план. Возникает эффект вытеснения определенных, значимых звеньев происходившего, ведущего к деперсонализации жертв и разыдентификации с ними, бесчувствия или отсутствия к ним вообще какого-либо отношения. Это явление немецкие психоаналитики Александр и Маргарет Митчерлих в своей книге «Неспособность к скорби», выдержавшей более 20 изданий и переводов на все основные европейские языки, назвали «дереализацией прошлого»[47]. Дереализация не означает полного исчезновения прошлого, но всегда – его переформатирование, перекомпоновку, как правило, производимую по лекалам или шаблонам мифа (когда причина и следствия многократно меняются местами, а действующий превращается в пассивную жертву непреодолимых сил и обстоятельств). Поэтому дереализация прошлого (устранение субъективной ответственности) сопровождается резким упрощением или, что то же самое – архаизацией сознания, в том числе и представлений о прошлом, всплывает нуминозный пласт сознания: представления о несоизмеримой с человеком мощи и силы государства, сакрализация власти как символического воплощения коллективных ценностей и ничтожности в сравнении с ним, неценности частного, индивидуального человеческого существования, получающего смысл только в обратной проекции на него значений государства. Примечательно, что при таких аберрациях сознания образы прошлого четко отделяются от настоящего, разрываются отношения эмпатии между зрителем и героями исторического изображения.
В академических научных или университетских кругах дискуссии о сталинском прошлом практически не идут. Здесь со времен перестройки установился консенсус относительно Сталина как крупнейшего советского государственного деятеля, продолжателя ленинской политики «диктатуры пролетариата» и создателя мощного репрессивного государства, внутрипартийного аппаратного интригана и организатора массового террора и т. п. И одновременно здесь же обнаруживается сильнейшее сопротивление любым попыткам ввести изучение сталинизма в контекст сравнительно-типологического анализа режимов тоталитарного типа. Инициатива изучения сталинизма перешла к общественным организациям, среди которых ведущее место, бесспорно, принадлежит «Мемориалу», и отдельным независимым историкам (таким, например, как О. Хлевнюк и его коллегам), связанным с зарубежными фондами и университетами и, естественно, предлагающим отличные от официальных трактовки истории. Однако они всегда оказываются в тени, маргиналами, мало известными широкой публике[48]
28
Пример такого рода – выступление Путина на заседании Совета Безопасности в октябре 2012 года. Он заявил: «Нужно совершить такой же мощный комплексный прорыв в модернизации оборонных отраслей, как это было в 30-е годы прошлого века» (URL: www.gazeta.ru/politics/2012/08/31_a_4747493.shtml; см. также: URL:.http://globalconflict.ru/analytics/5276-putin-xochet-modernizaciyu-kak-u-stalina).
29
Д. Гросс подчеркивал, что мифы – это объективации воззрений и верований группы; они не могут быть ни истинными, ни ложными (поэтому их нельзя опровергнуть), а также быть представленными в детализированном виде (разделенными на части), их назначение быть значимыми, быть образами действия (action-images). См.: Gross D. Myth and Symbol in Georges Sorel // Political Symbolism in Modern Europe. N.Y; L.: Transaction, 1982. P. 104–105.
30
Группы с более или менее определенными взглядами и позициями распределились примерно по третям: 34 % считают, что «избавилась», против 34 % тех, кто полагает пока еще «преодолевает» или «никогда не преодолеет», и 32 % тех, кто считает это «не нужным» или отказывается от ответа.
31
В последние годы государственная политика в отношении прошлого стала открыто делать упор на эклектическом соединении самых разных лозунгов и символов национального, имперского величия, объединяя в одном ряду Сталина и православных иерархов, князя Владимира и Ивана Грозного, советских полководцев и белых генералов, антипольскую риторику (изгнание поляков из Москвы в 1612 году, поход Красной Армии 1920 года на Варшаву) и войну на Кавказе и т. п.
32
Основательную критику пропагандистских и массовых мифов о Сталине см.: Орешкин Д. Б. Джугафилия. М.: Мысль, 2019.
33
Открытый вопрос, то есть опрашиваемые люди сами называли те или иные фигуры, а не выбирали, как это делается во многих случаях, из предлагаемого социологами списка.
34
Для сравнения: Махно и Керенский – по 19 %, Колчак – 22 %, Троцкий и Николай II – по 10 %, Ленин – 5 %, Дзержинский – 4 % и т. п. Среди тех революционеров, кто, напротив, вызывал «симпатию», первые позиции занимали: Ленин – 67 %, Дзержинский – 45 %, Бухарин – 21 %, Троцкий – 15 %, Махно – 8 % и лишь затем Сталин – около 8 %.
35
Основной тон в позитивных установках по отношению к Сталину можно описать как «уважение» (но не «восхищение» и не «человеческую симпатию», что говорит об отсутствие важнейших ценностно-эмоциональных признаков «харизматичности» в его нынешнем образе). Типичная реакция неосталинистов сегодня находит выражение не в официальной прессе или на телевидении, а в социальных сетях. См., например: Правда о Сталине и его Советской эпохе. Иосиф Сталин назван самым великим человеком в мире. 25.02.2017. URL: https://vk.com/wall154448564_3226.
36
См.: Гудков Л. Д. Миф о Сталине и проблема «стабильности» посттоталитарного режима // Гудков Л. Д. Абортивная модернизация. С. 491–503; Его же. Историческое бессилие // Новая газета 04.04.2008; Его же. Безответственность власти // Ведомости. 30.09.2009.; Его же. Мы ему не братья и не сестры. А он нам не отец // Новая газета. 23.05.2011; Его же. Дефицит легитимности путинского режима: Игры со Сталиным // Società totalitarie e transizione alla democrazia. Saggi in memoria di Viktor Zaslavsky. Bologna: Il Mulino, 2011. P. 431–456.
37
«Этот термин в 1950-е годы получил условное, эвфемистическое, а на деле – фальшивое значение: тоталитарный режим – это куда сложнее и страшнее, чем славословие Сталину. А нас на 10 лет заняли обсуждением вопроса, кто был виноват, Сталин или Ленин?» (Левада Ю. А. Это было уникальное историческое явление // Шестидесятники. М.: Фонд «Либеральная миссия», 2007. С. 39. URL: https://liberal.ru/wp-content/uploads/legacy/files/articles/1966/60-desyatniki.pdf).
38
Как раз за ним последовало поколение, период социализации которого пришелся на брежневский застой с его тихой реабилитацией Сталина, окончательным отказом от коммунистической идеологии и утверждением русского или имперского национализма как идеологического суррогата прежней тоталитарной миссионерской идеологии – поколение нынешнего руководства страны (Путина, Иванова, Сечина, Сердюкова и др.).
39
Соотношение допускающих повторение массовых репрессий и не верящих в такой сценарий политического развития страны составляет сегодня 1:2 (24 к 51 % при 25 % «затруднившихся с ответом»). Большинство россиян в действительности не хотят знать ничего как о сталинской, так и о последующей советской эпохе, хотя декларативно говорят об обратном. Доля собственного чтения (книг, журналов, художественных сочинений, воспоминаний, относящихся к сталинскому времени) в структуре массового чтения сократилась за двадцать лет с 58 до 26 % (при том, что читать вообще стали гораздо реже, число «нечитателей» за этот период выросло втрое – с 20 до почти 60 %).
40
См. главу «Время и история в сознании россиян»: Наст. изд. Т. 1. С. 622–809. Следуя этой же линии, внутри Русской православной церкви не затихают разговоры о возможности церковной канонизации Сталина.
41
Опросы молодежи, касающиеся качества преподавания в школе, в том числе преподавания истории, свидетельствуют о том, что на уроках истории в наших школах много узнать о сталинском времени и тем более о массовых репрессиях нельзя. От 75 до 80 % опрошенных данной категории заявили, что они не получили об этом никаких знаний или получили «слишком мало» (июль 2005 года, N = 2000). Более поздние опросы уже всего населения подтверждают эти данные: в 2011 году 72 % заявили, что о сталинских репрессиях они имеют «самое общее представление» и знают, по их словам, «мало», 12 % вообще ничего не знают. Однако это не мешает основной массе (80 %) быть довольным качеством обучения истории, теми знаниями, которые они или их дети получили в школе (2008 год). Другими словами, существует равновесие между запросами на знание истории страны и предложением, обеспечивающим разгрузку от «ненужных вопросов и напряжений».
42
Телевидение стало основным источником сведений о том времени, доля кинематографа, которая была очень значительной в позднесоветское время, резко сократилась. На телевидение сегодня приходится около трети получаемых сведений и представлений о тоталитаризме. Каково качество этих сведений, вопрос для дискуссий.
43
Вслед за новыми, «правильными» учебниками истории государственное телевидение – основной инструмент путинской пропаганды – стало показывать бесконечные сериалы о тайнах кремлевской жизни, интригах и заговорах в ближайшем окружении диктатора, его душевных терзаниях и «религиозных исканиях» (например, «Сталин. Live», шедший в 2007–2010 годах), пропагандистские ток-шоу, например «Имя России», в котором Сталин показан как главный символ величия России, синоним национальной славы. Эти передачи продолжили тематику и даже жанровые особенности появившейся еще в 1990-е годы обширной тривиальной литературы о нем, его привычках и вкусах, его окружении и любовницах, где Сталин подан то как национальный гений и вождь, спасающий Россию от фашизма или иностранного влияния, в том числе еврейского заговора, то, напротив, в качестве тайного маньяка, конспиратора, одержимого идеей тотального могущества и личной власти, инициатора тайных интриг и пр. Сами по себе подобная литература и телепередачи могли и могут быть апологетическими, разоблачительными или развлекательными, даже стебными, продолжающими жанровую линию анекдотов 1970–1980-х годов, как это представлено, например, в «6 кадрах», но во всех случаях они не затрагивают структуру и суть стереотипа: изображения Сталина всегда носят крайне жесткий характер – маршальский мундир с большими звездами на золотых погонах, грузинский акцент и трубка выполняют все функции, которых требует эта роль. Эта маска сама по себе несет все латентные, подразумеваемые смыслы, которые делают визуальной и ощутимой «харизму» вождя, отделенного невидимым барьером мифа от обычных людей и даже своего окружения. (Если бы это было нужно для каких-то целей, то режиссеры заставляли бы идти Сталина в сортир или в ванну исключительно в мундире и при Звезде героя СССР). Важно, что даже при самой плоской сюжетной ситуации, этот персонаж входит в кадр в ореоле страшного знания о нем и его эпохе. Конечно, масштабы распространения подобной продукции ограничены периферийной в социальном и культурном плане средой, в которой доживают остатки прежних мифов. Но именно эта среда и является складом, где хранятся элементы подобных мифов. Такого рода книги и передачи могут быть внешне даже как бы антисталинскими или с большими включениями фактического материала о репрессиях, однако, в конечном счете интерпретация Сталина в них будет близка к позиции, сформированной ЦК КПСС вскоре после доклада Хрущева на ХХ съезде и остающейся неизменной до сих пор: Сталин виновен в незаконных репрессиях («перегибах»), но лишь подобными средствами можно было создать такую великую сверхдержаву, как СССР.
44
«Общество потребления» – это не «средний класс» в западном смысле слова, с которым у нас обычно путают это явление. Гратификации российского потребителя гораздо слабее связаны с условиями признания индивидуальных достижений, с индивидуалистической этикой, чем в западных обществах (следует учитывать само различие институциональных систем, задающих признание и смысл труда). Российская рыночная экономика остается сильнейшим образом зависимой от власти, в ней огромное значение приобретают распределения административной ренты и коррупционных ресурсов, деформирующих общественный смысл «достижения». Потребление в сегодняшней России теснейшим образом связано с демонстрацией статуса, социального престижа как выражением социальной ценности индивида, то есть с «подсознанием» дефицитарного социалистического общества. «Общество» как апеллятивная инстанция здесь, в отличие от среднего класса в странах завершенной модернизации, сохраняет свой адаптивный и зависимый (по отношению к политической системе) характер. Поэтому верхний уровень коллективных ценностей, комплексов представлений, символов не связан с ценностями частной жизни и существования, не зависит от них и остается государственно-патерналистским и предельно консервативным.
45
Одна моя знакомая рассказывала о своем приятеле, между прочим, кинорежиссере, который на просмотре фильма «Страсти Христовы» Мела Гибсона во время сцены в Гефсиманском саду наклонился и спросил ее: «А чего он так парится? Что происходит?».
46
«Каждый период обычно находит свое “оправдание” в отрицании предшествующего правления и расправах с его элитарными структурами. Функции отсутствующей традиции (как элемента легализации и поддержки существующего порядка) восполняются квазиисторической мифологией» ([Левада Ю. А.] Введение. Элитарные структуры в постсоветской ситуации // Гудков Л. Д., Дубин Б. В., Левада Ю. А. Проблема «элиты» в сегодняшней России. М.: Мысль, 2007. С. 5). Ранее кто-то из русских философов уподобил этот феномен русской истории «луковице»: исторический слой снимался при очередном катаклизме и уходил один за другим, не меняя строения всего целого.
47
Mitscherlich A., Mitscherlich M. Die Unfähigkeit zu trauern. München: Piper, 1967.
48
Огромную работу ведет негосударственное издательство РОССПЭН, выпускающее многотомную (свыше 220 книг) серию работ отечественных и зарубежных историков и политологов «История сталинизма» (за последние годы вышло несколько десятков книг), но тираж этих работ обычно не превышает 1000–2000 экземпляров, они дороги, а потому малодоступны для преподавателей школ и университетов, особенно в провинции, где уровень жизни в два-три раза ниже, чем в Москве.