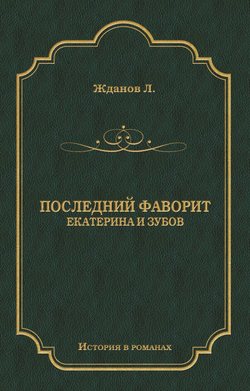Читать книгу Последний фаворит (Екатерина и Зубов) - Лев Жданов - Страница 3
Книга первая
Naturalia non sunt turpia![1]
1. Новая смена
ОглавлениеСередина июня 1789 года.
Больше месяца, как императрица с обоими внуками и своей обычной свитой переехала в Царскосельский дворец.
Всего десять часов утра, но во всех жилых помещениях, во дворах между зданиями и в парке кипит жизнь.
Удивительного тут нет ничего: сама хозяйка этого очаровательного уголка встает в шесть часов; погуляв немного в роскошном цветнике, по новому парку в английском вкусе, возвращается на небольшую террасу, которая ведет в длинную колоннадную галерею, и садится на зеленом, обитом сафьяном диванчике, перед таким же столом.
Здесь часа полтора-два пишет и работает Екатерина одна, набрасывая свои «Записки», страницы «Истории Российского государства» или письма к Дидро, Гримму, к мадам Жоффрен, Циммерману, в которых так выливается весь ум, сверкают искры веселья, юмора и вдохновения державной сочинительницы.
После этого еще часа два уходит на работу с дежурными секретарями, тут же принимаются доклады петербургского обер-полицеймейстера.
Затем Екатерина снимает свой гладкий, сидящий немного набекрень утренний чепец, заменяет его другим, украшенным белыми лентами, сидящим более прямо на густых, напудренных волосах. Вместо белого атласного или гродетурового капота она надевает гладкое, тоже атласное, белое платье, поверх которого носит лиловый или вообще темного цвета «молдаван», род казакина. И туалет на весь день готов.
Размеренно, по часам, даже по минутам, идет жизнь в главном дворце, который внушительно темнеет со своими глубокими сводчатыми окнами на свежей зелени старого сада и нового парка…
В новой пристройке, созданной для себя лично Екатериной, и во всех флигелях, службах, конюшнях и караулках от старшего внука, великого князя Александра, до последнего сторожа все подчиняются раз заведенному порядку, отступление от которого допускается лишь по особому разрешению государыни.
Сравнительно меньше движения заметно в помещении, отведенном для генерал-фельдмаршала князя Николая Ивановича Салтыкова, воспитателя великого князя Александра Павловича.
Княгиня Наталья Владимировна появляется из своего будуара только часам к одиннадцати. Но Салтыков по примеру государыни давно на ногах.
В передней у него дожидаются несколько военных с рапортами из Военной коллегии, где по должности своей председательствует князь, затем дежурный от молодых великих князей и два-три просителя.
В гостиной, большой, просторной комнате, выходящей окнами в сад, давно уже отдельно ото всех ждет выхода князя начальник роты, находящейся здесь в карауле, ротмистр конной гвардии, совсем молодой офицер, с виду лет двадцати – двадцати двух, не больше.
Сначала он осторожно, какой-то эластичной, неслышной походкой мерил комнату, лавируя между столами, креслами, диванчиками и столиками, расставленными в комнате. Потом остановился у окна и, жмуря свои большие, черные, бархатистые глаза, стал глядеть в ту сторону, где на солнце сверкала стеклянная стена знаменитой царскосельской галереи.
Открытая часть этой галереи, которую образовал ряд массивных колонн, служащих опорой для крыши, была пронизана лучами утреннего солнца. И, проникая в пролеты стеклянной стены, они открывали глазу то, что было за окнами, внутри.
Больше часу тому назад офицер мог различить, как по галерее прошла женщина, направляясь с террасы во внутренние покои, мимо беломраморных бюстов героев и ученых, расставленных вдоль всего пути.
Плотная фигура небольшого роста, с высокой грудью, характерный постанов головы, чуть приподнятой, и особая прямизна стана – все приметы государыни, хорошо знакомые ротмистру, привлекли его внимание.
Долго после того, как женщина скрылась в глубине галереи, не доступной его взору, молодой офицер все глядел туда, вслед, как будто обладал способностью видеть сквозь толстые каменные стены…
Гулко пробило десять на больших дворцовых часах.
Бронзовые фигурные часы, стоящие в гостиной на консоли, мелодично начали вызванивать удар за ударом.
Офицер как будто очнулся от своих дум, нервно оправил темляк, и без того бывший в полном порядке, огляделся, прислушался и опустился в мягкое соседнее кресло, откуда видно было и дверь спальни князя, и все, что делается за окном.
Тонкий слух офицера различил за дверью невнятное бормотанье, то прорывавшееся более внятной нотой, то переходившее в однотонное причитанье, то совсем затихающее. Изредка какой-то глухой стук доносился из-за двери, как будто что-нибудь мягкое упало на ковер; этот стук повторился раз десять – двенадцать подряд.
Такой звук мог бы издавать большой, очень туго набитый, эластичный мяч, который, упав на пол, подпрыгивал бы и падал несколько раз подряд, все слабее и мягче.
«Поклоны отбивает… Весьма любопытно сведать: какие грехи великие замаливает сей старый хорек?» – подумал ротмистр.
Лицо его, очень красивое, но маловыразительное и неподвижное до этих пор, оживилось легкой насмешливой улыбкой, от которой засверкало два ряда мелких красивых зубов, полуприкрытых тонкими, красиво очерченными, краснеющими, как у женщины, губами.
Шум и серебристый звон бубенцов стал долетать справа из-за окна.
Это отъезжала от крыльца обычная русская тройка обер-полицеймейстера, успевшего сделать государыне свой доклад и теперь во всю мочь лихо покатившего обратно в столицу.
Еще не замерли совсем вдали серебристые перезвоны бубенцов и колокольцев, когда за дверью рядом послышались шуршащие, припадающие шаги.
Кто-то приближался в мягкой обуви, прихрамывая на одну ногу, слегка пошаркивая подошвами по паркету, не перекрытому у дверей ковром.
Слегка прихрамывая на левую ногу, приближался князь.
Разделяя убеждения своего времени, Салтыков для предупреждения различных заболеваний носил постоянно «фонтенель» на этой ноге. Полагали, что через незаживающую, постоянно гноящуюся ранку выходят все дурные соки из организма и обеспечивают тем долголетие, здоровье и силу.
Узнав шаги, ротмистр быстро вскочил, вытянулся в струнку, еще раз обдернув свой прекрасно сидящий мундир, приладив по форме в руках головной убор.
Большая тяжелая дверь медленно, с коротким скрипом распахнулась под давлением слабой старческой руки.
Прямо против двери находилось окно спальни.
Яркие золотые лучи, падающие в него, наполнили весь пролет двери, ударив прямо в глаза ротмистру.
На этом золотистом, сверкающем фоне вырезалась маленькая фигурка худощавого старичка со сморщенным лицом, с седою головой на тонкой, вытянутой немного вперед шее.
Небольшой острый носик торчал над безусым старческим ртом с тонкими, нервными губами, которые порою как будто жевали что-нибудь, не умея оставаться в покое.
Рот старика вечно был осклаблен в любезную, даже как будто угодливую полуулыбку привычного царедворца. Но общее лукавое выражение лица, особенно небольших, карих, умно глядящих глаз, как-то не вязалось с этой гримасой, одетой, как вечная маска, на лицо старика.
На нем был военный, зеленого цвета, мундир и цветной камзол нараспашку. Старомодное кружевное жабо белело под камзолом.
На ходу князь четко постукивал своим костыльком с золотой ручкой, без которого не появлялся нигде.
Князю было всего шестьдесят лет, но выглядел он гораздо старше, несмотря на свои вечные заботы о здоровье и довольно умеренный образ жизни. Беспокойный, завистливо-подозрительный блеск глаз, выдающий ненасытного честолюбца, говорил внимательному наблюдателю, отчего таким изможденным и слабым казался князь-фельдмаршал, сделавший блестящую карьеру даже для своих лет и при всей родовитости Салтыковых.
– Здесь уже, Платошенька? Здоров, здоров… Рад видеть. Что там: все свои? Ну, погодят. Не каплет… Садись, потолкуем. Что нового? Кхм… кхм… выкладывай. Постой… Чтой-то ты нынче как будто тово… не тово? Ха-ха-ха-ха… Гляди не истрепись до срока, потом чтобы неустойки не вышло… Ха-ха-ха-ха! – Князь раскатился своим дробным, надтреснутым смехом, впиваясь в то же время острыми глазками в лицо покрасневшего ротмистра. – Что? Нет? Скромненько живешь? Верю, ладно… От любви сохнешь? Знаю… Так и толкуем мы, где следует: «Помирает от любви мальчик!» Ха-ха-ха… Там это любят, чтобы за ней помирали, пока самой пора помереть не пришла… Ха-ха-ха-ха-ха! Кх-кх-кх-кх…
Наполовину искусственный смех перешел в такой же, наполовину только естественный кашель.
Казалось, этот старик в силу долгой привычки даже наедине с самим собой, даже на молитве перед Богом разучился быть простым и естественным. И это притворство, неразлучное с князем, уже не резало окружающим ни ушей, ни глаз.
– Ишь, ишь, зардел даже, что твоя красная девица! Ротмистр… гвардеец, кавалерист! Ха-ха-ха-ха… Ха-ха… Ничего… Это тоже нравится… Это любят. Красней, красней… Вреда не станет от того. Ну, толкуй: что нового? Где был? Кого видел? Исповедайся, мой свет. Докладывай по начальству.
Ротмистр Платон Зубов, подняв скромно опущенные глаза и подобострастно глядя прямо в лицо князю, заговорил вкрадчивым, тихим, но внятным голосом:
– Нынче Господь счастье послал, ваше сиятельство! Раненько утром случайно повстречаться довелося… Как на первую прогулку выйти изволила…
– Случайно?! Ха-ха-ха… Ха-ха! Со мной, брат, не финти. Со мной начистоту надо… Далее! Был замечен?
– Помог Господь, ваше сиятельство! Я будто по караулу шел… Увидал издали, остановился, салютую… Собачка одна ко мне кинулась. Я приласкал. Тут и узнан был. Изволила головой ласково кивнуть. И далее проследовала. Я не осмелился ближе. Очень в задумчивости пребывает, видно…
– Задумаешься! Этот «кафтан красный», как она его называет, совсем истрепался со своей Щербатовой. От него ей, голубушке нашей, ни тепло ни холодно… А еще ревновать смеет ее, голубушку бедную… Собака на сене, ей-ей! И взглянуть ей не дает ни на кого! Есть тут преображенец отставной, секунд-майор Казаринов. Известен давно государыне… Красивый мужчина. О нем тоже многие хлопочут. Особливо потемкинцы. Заметь это… Вот и захотел граф Брюс поджечь Мамону нашего… Торговал тот у графа именьишко, да остановился. Проведал, что не стоит покупать: крестьянишки разорены. А Брюсу сбыть охота. Он и спросил на днях: «Что ж, граф, покупаете, нет ли? Другой охотник есть». – «Продавайте! – говорит Мамона. – А кто торгует?» – «Казаринов». Как услыхал мой Александр Матвеевич – побледнел… голос у него отнялся. Еле слышно выговорил: «Да вить у Казаринова у этого… и нет ничего… Откуда у него триста тысяч… такая изрядная сумма возьмется!» И на государыню глядит, словно пробуравить ее хочет глазами. А она, матушка, таково-то спокойно и отвечает: «Разве один Казаринов на свете? Может, и купит совсем не тот, на кого ты думаешь?» А Брюс и затакал. «Да, – говорит, – секретарь отставной из Военной коллегии купить собирается». Понял? Да еще Милорадовича, тебе ведомого, тот же Безбородко, как родню своего, сватает… сватает… Да курляндец Менгден… Да еще есть… Видишь, целый бой идет…
– О том я известен, ваше сиятельство… Анна Никитишна вчерашний день сказывать изволила.
– А-а, и к Нарышкиной вчера заглянул? Молодец. Тихой-тихой, а ловить фортуну за хвост умеешь.
– Сама изволила присылать за мной, ваше сиятельство. Я что же? Разве я посмел бы? И нынешняя встреча по совету Анны Никитишны вышла… Мол, на глаза чаще попадаться, чтобы теперь замеченным быть, когда тревога в государыне… Сказывает Анна Никитишна, скоро уж и конец. С прошлой-де осени почти что и службы своей не исполняет граф. Только имя одно за ним. Приказывала насчет белья хорошенько подумать… чтобы все как надо… И наготове быть.
– Так, так… Ха-ха-ха-ха… Ха-ха. Она говорит, она знает. И я слыхал, что махание графа со княжной со Щербатовой уж и так зашло, что нельзя дальше… Свадьбой им спешить надо, чтобы крестины ее не обогнали… Ха-ха-ха! Нехорошо. Щербатовы – не Зубовы или иные дворяне беспоместные. Фамилия первая. Придется графу свежеиспеченному ответ держать перед самой перед матушкой нашею вдвойне. И за обман перед нею, и за поступки столь низкие с благородной девицей… Мат ему, гордецу, пришел. Недолго повластвовал. Чванен больно. А забыл, что гордым Господь сам противится… Слыхал: под своего благодетеля, под светлейшего, и то подкапываться уже стал «кафтан» наш «красный»… Ха-ха-ха! На гвоздик его за это повесить за одно следует. Благодетелей не помнит. Ты тоже такой будешь, а? Говори!
– Да ваше сиятельство! Отец родной… Да я разве посмею… Ежели бы не вы… Ваше сиятельство! Господь слышит. Раб ваш по гроб жизни… и всегда… Я, ваше…
– Верю, верю. Будет. Не заклинайся. Грешно. Помни только, как ты передо мною разливался, молвил, чтобы я тебе командование тут караульное сдал на лето… У-у, и плут ты! Не одну выслугу по чинам – иное уж кое-что чуял либо от кого подстроен был? Признавайся? Начистоту!
– Нет, ваше сиятельство, особого ничего… Правда, ваше сиятельство, будучи вхож в дом к Анне Никитишне, там многое слышал и сердцем болел о государыне… Но ясно ничего не думал… И мне не было сказано. Так, совет давался: лучше-де молодому, собой приятному человеку на глазах быть для карьеры… Я принял к сердцу слова. Вот и все.
– Старая потатчица Никитишна… Она вперед знает. На три аршина под землей видит, что матушки нашей и ее нужд касаемо… по сердечной части. Видно, не захотели нового друга из рук у светлейшего принимать. Занятно, как наш «князь тьмы» на сие взглянет, ежели помимо него ты в случай проскочишь, в фавор угодишь. Далече он. А хотелось бы его одноглазую рожу поглядеть, как сведает, что иными ты поставлен, не его милостью… Ха-ха-ха… Это тоже не забывай. Потемкин другом тебе не станет, раз ты не из его кармана выскочил. Так ты старых друзей держися. Словам твоим и ничьим я давно не верю. А вот как будешь помнить, что, кроме Бога и меня, старика, нет у тебя опоры и помощи на высокой, да скользкой горе, куда мы тебе добраться помогаем… Тогда авось и благодарности не забудешь… Ха-ха-ха… кх-хкх… кх… Совсем я разбился со здоровьишком со своим… Ты помни еще и то: отец твой и тот у меня счастье и подмогу нашел. Он, правда, честно правит деревнишками своими. Да, поди, и себя не забывает. Скупенек старик, правду сказать надо. Да скупость не глупость. Денежка рубль бережет, всем ведомо. А без них охо-хо-хо как плохо жить на свете, хоть и в чинах, и в орденах. Помни: деньги береги… Не мотай их… особливо в первую пору. Щедра тогда наша матушка. Сыплет золотом и домами, и крестьянишек не жалеет. А ты лови на лету… да угождай… Да своих не забывай. Понял? Молод ты еще, не больно умен, как слышно… Да авось эту науку поймешь… А?
– Пойму, ваше сиятельство… А чего не пойму, позвольте уж вас беспокоить, как отца родного, как ангела-хранителя… Уж, ваше сиятельство, вся на вас надежда. В ноги вам кланяюсь: помогите, не оставьте.
Взманенный картиной золотого дождя, которую сразу и ярко нарисовал старый хитрец, Зубов действительно упал в ноги старику князю.
– Ну, ну, ладно… Вставай. Нет у меня сил подымать тебя. Ишь невелик ты, а грузен. Плотный какой, словно ядрышко. Встань… не бабься. К чему слезы? Радость тебе предстоит, не слезы. Я уж вижу. Коли Никитишна так за тебя взялася, неспроста оно. Либо сама еще раней заприметила твое благородие… Либо Никитишна полагает, что ты на новом месте на своем ей тоже не без выгоды окажешься. Любит она денежки, подарки всякие, супирчики-сувенирчики, понимаешь?
– Понимаю, ваше сиятельство. Я сказывал, если Бог удачу пошлет, последнее, мол, тому отдам, кто поможет мне. Много раз ей сказывал…
– Так, так, братец. Тебя и учить мало надобно… Гляди, скоро из рук этой старой медиаторши и к ногам второй «амики» к Степановне к Протасовой попадешь. С той как быть, слыхал ли? Знаешь ли?
– Толкуют много. Да как бы промаха не сделать? Научите, ваше сиятельство!
– Да, тут надо без промаха… Ха-ха-ха-ха… Тут промахов не полагается… Прямо в цель попадай. Коли уж до того дело дойдет, слушай, какой церемониал тут полагается. Заглянет к тебе, словно ненароком, Роджерсон либо иной лекарь, государыни доверенный… Про здоровье станет распытывать. Ты ему говори… Сам еще попроси: мол, поглядите, посоветуйте, не надо ли чего. Да на вид ты богатырь у меня. Не болеешь?
– Нет, ваше сиятельство, храни Господь! Лихорадки бывали там, простуды. А чтобы что… Помилуй Бог!
– Вот он и поглядит. Ты его тоже обласкай, как можешь. Эти лекаря всегда в пригоду. А там и к Протасихе на вечерок тебя пригласят. Тут уж ты не бабься. Гвардию не осрами. Она баба бывалая. Ворона пуганая. Ничего не испугается, верь мне, Платоша. Я тебя уж так по старому знакомству зову, а?
– Счастлив, ваше сиятельство. Сыном родным считайте… На всю жизнь. Так, стало, робеть не надо?
– Помилуй Бог! Да она и сама с тобой церемониться не станет. Живо карты на стол выложит. Ты ей товар лицом покажи. Поддержи конную гвардию, не скиксуй. А она тебя всяким обхождениям научит, какие приятны дамам высокого света и зрелого возраста… У-у, прожженная бестия… Неспроста ее испытательницей называют… Так и ты гляди… не осрамись. Donnez des epreuves, que vous pouvez satisfaire un appetit aussi enorme, qu’il est possible, moncher[2]. Мол, сумеешь на всякий вкус угодить, понял?
– Постараюсь, ваше сиятельство. Да одно мне сумнительно: всем известно, какой случай был с Корсаковым. Заметила государыня, что сей фаворит с той же графиней Брюс, которая на место на протасовское тогда была, с нею он очень уж смело поступил. И места тотчас лишился… Вот теперь и думается: хорошо, если Анна Никитишна без всякого умысла поступает? А если я только к тому веден, чтобы в графе ревность поднять, его снова к месту по всей форме вернуть? И такая моя смелость в покоях у Протасовой, куда и государыня ежеминутно вхожа. Не погубит ли меня? Простите, ваше сиятельство! Может, и глупые слова мои. Вам, как на духу… Простите…
– Так и надо. И всегда так будь. Не пожалеешь. Теперь слушай, что я скажу. Первое, ты на вид глупее кажешь, чем всамделе есть. Не обижайся: это похвала. Так на свете легче проживешь. Пусть никто на тебя не думает, ничего от тебя особого не ждет, ни в чем не опасается. А ты в хорошую минуту и работай, как тебе удобнее. Помни слова старика. Всякое слово прослушивай, да не слушайся никого, никому не верь сполна. Только мне верь; что скажу, делай постоянно. Поставлю тебя на место, и не на год, на два – десятки лет просидишь. Знай. Теперь про твой вопрос скажу. Нарышкиной, ты прав, сполна доверять невозможно. До тебя ей дела мало. Лишь бы другу своему, государыне, угодить она могла. Это для старухи больше и прежде всего. Лет сорок пять они уж дружат. Думаю, нашла тебя Никитишна пригодным, вот и тянет. Что ревнует граф, тоже ты прав. Вчера еще государыня говорила: «Проходу не дает мне Александр Матвеевич. Сам как лед почитай с полгода стал. А с меня глаз не спускает: на кого погляжу, с кем словечко молвлю». Тут у меня, признаюсь, язык зачесался было ляпнуть ей, что самому ведомо. Удержался впору, Бог миловал. И весть-то не больно радостная… Пусть другой ее кто… Сам пускай «кафтан красный» и порадует свою благодетельницу. Это – перво. Второе: вижу, последний срок на это настал. Что ж ее, матушку нашу, голубушку болезную, раньше времени сокрушать?! Смолчал… Вот тебе и ответ: ты не на очах Мамонова в милость идешь. Потихоньку тебя выдвигают. Наготове держат. Значит, жди. Что будет на этих днях, то тебе и линию покажет, как надо вести себя. Дочиста ли верить кумушке нашей Нарышкиной или погодить чуточку. А впрочем, ей всегда верить опасайся. Как тебя она заготовила, чтобы место не пустовало, если абшид дадут «кафтану», так и на тебя она палочку в уголок поставит, чуть до места доведет. Помни. В другое говорю: мне одному верь, на меня полагайся… – Князь внушительно, словно приводя к присяге Зубова, поднял правую руку перед собой.
– Верю… Буду… Богом свидетельствуюсь! – с дрогнувшей ноткой, со слезами в голосе воскликнул Зубов и, словно в неудержимом порыве, прижал сухую, сморщенную руку князя к своим мягким, влажным губам.
– Ну, ну, будет, не надо, – неторопливо отводя руку, кивая одобрительно, заметил князь. – Вижу, признательный ты теперь… И весьма тебе не терпится на место заступить. Еще бы! Да вот слушай: молод ты весьма. Боюсь я того. Не сумеешь повести себя с надлежащим видом. Подленек малость по юности. И не бедные вы люди, да отец вас уж через меру в черном теле держал по скупости. А тут совсем иное дело. Ты гляди не гнись, когда час настанет. Лучше надуйся. И так будет достойнее, чем если по-теперешнему в глаза глядеть каждому станешь. Угождать – это надо. Мани, обещай всем, чего сами они хотят. Но сам себя не роняй… Так будто и не хотел бы, да речь ведешь. Она это любит. Сама, как ангел, простая да добрая. А в мужчине ей геройство нравится. Слабый пол, известно. Помни. Да, поди, тебе уж там старухи всё растолкуют, как в переделку к ним попадешь… А теперь пора, ступай. Услышишь что, тебя ли касаемое… так ли узнаешь – сейчас ко мне. Чтобы я раней других осведомился. Тогда и пользу тебе оказать смогу. С Богом… Стой… Ты, я вижу, малый богобоязливый… На Бога надежду имеешь. В речах твоих заметил я…
– Ваше сиятельство, прозорливость у вас свыше данная. Только на него, на милосердного, и на вас одна надежда. И сейчас в душе решил в храм пойти, молить Господа: дал бы милости…
– Похвально. Так и оставайся. Он всех нас защитник… Из праха на высоту возводит и низвергает по воле по своей. Но… ты не очень свое благочестие всем показывай. И сама государыня… как бы тебе сказать… Слыхал, поди, речи ее порою? «С молоду, – говорит, – предавалась и я богомольству… была окружена богомольцами да ханжами… По нужде. Государыня покойная то любила. А в душе не люблю показного ничего…» Помни слова эти. Молиться хочешь, делай по-моему: тут, у себя в покое… Знаешь теперь, как я молюсь. Нехотя выдал я тебе молитву свою. И ты так делай. Бог тайную молитву больше ценит. А услышишь, доведется, от нее и слово какое, по-твоему вольнодумное, против веры, или иначе… Молчи, не оговаривай. На словах только вольность у нее. Душой и сама верит не хуже нашего… Да еще… Ну, ступай… А то и не закончу я… Ха-ха-ха… Вишь, и меня, старика, в соблазн ввел. Столько я натолковал с тобою… Годами не приводилось того. Положим, и дело немалое… Может, толк из тебя выйдет? Пользу какую государству и мне, старику, увидим из тебя? Ха-ха-ха… кхм… кхм… Коли суждено новому человеку на старое место сесть, пускай от меня тут доля будет. Моего меду капелька… С Богом… Чай, скоро свидимся еще…
– Сам о том прошу, ваше сиятельство… Благодарности слов нету выразить…
– И слава Богу… Не то сызнова заболтаемся. Зови там, чей черед? Я в кабинет пройду. С Богом…
Разговор этот происходил в субботу утром, шестнадцатого июня.
В это самое время Екатерина, отпустив своих статс-секретарей, вела оживленный разговор с принцем Нассау-Зиген, командиром русской гребной флотилии, спешно снаряжаемой против подходящего к Кронштадту шведского флота.
Беседа шла сначала довольно спокойно, хотя лицо государыни было покрыто пятнами, а глаза с расширенными, потемневшими зрачками были как будто заплаканы.
Нассау, сразу все разглядев, старался не выдавать своих тревог и наблюдений. Он, как и все во дворце, знал о кризисе, переживаемом Екатериной в ее отношениях к графу Димитриеву-Мамонову.
Принцу казалось более удобным делать вид, что ее раздражение он всецело относит к некоторым неудачам и задержкам в военных делах, на которые горячо жаловалась императрица.
– Нет, дерзость какова! – неожиданно подымаясь со стула и начиная по излюбленной привычке шагать по кабинету, заговорила Екатерина, когда принц дочитал свой доклад о ходе работ по снаряжению гребной флотилии. – Что он полагает, этот духовидец, неуклюжий Гу! В самом деле думает, что, вступая в наши пределы, пустив к нашим берегам тридцать – сорок военных кораблей, он нас испугал? Напрасно… Ему придают духу наши первые промахи да неудачи? Это плохая игра. Rira bien qui rira le dernier[3], – вставила она французскую поговорку в свою немецкую речь. – Мы скоро оправимся, я тому порукой.
– И моя честь, государыня!
– Верю, знаю, принц. Жду, когда все будет у вас готово и вы начнете гнать этих земноводных лягушек… О, если бы светлейший был здесь… Он бы сразу им показал. Я сделала все, что могла. Но Мусин-Пушкин – соня… Михельсон, наоборот, лезет вперед без оглядки. Так осрамить наше оружие… Когда я получила известие об его отступлении, об его разбитии… Кем? Шведами, в небольшом числе! Я два дня места не могла себе найти… Двадцать семь лет я такого известия не получала – с тех пор, как взяла здешнее правление в свои руки. И только как пришли от Сен-Михеля добрые вести четвертого сего числа, вздохнула свободнее! Пусть берегутся! На нападающего – сам Бог. И я им покажу это… Войска собираются… Мы их и с суши, и с моря так должны подпереть, чтобы они и дороги домой не нашли… – Быстрым жестом засучила она широкие рукава своего «молдавана», словно они стесняли ее.
– Признаюсь, государыня, меня удивила поспешная диверсия шведов, их переход к наступательной войне.
– А меня ничуть! Я знаю, в чем дело. Субсидии, обещанные от французского короля, недавно были выданы толстому Густаву… хотя и не сполна. Подумаешь, какое неистощимое сокровище! Не надолго его хватит. Мы и без субсидий обойдемся. Империя моя еще довольно велика и богата, чтобы побеждать без чужих подачек. Я докажу это им! Хотя, надо сознаться, христианнейший король поступает далеко не по-христиански. Поджигает войну… тянет руку неверных оттоманов, которых мы должны громить на дальних пределах государства… Кто не понимает этого? Шведы – прямые помощники и союзники султана против России. А Франция поет в третий голос… И скверно, должна сказать. Даже без обычной ловкости и умения… То навязывалась со своим союзом к России. А ныне под разными предлогами никак не соберется довести дела до конца! Чем это вызвано?
– Может быть, на самом деле, государыня, дело и не совсем так, как вам доносят. Может статься…
– Никто ничего мне не доносит. Я всё вижу сама… Политика французского двора весьма неоткровенна. Сдается мне, даже враждебна нам. Я не хочу выводить дела прямо наружу, потому что не опасаюсь того вреда, какой могла бы причинить мне Франция… Больше скажу: кроме Господа, никого и ничего не опасаюсь на свете, ибо помню, что за мной стоит шестнадцать тысяч верст пространства земель и двадцать миллионов верноподданных россиян! – Глуховатый, мужского оттенка, голос Екатерины тут зазвучал полно и сильно, как боевой вызов, как пророческий клич: – Пусть вся Европа пойдет на нас – мы выдержим бурю и отразим удары. Пошатнуть могут мою державу и меня, но не опрокинуть вовсе, как иные троны…
– Аминь, государыня…
– Аминь, скажу и я, – тише, мягче подтвердила Екатерина, снова опускаясь на свое место перед принцем. И даже ее обычная приветливая улыбка постепенно осветила лицо, на котором до тех пор сжатые брови и сверкающие глаза представляли непривычное, пугающее зрелище. – Я, конечно, напрасно волнуюсь, понимаю сама. Только все тут сошлось разом… И наконец, помимо прочего, я не хочу казаться такой простушкой… В Париже не должны думать, что я очарована ложными уверениями. Послушайте, принц, вы, надеюсь, уже достаточно стали русским… и потому желаю, чтобы вы написали – так, от себя… конфиденциально – министру… Монморену… Дали бы понять, что отказ от союза версальского двора и поведение ихнего посла в Константинополе, интриги Шуазеля против России не дают мне более возможности доверять ему по-старому. Словом, одно из двух: или французский двор со мною поступает недобросовестно, либо приказания короля исполняются его доверенными весьма дурно. Меня даже уверяли… Признаюсь, это мне очень неприятно… Говорили, что Сегюр, так обласканный мною, сообщал моим министрам неточные извлечения из депеш, получаемых им из Стамбула, от Шуазеля. После таких уверений в дружбе, в любви… Впрочем…
Екатерина не досказала, снова порывисто поднялась и зашагала по светлой, с зеркальными стенами комнате, служащей вместе и спальней, и рабочим кабинетом императрицы.
Нассау хотел было что-то заметить, но Екатерина снова заговорила с затаенной горечью:
– Коли своим не стыдно, что же с чужих взыскивать?! Бог с ним. Буду вперед еще осторожнее с людьми… Особливо галльского происхождения!
– Я не решаюсь оспаривать вашего мнения, государыня, – осторожно начал принц, – но все же думается, вас могли ввести в некоторое заблуждение. Может быть, даже против воли, с самыми лучшими намерениями…
– Надеюсь, светлейший мне зла не пожелает… да иные тоже. Мне зло – им зло. Толкуют, что каждый из моих вельмож от какого-либо из дворов получает хорошие поминки, если не постоянные субсидии. Если бы и так. В конце концов, я им больше всех плачу. Мне они и должны служить лучше всех. Так и бывает. Помните это, милый принц. А пока покончим этот разговор. Торопите с флотилией. Если нужно еще денег или чего иного, говорите прямо мне. Я взяла на себя ведение этой войны. Надеюсь, что для шведов и меня хватит… Подите с Богом…
– Да хранит вас Господь, государыня.
Когда принц уходил, Захар Зотов, один из двух камердинеров, постоянно дежурящих за дверью спальни, появился на звонок государыни.
С самой Екатериной вдруг произошла мгновенно удивительная перемена. Глаза ее потухли, приняв бледный, сероватый оттенок вместо голубого, им обычного. Пылающее лицо, как будто от внутренней затаенной боли, перекосило страдальческой гримасой, и оно покрылось морщинами, особенно у рта и вокруг глаз. Потерявшие напряжение мускулы лица давали заметить, что подбородок ее, обычно немного выступающий вперед, может заостряться, как у самой дряхлой старухи, даже такой полной, как Екатерина. Даже высокая, налитая еще грудь под свободным платьем как-то сразу ввалилась, обвисла.
Сильный нервный подъем удивительно молодил Екатерину. Минуту тому назад никто не поверил бы, что этой женщине недавно исполнилось шестьдесят лет. А сейчас на ее лице, на всей согбенной, усталой фигуре, казалось, яркими знаками проступила далекая дата: 29 мая 1729 года, день появления на свет принцессы Софии Ангальт-Цербстской, которую теперь, уже при жизни, современники, весь цивилизованный мир называл Екатериной Великой.
– Что с вашим величеством? Нездоровится, матушка? – заботливо спросил Захар, взгляд которого привык замечать малейшее изменение в чертах этого давно знакомого ему лица. – Лекаря не позвать ли? Рочерсона? Я сейчас скажу…
– Нет, постой… Так, обычное у меня… Колика моя подступила. Дай воды… Вот и полегчало… Благодарствуй… Откажи там всем, если ждут… Довольно на нонешний день.
– Почитай никого и нет. Вяземский князь один… Я сейчас… А к вам, матушка, кого звать? Марью Савишну, может? В постельку, может?
– Нет… Тут еще мне надо… Попроси Анну Никитишну. Она знает… Ждет, поди, у себя. Мы сговаривались с ней. Скажи, прошу ее… Ступай… Успокойся. Видишь, легче мне…
И новым усилием воли старая, больная женщина заставила себя принять свой обычный бодрый, ясный и ласковый вид.
– Слушаю, матушка. Иду…
Привычный ко всяким переменам в этой сложной натуре, в этой царственной артистке, одаренной необычайной способностью казаться такою, какою она сама хотела, любимец ее Захар вышел из покоя, незаметно покачивая седой головой, украшенной пышным пудреным париком.
* * *
– Ну, что, узнала, Annete? Говори, рассказывай все прямо. Мне надо знать. Правда это? Правда все, что я слышала? Или обносят его? Мне надо знать. Говори прямо, не бойся: я спокойна и сильна… Со мной ничего не будет… – Так засыпала вопросами Екатерина Анну Никитишну Нарышкину, как только ее старинная подруга появилась на пороге.
– Успокойся. Сейчас все скажу – по крайней мере то, что сама знаю. Прошу тебя, не волнуйся, не страдай так. Это и меня заражает… Ну присядь, если можешь. Сюда на диван. Вот так. Ну а я у твоих ног. Помнишь, как мы часто сиживали с тобою в наши минувшие годы?.. Так. Дай руку… Я так люблю твои руки. Ни у кого, нигде не видала я такой красивой, нежной… такой бархатной и сильной руки… Сейчас, сейчас… скажу… Не волнуйся. Ничего особенно важного нет. Потому я и не спешу. Вот теперь лицо твое стало светлее. И хорошо. Слушай… Знаешь, как это по-русски говорят… – И до сих пор сыпавшая французской речью Нарышкина произнесла чистым московским говорком: – Нет вестей – добрые вести.
– Нет вестей? – тоже по-русски, чуть-чуть выдавая свое немецкое происхождение отчеканиванием согласных, протяжно по-своему переспросила Екатерина. – Как же это, помилуй? А вести были, и весьма не отменные… Слышь, говорят…
– …што кур доят. Лих, молока никто не пил… Так и тут. Со всех концов про Щербатову про княжну толки. А как стали с самими со стариками говорить, те и на дыбы: «Да нет, да быть не может».
– Нашли кого пытать… Они не скажут. Меня боятся, гнева моего. Старики старомодные…
– А может, и так, – незаметно наблюдая за Екатериной, согласилась Нарышкина.
Что-то сдержанное замечалось в ее движениях, словах, в самом звуке голоса. Как будто она хотела приготовить к неприятному известию старую подругу и вела дело так, чтобы полегче нанести удар.
В другое время Екатерина сейчас заметила бы непривычную манеру подруги. Но теперь, занятая одной жгучей, неотвязной мыслью, она больше прислушивалась к собственным ощущениям и словам, чем к чему-нибудь иному.
– Статься может, и права ты, душенька, – протяжно, в тон Екатерине, повторила Нарышкина.
– Как права? В чем? Вестимо, права… А ты еще споришь… С ней он, с этой змеей подколодной, с девчонкой наглой стакнулся… Меня осмеяли… И это им так не пройдет. А ты еще уверяешь, что нет ничего… Ты…
– Дай срок. Не сбей с ног… Послушай спервоначалу, что я… В ту пору и будешь грозой метать. Оно хоть идет к лицу тебе, как у тебя очи так почернеют, да я не кавалер. И без того люблю тебя безмерно. Договорить-то позволь, душенька.
– Говори. Только я ничему не верю.
– И на том спасибо. Много, поди лет сорок с лишним, дружбу ведем, а такого не слыхала. Видно, шибко засел этот «кафтанчик красный» вот тут у тебя? – И фамильярно Нарышкина дотронулась рукой до груди своей державной подруги.
– Оставь! Что говорить хотела? Сказывай. Слушаю я. И не думай вовсе, чтобы уж очень он мне… Ну, понимаешь… Вынести того не могу, когда не я первая абшид даю. Когда по столице и повсюду говор пойдет: постарела, мол. Прошло, мол, мое время. Вот, мол… Да нет, быть того не должно…
– И не будет. Приятно, когда слышу речи такие твердые… Ну мало ль дури на свете? Смазливая рожица княжны приворожила его… Ненадолго, поди. Первого родит – сама рожном станет. Видала я таких, как она… Тебе ли чета? Хоть и внучкой тебе быть может. Только годами и взяла. Да тем, что, гляди, если правду врут, он первый к ней коснулся. Это лестно мужчине. Плод какой, подумаешь, диковинный… что у каждой девки дворовой в тринадцать лет найдется. Ну да шут с ними. Пусть лакомится на здоровье. Меня послушай. Знаешь, душенька… царица ты моя любимая… Твоя радость – моя радость. А всегда я понять плохо могла: что тебе в нем полюбилось? Вспомни, как светлейший с него портрет тебе показывал, сватал молодчика после покойного нашего, незабвенного; как это ловко ты вымолвила: «Рисунок хорош, да краски неважные». А по мне, совсем линялый твой «красный кафтан». Привыкла к нему ты, вот и все… А то…
– Оставь, молчи… Пустое несешь. И умен, и образован, не похуже Андрея Шувалова. Собой сколь хорош, не слепа ты, поди… Не люблю, когда лукавят. Роду прекрасного. От корня высокого, от Рюрика. Всем взял. И… что от тебя таить? Надоел бы он мне… будь и во сто раз лучше, так и спустила бы на воду, как икону старую. Как другим приводилось плыть… И Орлу моему, и светлейшему, другу неизменному, и прочим. А тут насупротив того. Вот без этой причины, а уж у нас и в Европе толки идут: больна я смертельно… Рак меня грызет, помираю-де совсем. Поневоле, кто не верил, верить станет, как узнают, что самые близкие прочь бегут. Что одна я… всеми кинутая, отброшенная…
– Да помилуй, душенька, chère Catherine[4], побойся Бога… Тут же под боком молодые люди режутся, стреляются от страстей своих к тебе, а ты говоришь…
– Что еще там? Кто еще? Все твой вздор? Слыхала я.
– Не слушай, если неохота. Я этим не торгую. Знаешь, если и думаю – о твоей только радости. Про тебя на самом деле кто бы не дерзнул чего такого помыслить… И сам как увидит, что бросаешь ты его без дальних слов, «кафтан» этот линялый.
– Молчи… Ты опять о ротмистре твоем. Об этом с женским лицом. Глаза у него красивые, правда. Я заметила. И рот приятный. Даже, знаешь, он мне чем-то Александра Димитрича покойного, ангела моего, припоминать стал… Веришь ли?
– Как не верить? Лучше еще его. Сила какая, ежели бы ты знала… Что про него рассказывают! Повторять даже стыжусь. Большой шалун… по сердечной части. Неутомим ни в чем. А характер голубиный. Сын такой нежный… почтительный… Брат редкий. Сестры у него… Просто он им матери лучше… Бриллиант, а не мужчина… и… – Нарышкина снова перешла на французскую речь: – Нас уж так любит… умирает от страсти… Я не зря говорю. Даже на свою жизнь покушался. Едва удержали.
– Не верю…
– Ваша воля… А я бы не то поверила… Сама бы такого подыскала молодчика… и зажила бы превесело. А «кафтанчик» за дверь…
– Ах, вот как…
– Разумеется. Пусть женится на ком хочет после того. От тебя отставка ему, не тебе от него…
– Вот как! Женится?! Наконец-то выговорила. Правда, значит, жениться он сбирается. Все уж знают? Вот куда ты вела?
– Нет, так только…
– Знаю я тебя. Всегда вокруг да около. Прямо не скажешь. А еще другом себя считаешь моим. Не верю я и тебе ни единого слова… Теперь вижу, в чем дело. Помешал кому-либо граф. И выдумали всю эту повесть… И мне иного подставляете. Полагали, я на свежую приманку так и накинусь, мальчика отличу… и от себя отгоню человека, который несколько лет подряд без пятна здесь прожил… Все я поняла… Не удастся вам ваша затея… Я вовремя спохватилась. Правда, есть между мной и графом полоса серая… Да не вовсе пропасть. Может, и нравится ему девчонка… Не беда… Побалует с ней и бросит. Меня не кинет. Я себя знаю. И ты меня знать должна… и все вы… Ступай, оставь меня…
Нарышкина с нескрываемым сожалением посмотрела на свою подругу, по-видимому нисколько не обижаясь на упреки и подозрения, брошенные ей в лицо страдающей женщиной. Отвесив глубокий, почтительный поклон, она направилась к выходу.
Быстрым движением, на какое нельзя было считать способной эту пожилую, грузную женщину, Екатерина кинулась за подругой и остановила ее у самых дверей:
– Постой, погоди… Не сердись… Не уходи так… молча. Неужели же ты не видишь, как я страдаю? Не смейся надо мной. Сама не рада сердцу моему старому, глупому. А не слушает оно ни лет, ни разума. Только в нем и мука, и отрада моя. Со всем умею справиться. Все разберу, со всем справлюсь, если нужда приходит. А вот с собой не могу. Теряю разум… как дитя малое становлюсь. Ты знаешь. Ты добрая… Ты любишь… Так не сердись. Останься. Помоги. Научи, что делать. Помоги, как быть…
И совсем по-женски, спрятав лицо на груди подруги, Екатерина залилась слезами.
– Ждать… одно осталось… Думаю, что не долго уж. Больше и сказать ничего не умею. Попробуй сама хорошенько спроси его. Вот хоть нынче… После обеда, как останетесь вдвоем, и приступи к нему… Пора маску снимать…
– Маску? Так ты уверяешь? Нынче? Ох, Анеточка, я сколько раз пробовала! А приступить духу не хватает… Глупые мы. Самые сильные женщины, а все же глупые. Хорошо, я возьму на себя решимость. Я спрошу… Только ты близко будь. Если правда… Если он мне скажет так, прямо… Не знаю, перенесу ли. А надо же узнать. Покончить надо. Теперь такая пора трудная. Враги кругом. Людей нету. Сама чуть не фураж для солдат собирать должна. Тут враги… На юге война… На западе Пруссия кулаки сжимает. Даже придется, того гляди, из Польши войска выводить… Царство шатается. Надо весь ум собрать, всю душу взбодрить. А тут сердце мое растерзано, думам мешает, лишает смысла и памяти. Нельзя так. Правда, ждать нечего. Один конец. Мне мое царство десятка графов дороже… Хоть бы и любил меня… Хоть бы и на время задурил. Надо кончать. Без любви без всякой, ты права, лучше этого мальчика приблизить. Пусть место занимает… И спокойней буду. Двадцать семь лет честно послужила трону… И теперь надо обо всем забыть… Решу. Нынче… А ты своего ротмистра готовь. Чтобы не подумал этот зазнайка, что я жалеть по нем стану. Иди… зови мне Козлова… Чесаться, одеваться пора. К столу время. Выйду – похвалишь меня. Никто не заметит, что у государыни у всероссийской сердце может, как у простой слабой женщины, тосковать и кровью обливаться… Тебе спасибо, милая… Сумела мне доброе слово, как надо, сказать. Зови людей моих…
Быстрыми шагами направилась государыня в свою уборную.
Нарышкина со вздохом облегчения последовала за нею.
* * *
Объяснение произошло в тот же день, после обеда, и длилось около четырех битых часов.
В семь часов граф Димитриев-Мамонов, измученный, бледный, вышел из комнаты Екатерины, поднялся во второй этаж флигеля, который занимал во дворце, кинулся на диван в кабинете и долго так лежал, мрачный, безмолвный, не пуская к себе никого.
Екатерина с пылающим лицом, с заплаканными глазами, которые даже припухли от слез, впустила к себе Нарышкину, и долго они толковали вдвоем.
О сцене сейчас же сделалось известно всюду во дворце, и хотя подробностей никто не знал никаких, но догадки, высказанные с разных сторон, были довольно близки к истине.
Совершенно неожиданно ровно в девять государыня появилась из своей спальни и вместе с Нарышкиной быстро прошла в парк, к светлому, красивому пруду, брошенному искусной рукой среди обширной зеленой лужайки, от которой лучами расходились в разные стороны тенистые, ровные аллеи. Причудливо подстриженные деревья и кусты, густые, стеной поднятые зеленые изгороди окаймляли лужайку, как живой забор… Только темные пролеты аллей нарушали сплошную зелень оград, как бы прорывая их своею заманчивой, густеющей, что ни дальше поглядеть, темнотою.
Белые ночи придавали особый, мертвенно-серебристый отблеск и гладкой поверхности озера, и свежей, зеленой листве.
Ночной свет, разлитый повсюду и не дающий тени, настраивал на грустный, но в то же время мирный лад.
– Как сильно по вечерам пахнут цветы! – заметила Екатерина, проходя мимо цветника. – Можно подумать, что это час их любви.
– Говорят, что так оно и есть, ваше величество.
– По вечерам? Когда село солнце… Когда тихо… Когда все заботы отошли… Когда прохладно и легче дышать. А они не глупы, эти цветы… – покачивая головой, негромко, как будто рассуждая сама с собой, сказала государыня.
– Всё, что живет, цветет и любит, – все это создано не без ума, ma chérie!
– Правда твоя, Аннет.
Екатерина глубоко вздохнула, и они медленно двинулись вдоль пруда.
На одном из поворотов, когда веселый подстриженный густой кустарник вдруг раздвинулся, открывая вид на озеро, они совсем близко перед собой различили на скамейке темную фигуру сидящего мужчины, военного.
Он был погружен в глубокую думу и, казалось, не слышал, не замечал приближения государыни и ее спутницы. Екатерина готова была свернуть в сторону, чтобы не видеть чужого, постороннего лица и самой не показаться в таком расстроенном виде, как была сейчас. Но Нарышкина, словно не понимая ее намерения, спокойно подвигалась по аллее, не выпуская руки подруги, как держала ее раньше.
Шагах в пяти-шести от скамьи, куда привела обеих аллея, они очутились почти лицом к лицу с сидящим.
Это был Платон Зубов, бледный, мечтательный. Глаза его были опущены, словно на дне пруда, который был у его ног, лежала какая-то великая загадка, поставленная ему для разрешения.
Шорох шагов по аллее вывел его наконец из задумчивого оцепенения.
Узнав обеих дам, ротмистр вскочил, вытянулся, отдавая честь, и в то же время, словно против воли, взгляд его, более чем это предписано артикулом, впился в лицо государыни.
Взгляд Екатерины невольно скрестился с этим жадным, горящим, как показалось ей, взглядом. Что-то давно знакомое, приятное напомнил и всколыхнул в ней этот упорный, наивно-дерзкий, хотя и полный почтительного обожания взгляд. И сейчас же он потух, опустился вниз, как будто не вынес ответного взора, брошенного ему помимо воли этой неувядающей очаровательницей, Семирамидой Севера, по словам друзей… Мессалиной новых дней, по отзыву завистников, врагов и клеветников.
Ласково, приветливее обыкновенного кивнув молчаливому мечтателю, Екатерина прошла мимо своей твердой, величавой походкой. И, не оборачиваясь, не видя, она ясно чувствовала на себе, на плечах, на кончике уха, вдруг зардевшегося отчего-то, все тот же упорный, жадный взгляд красивых, больших, бархатных глаз.
– А знаешь, он совсем недурен собой, – после долгого молчания бросила она Нарышкиной, словно мимоходом.
– Так все говорят, – отозвалась та, давно уже ожидавшая этих именно слов.
И снова в молчании обе пошли они дальше.
Десять ударов протяжно и звонко пронеслись над озером, улетели в эту ночную, причудливо-светлую даль. Молча направилась Екатерина к своему флигелю, простилась с Нарышкиной и вошла к себе.
А Нарышкина, вместо того чтобы внутренними переходами пройти на отведенную ей половину, снова показалась в парке, как бы желая еще побродить в старом саду, под развесистыми вековыми липами, осеняющими тут дворцовые флигеля.
И снова ей встретился Зубов, как будто поджидающий свою покровительницу.
– А вы не пошли на покой? Не спится, Платон Александрович? С чего это? В наши годы бессонница – еще понятная вещь, – протягивая руку ротмистру, насмешливо заговорила Нарышкина. – А вам, молодым людям… Интересно, какая муха вас пикировала? Говорите…
Зубов, почтительно прижав к губам теплую, еще красивую руку придворной затейницы, многое состряпавшей и разладившей на своем веку, мягким, негромким голосом, по своему обыкновению, заговорил:
– Разве можно уснуть?! Дивная пора… Primavera – gioventù de l’anno[5].
– Gioventù primavera della vita[6]. Браво, вы и это знаете?! Совсем молодец. Недаром сейчас государыня так лестно отозвалась о нашем маленьком ротмистре… Avanti, sempre avanti![7] Теперь либо никогда… Слыхали, какая была сегодня продолжительная баталия?
– Говорят во дворце. Никто толком не знает, в чем суть.
– Особенно нечего и знать… Он не глуп, как оказывается. Не дает ей напасть. Первый делает вылазки. О княжне ни слова. Боится, чтобы в припадке гнева она не решилась на что-нибудь ужасное. Надо бы его успокоить, что, наоборот, откровенность пробудит в ней великодушие. А он вместо того толкует о своем раскаянии. Его положение фаворита заставляет-де краснеть такого безупречного дворянина, как граф Димитриев-Мамонов… И прочее и прочее.
– Дерзкий глупец!
– Вот-вот. И я полагаю то же самое… Но мужайтесь. Вы замечены. С ним дело начато… Шар покатился с горы, и остановить его уже нельзя. Не нынче завтра наступит решительная развязка. Я государыню знаю… Хотя немного и моложе ее…
– О, вы…
– Без лести и комплиментов. Я ревную за нее даже к себе самой. Да-да, помните: мы очень ревнивы. Будьте осторожны всегда и во всем. Ну, вот я вам почти все и сказала. Мы у дверей моих покоев… Благодарю вас. Доброй ночи, Платон Александрович. Спите спокойно… Кстати, князь Вяземский тоже как-то ввернул словечко за вас. Про Салтыкова уж и говорить нечего. Признаться, у вас хорошая опека. А мы к этому прислушиваемся. Кого все хвалят, – значит, стоит похвал. Так думает государыня.
– А вы, Анна Никитишна? Я хотел бы знать: как вы?
– А мне? Нравится тот, кто… мне нравится… Et voilà tout[8]. Доброй ночи. Не бледнейте: вы мне тоже нравитесь… Спите сладко… Пусть вам грезится то, что должно скоро сбыться… влюбленный Адонис! Ха-ха-ха!
И Нарышкина скрылась за своей дверью, оставив Зубова в каком-то непонятном для него состоянии, где ожидание, надежда и полное отчаяние тесно переплетались между собою в трепещущей, возбужденной душе.
* * *
По воскресеньям особенно шумно и людно бывает во дворце и в парке Царского Села.
Государыня из церкви проходит в большой зал, куда собираются все, кто имеет право приезда в эту летнюю резиденцию.
Великий князь Павел Петрович с Марией Федоровной, раньше часто посещавшие государыню, теперь по долгу службы, так сказать, являются в воскресные и праздничные дни с лицами ближайшей свиты на поклон к императрице.
А парк наполняется самой разнообразной местной и столичной публикой, которую привлекает желание хотя бы издали увидеть любимую государыню. Стеснений, охраны особой не полагается никакой. Именно теперь, когда во Франции кипит революционный котел, когда и в северную столицу донеслись темные вести о подготовляемом покушении на Екатерину, она не позволяла принять каких-либо чрезвычайных мер.
Генерал-адъютант Пассек, дежурящий во дворце, приказал было только удвоить караулы. Но государыня узнала и велела всё отменить.
– Бог и мои дела, любовь моего народа – вот что охранит меня лучше сотни бравых гренадеров с ружьями! – улыбаясь, заметила она огорченному Пассеку.
И восторг, всколыхнувший его грудь, смешался с чувством неясного опасения, не ушедшего сразу из недоверчивой души.
Несмотря на воскресный день и все волнения минувшего дня, Екатерина проработала обычным порядком со своими секретарями, приняла очередные доклады, теперь, по случаю войны со шведами и турками, имеющие особую важность.
Последний занял свой стул за вырезным столом против государыни ее любимый статс-секретарь Александр Васильевич Храповицкий.
Семья Храповицких издавна имела прочные связи с русским двором по отцу, служившему лейб-кампанцем при покойной императрице Елисавете, но еще больше с женской стороны. Мать самого Храповицкого была дочерью Елены Сердюковой, побочной дочери Великого Петра, которую царь пристроил за одного из своих приближенных. Таким образом, Храповицкий от рождения считался не только в ряду постоянных слуг, но даже свойственником Елисаветы Петровны и преемников ее. Кроме того, многочисленные связи и материальный достаток дали возможность юноше избрать себе любой род службы при дворе.
По обычаю той поры, он начал с военной карьеры, затем перешел на гражданскую службу. Везде проявил врожденный такт, необычайную мягкость – вероятно, наследие предка-поляка, своего прадеда, – но выдвинуться нигде не успел. Отчасти причиной служило полное отсутствие у Храповицкого честолюбия в его высшем смысле.
Затем его ленивая натура славянина в связи с какой-то болезненной наклонностью к грубому пьянству и разврату, главным образом, остановила быстрые сначала успехи Храповицкого по службе и даже в литературе, где он пробовал силы, выступая довольно удачно. Эта самая литературность и доставила ему прочное и очень почетное положение статс-секретаря, удобное именно тем, что отнимало очень мало времени, давая возможность жить так, как хотелось этому странному человеку.
Их двое было, таких чудаков, при екатерининском дворе: он и Безбородко.
Граф Священной империи, государственный канцлер, один из первых богачей, Безбородко, также поляк происхождением, как и Храповицкий, пятнадцать лет тому назад быстро выдвинулся при Екатерине благодаря своей сметке, гибкости и уменью ловить момент. Злые языки даже толковали, что Екатерина, несмотря на грубоватую наружность молодого секретаря, на короткое время приблизила его было к себе, как и многих иных, но места фаворита он не получил. В этом отношении, очевидно, дарования его не соответствовали важности положения.
Прозванный в юности Хохлом за свою простоватую внешность и сильный малорусский говор, Безбородко остался неизменен и на высоте.
Распутный, обжора, пьяница, содержа настоящий гарем, Безбородко, как это знали все, по субботам уходил из своего богатого дворца одетый простым обывателем, с сотней рублей в кармане и в самых грязных притонах пьянствовал и развратничал до понедельника утра.
Затем возвращался домой, где короткий сон и холодные ванны возвращали ему все самообладание и важный вид вельможи.
Так же – по странному совпадению – поступал и Храповицкий.
Кончалось его дежурство во дворце, не предвиделось дел, по которым государыня могла бы вызвать его не в урочное время, и Храповицкий отводил душу, посещая самые грязные притоны столицы, где не раз в пьяном виде затевал даже драки, рискуя быть искалеченным, если не убитым на месте.
Все передавали случай, когда явился к Храповицкому утром какой-то посетитель и обомлел. Накануне в притоне пришлось ему в ссоре избить пожилого толстяка с наглым лицом, по пьяному делу буянящего и оскорбляющего других. Взглянув утром на Храповицкого, в руках которого находилось важное дело, касающееся просителя, последний узнал в сановитом вельможе вчерашнего пьяного толстяка. Сомневаться нельзя было уже потому, что на лице его, замазанные, покрытые пластырями, сохранились явные следы ночного побоища.
Добрый по душе, Храповицкий ласково принял вчерашнего обидчика, как будто никогда с ним не сталкивался, и решил его дело как только мог лучше.
Стоя вне всяких партий, уверенный в своем личном положении, Храповицкий не интриговал, не подкапывался ни под кого из окружающих – напротив, был со всеми в хороших отношениях, хотя и не старался услужить никому из враждующих между собой придворных и фаворитов.
За ним не примечали и другого, общего для всех греха – лихоимства.
– Готова дать на сожжение руку, что Храповицкий взяток не берет, – сказала о нем как-то государыня, которая хорошо знала всех своих приближенных с их достоинствами, недостатками и грешками.
Поэтому Храповицкий долгое время пользовался особым доверием Екатерины. Совсем под конец ее жизни умному придворному пришлось сломать себе шею на самой, казалось бы, безобидной вещи.
Ежедневно для потомства записывал Храповицкий все, что слышал во время своих докладов от императрицы.
В правдивую запись он не вносил ничего от себя: ни мыслей, ни соображений, ни личных чувств. Как в зеркале, отразилась тут одна сторона жизни этой сложной женщины, желающей всегда и во всем остаться госпожой, испытывать других, а не служить предметом изучения.
Узнав о записях человека, которого она считала простым инструментом в своих искусных руках, Екатерина постепенно отдалила от себя тайного наблюдателя или соглядатая, как она решила, который, может быть, передаст будущим поколениям не то именно, что она сама решила сказать о себе…
Это случилось потом… Теперь же, в 1789 году, Храповицкий еще пользовался полной доверенностью и близостью к императрице. По общему мнению, он того вполне заслуживал.
Толстый, немолодой, страдающий одышкой, он проявлял юношескую легкость и изворотливость ужа, когда этого требовалось, чтобы услужить государыне. Словом, в нем Екатерина нашла идеального, образованного, умного, неподкупного секретаря-лакея, то именно, чего искала и в своих сановниках и даже в большинстве фаворитов, которых называла своими воспитанниками…
В числе других обязанностей Храповицкий докладывал Екатерине о более важных и занимательных открытиях, какие делал петербургский «черный кабинет», занимаясь очень успешно перлюстрацией, как это называлось тогда.
Переписка иностранных послов, посылаемая по почте, как и письма своих сановников, почему-либо заподозренных или интересующих государыню, – все это осторожно вскрывалось, с более интересных снимались целиком или частично точные копии, после чего письмо, снова тщательно запечатанное, отправлялось по назначению.
Такой шпионаж в связи с изданием «Санкт-Петербургского Вестника», заменяющего позднейшее Осведомительное бюро, позволял не только узнавать настоящее общественное мнение и создавать его или по крайней мере направлять по возможности в сторону, приятную и желательную для Екатерины и ее политики, внутренней и внешней отчасти.
– Сегодня, видать, не особый улов, – с обычной ласковой улыбкой заметила Екатерина, когда Храповицкий доложил ей число и содержание писем, копии с которых лежали у него наготове в портфеле. – Всё старое… Жалобы на нас, недовольство Россией… ее управлением, нравами, климатом… Да, ради Бога, кто же тянет сюда всех силой? Смешной народ. Каждый должен устраиваться, как может лучше по своим силам и умишку. И мы так делаем. В чем же беда? Покуда, не глядя на многие невзгоды, мое маленькое хозяйство идет себе кое-как, без особого урона и вреда. Надеюсь на лучшее впереди. А они пускай себе лают. Постой, дай-ка сюда еще письмо француза… графа нашего…
Быстро нашел и подал Храповицкий листок, на котором было скопировано последнее послание версальского посла, графа Сегюра к ла Файэту в Париж.
– Тоже человек весьма мало понятный… Что пишет! Поздравляет со вступлением на столь опасный, бунтовщичий путь… И кому! Столь ярому честолюбцу и открытому якобинцу де ла Файэту? Может ли так писать королевский посол? Скажи прямо твое мнение.
– Думается, это без всякой дурной мысли, ваше величество. Они же и кузены.
Екатерина быстрым взглядом окинула секретаря. Тот глядел ей прямо в лицо своими добрыми, заплывшими глазами.
– Пожалуй, ты и прав. Дело проще, чем я полагала. Хотя графом я вообще не очень довольна. Мало ли тыкала я ему в глаза лучшими правилами французской старой доблести, рыцарским обычаем! А он стал лукавить с нами… Я вовремя сметила. А что касается господина Файэта… Король сделал промах. Нынче там не умеют пользоваться распоряжением умов. Этого Файэта на месте короля я, как явного честолюбца и знатного родом, взяла бы к себе. Сделала бы своим защитником против врагов. Заметь, что и делала здесь, у нас, с моего восшествия…
– И звезда от звезды разнствует, государыня.
– А-а, вот как… Благодарствуй на похвале. Но то помни: я только женщина. Он же король, муж. О, если бы вместо этих юбок имела я право природное носить штаны! Я была бы в силах за все в царстве ответить. Как ни велика наша держава… управляют, слышь, и глазами, и рукой. Как Петр, как иные. А у женщин есть лишь уши. Да и те золотом занавешены порою, либо иной женской слабостью. Как скажешь?
– Взгляните, государыня, на дела свои. Они громче моего отвечают и вам самим, да и миру целому…
– Э-э, ты, толстяк… тонким льстецом стал. Где это научился, говори? Не от французов ли, что за их стоишь? Гляди! Je vous tuerai avec un morceau du papier[9].
И быстрым, каким-то девически-шаловливым жестом, свойственным ей одной, Екатерина слегка коснулась выдающегося живота Храповицкого свернутым листком, который держала в руке, засмеявшись при этом громким, обычным смехом.
– Ха-ха-ха. Мертв… мертв, государыня… Уж и отпет совершенно, – сдержанно-почтительно вторя хохоту императрицы, отозвался осчастливленный милой шуткой секретарь.
– Боле нет ничего? – быстро принимая деловой тон, спросила Екатерина. – Ступайте с Богом. Буду рада видеть вас нынче у себя за столом. Идите.
Храповицкий почтительно коснулся губами протянутой ему полной руки, на что государыня ответила легким пожатием.
– В приемной принц… его высочество Зиген Нассауский ждет, просит дозволения войти, – доложил Захар, пропустив за дверь Храповицкого.
– Принц? Что больно часто? Новые дела, видно. О чем вчера было сказано, не успела я еще ему состряпать… Да, видно, надо, коли пришел… Есть еще минутка. Зови. Пускай… Что скажете? – отвечая ласковым поклоном на почтительный привет принца, спросила Екатерина, стоя посреди комнаты и тем давая знать, что свидание не может быть продолжительным. – Что-нибудь новенькое? Дурное? Хорошее? В чем дело, принц?
– Я от Сегюра, государыня.
– От Сегюра… Что нужно Сегюру от меня?
Молча принц передал Екатерине большого формата конверт, запечатанный гербом французского посла. На конверте была написана только одна строка: «Не императрице, а Екатерине Второй».
– Что такое? Что это значит? – с неподдельным изумлением произнесла она и быстро вскрыла конверт.
Изумление еще увеличилось. Там лежала подлинная депеша, очевидно сегодня лишь доставленная курьером Сегюру из Константинополя от тамошнего посла Франца Шуазеля.
Больших два листа, исписанные условным рядом цифр и знаков, были дешифрированы рукою Сегюра. Между строк он вписал буквы азбуки, соответствующие цифрам секретного письма, и эти буквы составили точный, понятный перевод всей депеши.
С жадным, нескрываемым интересом Екатерина заскользила глазами по двойным строкам, слегка даже раскачиваясь всем телом, кивая головой, словно подчеркивая движениями то, что открывала в депеше.
– Боже мой! Вот оно что… – вырвалось невольно вполголоса у нее.
Нассау осторожно отступил назад, как бы желая уйти за дверь, спиною к которой он стоял.
– Ради Бога, принц, не уходите от меня ни на одну минуту! – живо остановила его государыня. – Вы же видели надпись на конверте. Неужели вы не поняли ее? Вы знаете, что он посылает мне? Подлинную шифрованную депешу и сверху перевод. Стоит мне самой или кому-нибудь писать отсюда две параллельных строки – и весь ключ посольской их переписки будет в руках у нас. Вы должны видеть, что я не сделала того. Вы подтвердите это графу. Одну минуту. Я не задержу вас. Сейчас прочту…
Принц, хорошо понимающий, в чем дело, как умный и ловкий придворный, принял слова Екатерины как нечто новое для себя, как откровение. На лице его выразилось удивление, отчасти искусственное, отчасти искреннее.
На месте Екатерины редко кто другой поступил бы так безупречно. Он не знал одного: шифр французской дипломатической переписки был отчасти известен русским министрам и ей самой…
– Нет, слушайте… слушайте, что пишет Шуазель… Оказывается, англичанин и пруссак безбожно обманывали меня. Здесь они уверяют, что стремятся установить мир, уговаривают султана пойти на уступки. Готовы оказать нам всякую добрую услугу и содействие. А там, в Порте… Слушайте, что там вытворяют английский и прусский поверенные по приказанию своих дворов! Они возбуждают турка против меня… Обещают султану всякую поддержку. Смотрите, что они позволяют себе в своих донесениях: «Русская императрица совсем одряхлела. Войск нет. Казна опустела, и последние рубли уходят на подарки молодым, красивым офицерам ее гвардии, которые имеют счастье привлечь взор этой полуразвалины…» Нет, слушайте… слушайте! Можете сами судить, правда ли это! Но как смеют они! Такая ложь… такая низость… Еще лучше: «Страна вся в брожении. Полки отказываются выступать в поход. Наследник располагает не только сильной дворцовой партией, но любовью всего народа и войска… Не нынче завтра переворот, сходный с тем, какой устроила сама Екатерина четверть века назад, даст новое направление политике России, если только в этом государстве есть что-либо похожее на настоящую, народную политику. Продажность первых чинов государства… тяжесть налогов… темнота народа… Распутство самой…» Hundert Teufel![10] – Екатерина не дочитала и едва сдержалась, чтобы не скомкать, не изорвать листков. – Ну, я им дам себя еще знать… Благодарна графу Луи за его откровенность и доверие. За то уважение ко мне, которое доказано этим доверием. Я заслуживаю его. Граф меня понял. – Овладев окончательно собою, Екатерина аккуратно сложила листки и подала их принцу: – Скорее передайте их обратно Сегюру. Скажите: я никогда в жизни не забуду этого великодушного поступка… Скажите ему… Постойте, где, когда вы получили от него конверт? Почему он дал его именно вам?
– Дело просто, государыня. Нам случайно пришлось нынче ехать сюда вместе. Как доброму приятелю, я открыл ему все, что знал о справедливом негодовании вашего величества на двойственные поступки версальских министров. Он стал возражать. Указал на несколько лиц, которые, по его мнению, стараются умышленно ссорить ваше величество с министрами короля… И тут же в доказательство своей правоты, в подтверждение правдивости выдержек, какие он дает русским министрам, вынул и передал мне для вашего величества настоящую депешу. Конверт нашелся здесь. А печать свою граф всегда носил при себе.
– Точно, ясно и просто, но полно смысла и силы, как все, что исходит от героя, моего милого принца! Так Сегюр здесь? Рада. Передайте ему… Нет… Прошу вас, ни слова. Так же молча отдайте графу пакет, как вручили его мне. Словесную часть приключения предоставьте мне. Можно, принц?
– Приказывайте, государыня. В преданности и скромности моей вы не должны сомневаться.
– И не усомнюсь никогда, Бог свидетель. Идите с Богом. До свидания за столом.
* * *
– Добрый день, граф! Как поживаете? Какие вести из Версаля, с вашей родины? Я очень рада вас видеть у себя!
Так с ласковой, приветливой улыбкой обратилась Екатерина к первому Сегюру, когда перед обедом вышла в большой приемный зал, переполненный придворными, членами посольств и личной свитой государыни.
Если бы граната вдруг разорвалась среди всей богато разодетой толпы, общее изумление, даже испуг, пожалуй, были бы не больше того, какой сейчас отразился на лицах.
Уже несколько времени, как Екатерина под влиянием разных слухов и внушений со стороны близких своих советников совершенно охладела, сразу отвернулась от французского дипломата. Враги Франции – прусский и английский полномочные министры пользовались самым ласковым вниманием и заранее учитывали выгоды, какие может принести это лондонскому и берлинскому дворам.
Екатерина хорошо заметила впечатление, произведенное ее словами, дружеским жестом, с которым она подала руку Сегюру для поцелуя.
Сегюр, умный и опытный дипломат и придворный, желая еще больше подчеркнуть соль настоящего положения мнимой своей скромностью, негромко, но очень внятно проговорил:
– Что мне сказать, государыня? Раз вы так внимательны и интересуетесь делами моей родины, Франция может быть спокойна, какие бы тучи ни омрачали ее южные голубые небеса.
– Болтун, краснобай! – не выдержав, буркнул грубоватый пруссак-посол лорду Уайтворту, своему соседу и тайному единомышленнику.
Екатерина расслышала и узнала голос, хотя и не разобрала слов. Живо обернулась она к двум неразлучным за последнее время дипломатам и слегка повышенным, деланно любезным тоном произнесла:
– Впрочем, что я… Вот где надо искать последних вестей – все равно, о своей или о чужой земле. В Пруссии и Англии знают все лучше других. И самую сокровенную истину. Не так ли, лорд? А как по-вашему, граф Герц?
От волнения и злобного возбуждения зрачки у нее расширились, заполнили почти весь глаз, так что глаза императрицы стали казаться не голубыми, а черными. Гордо вскинув голову, с напряженной, вытянутой шеей, сдержанно-гневная и величественная, она вдруг словно выросла, стала выше целой головой на глазах у всех.
Опасаясь неловким словом усилить еще больше неожиданное и непонятное для них раздражение, оба дипломата молчали, выжидая более благоприятной реплики и минуты для ответов.
Но Екатерина и не ждала никакого ответа.
– А может быть, по законам дипломатической войны нельзя говорить того, что знаешь, а надо оглашать лишь то, чего нет? Значит, я ввожу вас во искушение своими вопросами. Прошу извинения. Мы, северные варвары, еще так недавно стали жить с людьми заодно. Нам еще многое простительно… Не так ли, лорд? Вы, конечно, согласны, граф? Мы, русские, например, очень легковерны. Читаем ваши печатные листки, разные гамбургские и иные ведомости и думаем, что там все истина… Верим даже устным вракам и сплетням. Знаете ли, граф Герц, у нас верят такой нелепости, что молодой прусский король вовсе не похож ни умом, ни делами, ни королевским своим словом на покойного великого государя… Допускают, что он способен успокаивать нас дружескими обещаниями, а сам готовится с Польшей ради враждебной нам Швеции, на радость неверным оттоманам, с третьей стороны ударить на русские владения, поразить грудь нашей земли, благо руки у нас в иных местах заняты. Мы, конечно, не допускаем, не можем допустить подобного вероломства. Не верим и тому, что у прусского короля советники и слуги способны ради личных выгод действовать в ущерб интересам родины, подвергать опасности соседнюю дружелюбную могущественную державу, с которой придется еще не один фунт соли съесть. Мы не верим, что такие дурные, вредные…
– Жаль, расходилась наша матушка, – вдруг услыхала Екатерина недалеко за своей спиной знакомый голос Храповицкого, который давно с волнением и страхом глядел на ее лицо, пылающее и властное, с опасением ловил поток справедливых, но неуместно высказанных упреков и колкостей.
Рискуя обратить на себя гнев государыни, он все-таки произнес вполголоса приведенное замечание. Сказал и окаменел от страха – в ожидании того, что теперь будет.
Мгновенно умолкла Екатерина. Наступило короткое, но тяжелое, почти зловещее молчание, совершенно необычное в подобных сборищах при этом дворе… Взоры всех прямо или исподтишка были устремлены на Екатерину. И почти мгновенно под всеми этими взорами, как и в своем кабинете, государыня каким-то неуловимым приказом, данным самой себе, вся преобразилась. Глаза посветлели, лицо приняло обычный, улыбающийся вид, пурпурный румянец сменился обычной легкой окраской щек, которая и в шестьдесят лет не изменяла императрице.
Как бы для большей силы впечатления, государыня с самым добрым видом обратилась к своим внукам, стоящим вдали в ожидании, пока их позовут:
– А-а, вы уже здесь, дети мои! Подойдите… Я и не заметила вас сразу. Я потом, граф Герц… Мы после докончим этот разговор, не правда ли, сэр? – холодно, но любезно обратилась она к двум дипломатам, вопреки их навыку обращенным в две безмолвные статуи.
Кивнув обоим в ответ на низкий поклон, она занялась обоими внуками, Александром и Константином, рослыми не по годам, из которых старшему было одиннадцать, а младшему шел десятый год. И ни слова, ни взгляда в сторону Храповицкого, который так и стоял ни жив ни мертв.
Только после обеда, когда все приглашенные разбились на кучки, разбредясь по разным углам столовой и соседних покоев, даже на террасе, Екатерина, весело шутившая и болтавшая во время обеда, подошла к своему смелому секретарю с чашкой кофе в руках.
– Вы здесь… Я должна вам сказать… Вы принуждаете меня заметить… – Она заговорила негромко, но голос звучал сильно, дрожал и прерывался от гнева, лицо снова покраснело, чашка ходуном заходила в руках. – Ваше превосходительство, вы слишком дерзки, что осмеливаетесь давать советы, каковых у вас не просят… Понимаете!
Чашка едва не упала на пол. Екатерина быстрым движением поставила ее на соседний стол и, кинув растерянному, уничтоженному человеку коротко и властно: «Можете идти к себе», отошла от него быстрыми шагами, не давая даже окружающим возможности уяснить себе, что произошло сейчас между преданным, старым слугой и императрицей.
Граф Сегюр, очень довольный своей удачей, разговаривал, присев за отдельным столом, с Александром Андреевичем Безбородко, с графом Завадовским и князем Воронцовым. Он знал, что эти три человека составляли ядро «сосиетета», как выражались при дворе, – особой партии, решившей подкопаться и окончательно свергнуть светлейшего князя Потемкина, как неудобного для них диктатора, преграждающего им и другим лицам пути во многих отношениях.
Тот же Потемкин, как узнал Сегюр, войдя в дружбу с представителем Англии, способствовал охлаждению Екатерины к версальскому двору и к самому посланнику, которого до тех пор царица удостаивала личной дружбой и вниманием.
Речь у собеседников шла о том, что отсутствующие всегда виноваты… Иными словами, намечался план, как лучше воспользоваться отъездом Потемкина в армию, посланную против турок, и в награду за победы, одержанные на полях битв, устроить ему домашнее поражение.
Сюда направилась от Храповицкого Екатерина.
– Не посетуйте, господа, если я похищаю у вас интересного собеседника. Но я тоже не прочь, что получше, тем попользоваться. Пройдемтесь, граф…
Улыбаясь и ласково кивая кое-кому из более близких, кто попадался на пути, обмениваясь незначительными фразами с восхищенным французом, медленно миновала Екатерина несколько покоев, и оба они очутились в длинной галерее, теперь, как и утром, озаренной волнами света. Сзади доносился шум голосов оставленной толпы придворных. Там бледный, с озабоченным видом фаворит граф Мамонов, как заходящее солнце, вел беседу с несколькими из более близких к нему людей. Здесь были австриец граф Кобенцель, обер-шталмейстер Лев Нарышкин, друг Пруссии, граф Андрей Петрович Шувалов, генерал Петр Александрович Соймонов, обер-прокурор Синода граф Мусин-Пушкин; они составляли одну из самых видных групп и в то же время словно старались не дать заметить чужой публике, что государыня далеко не с прежним вниманием и заботой относится к своему признанному избраннику графу Димитриеву-Мамонову.
Молодежь разбилась маленькими группами. Некоторые вышли на террасу слушать русских песенников, которые вошли в моду с начала Турецкой войны. Звуки залихватских песен, сменяемых заунывными старинными напевами, долетали и в галерею, где гуляла Екатерина с Сегюром, любуясь через раскрытые окна видом парка, оживленного посторонней разряженной публикой, обычной здесь по воскресным дням.
– Кто бы мог подумать, что мы в стране, которая ведет войну с двумя соседями, очень воинственными, получающими всякую поддержку от сильнейших европейских дворов, – сказал Сегюр, уловив довольный взор собеседницы, которым она окидывала парк и гуляющих в нем людей.
– Да, вы правы. Еще надо добавить, что одна неприятельская армия маневрирует в сорока верстах от столицы, что ее флот можно видеть с башен моих приморских дворцов, что… Впрочем, постойте. Я увлекла вас не для того, чтобы выслушивать ваши изящные похвалы и самой гордиться величием моей страны. Примите раньше благодарность от русской государыни за доверие, оказанное Екатерине Второй. Вы говорили с принцем? Он передал вам?
– Передал. Но не сказал ни слова, как я ни старался…
– Узнаю моего рыцаря без страха и упрека. Это он мне дал слово и потому вам ни слова! Ха-ха-ха… Я хотела сама иметь удовольствие поблагодарить вас и подтвердить, что мое расположение останется к вам неизменным… вопреки многим… и, надо сознаться, сильным искушениям, которым я подвергалась и подвергаюсь со всех сторон… Чтобы доказать это на деле, перехожу к делам, и весьма немаловажным, имейте в виду, мой милый шевалье… Прежде всего о том, что нам, мне особенно, ближе всего. О себе и о России.
– Я весь внимание, государыня…
– Как бы это вам сказать? По виду, с наружной стороны, они, англичанин и пруссак, в своих донесениях оба правы… Но они дураки. Война нам тяжела, войск не хватает. Начальники бездарны или вороваты. А то и никаких нет, хоть сама надевай генеральские штаны. Провиант подвозить трудно, да порой и нечего. Денег мало… Оброки тяжелы, народ стонет, ропщет порой. И не без серьезного основания. Теперь плохо. Грозит быть еще горше. Особливо если пруссаки выполнят угрозу, вцепятся с запада, впустят нам зубы в самое горло, как делает то швед на загривке, как турок хватает за далекий зад. О пасквилях и враках, кои против меня распускаются, даже и при версальском дворе, – о том не стану говорить. Ни помочь, ни помешать делу это не может. Царства это мало касается… Отвечать в том я буду истории, а не моим союзникам и врагам. Вот, значит, о делах… На первую Турецкую войну ушло у нас почти полсотни миллионов рублей. Теперь надо столько же, если не больше. Без денег нет войны. Без войны нет силы! А мы сильны, что бы там ни говорили. И будем еще сильнее. Да хотя бы вот почему…
– Доказательств не надо, государыня. Я их слышу. Я их вижу перед собой. Самое главное, по крайней мере…
– Я говорю сейчас серьезно, Сегюр. Они не знают моей земли, не знают моего народа… его веры в свои силы, веры в меня, в каждого, кто займет мое место, кто будет по доброй совести исполнять свою обязанность, честно станет править свое ремесло. И великому народу в обширном краю не страшны никакие жертвы. Мы решили брать по пять рекрутов с тысячи. И рекруты есть. Мы можем их взять и десять с тысячи. Они явятся под знамена. Что бы сказали у вас на такую вербовку?
– Долой правительство и к черту короля!
– Вот то-то и есть… Нет денег – я выпускаю ассигнации и получаю за них все, что мне надо. Если захочу просто писать свое имя на кусочках кожи, на холсте – и за них мне принесут всего… Никакие жертвы не страшны, не тяжелы моему народу, пока он верит, что это для его блага, для блага земли. А они, эти честные, наивные дети мои, они верят этому…
– И не обманутся, государыня.
– Бог ведает, дающий успех и посылающий горе государям, народам и каждому нищему на земле. Я не ханжа… Но есть нечто, во что я глубоко верю. Вот вам первая моя сила. Вторая – то…
– …что вы сознаете ее и этим заражаете и окружающих, и целый мир, государыня.
– Пожалуй, и так, Сегюр. Это умно… очень умно. Такую заразу я рада всегда распространять. А вот та, которую несет бурей от вашей стороны, от Парижа особливо… такая мне очень не по душе… В ней кроется опасность и для моего трона. Как в Святой книге: народ мой счастлив, пока не познал добра и зла… Придет пора, он сможет все знать, на все дерзать. Но пока далеко к тому не время. Я много думала о том, что творится у вас, Сегюр, на родине. Там очень плохо, Сегюр. Это мне особенно неприятно и за вашу королеву, и за короля, и за меня самое. Теперь-то помощь Франции была бы мне нужна… Скажите, как думаете, поможет ли мне ваш двор войсками и другим, если этот мальчишка, король прусский, как обещал Швеции и полякам, объявит нам войну?
– Я об этом не вел переговоров с моим повелителем, ни с министрами, но, как частный человек, думаю…
– Не продолжайте. Я не хотела поставить вас в затруднительное положение. Сама вижу, что вашему двору теперь не до военных авантюр. Третье сословие требует слишком много. Предстоит целая буря. У руля там стоят люди не слишком решительные и смелые. Бесконечные, даже могу сказать. Ничего не приготовлено… Нет ярких решений. Знаете, порою мне сдается, ваш трон похож на тяжкую колесницу с надломленной осью, уносимую конями, которые закусили удила…
– Образное сравнение, ваше величество, но более подходящее к сарматским и скифским нравам, чем к нашему веселому народу, к галлам, государыня.
– Не обижайтесь, Сегюр. Я вам верю, люблю вас, потому, может быть, не очень выбираю образы и слова… Но как назвать иначе, если в короткое время у вас двадцать раз меняли министров и всю систему управления… У вас, где жизнь давно идет твердой колеей.
– В чужих делах так трудно разбираться, государыня… Вы только что прекрасно доказывали это, разбирая нападки на Россию.
– Да я и не нападаю на Францию. Это чудесная страна. Ее постигло несчастье. Безумие, зараза, как вы недавно сказали сами… А средство для лечения такое простое. Я успевала с ним даже тут, в моей еще полупросвещенной, полудикой стране. Среди стольких бурь, бушевавших вокруг меня… После стольких гроз, которых отголоски еще встретили мое воцарение в стране. Я чужой явилась. Не правнучка Мономахов и святых князей, как ваш король, потомок древнейшей родной династии.
– Но тогда я спрошу… Конечно, не в подробностях. Это я видел… Чем успели вы, государыня, добиться таких волшебных результатов?
– Чем? Чем, хотите знать… – помолчав, подумав, переспросила Екатерина. – Да в двух словах могу вам передать… Пока я была великой княгиней, видела, что творится вокруг, я поняла самое главное: как не надо управлять. О, нет сомнения: две недели власти, как ею пользовалась дочь Великого Петра… как она царила десятки лет. И меня бы постигла участь моего покойного повелителя и супруга. Как постигла она его… за тот же грех… А если подумать о годах императрицы Анны? Ужас! Вспомнить страшно. Она… нет, вернее, министр ее… этот зверь Бирон казнил и сослал ни за что больше семидесяти тысяч людей. Могу поклясться: по доброй воле не делала и не сделаю этого в России. Вот, значит, первое, что приняла я за правило… Там остается немного. Как жить, как вести свое маленькое хозяйство…
– В шестнадцать тысяч квадратных верст, государыня.
– Да, да. Я как-то уж говорила вам… То, что передумано мною за долгие годы, пока я была почти узницей, в качестве великой княгини, дало мне материала и работы на добрых десять – пятнадцать лет после воцарения. А там явился навык, дальше колесница идет своей тяжестью, спускаясь с уклона по горе. Моя же дорога такова: наметила я себе план управления и поведения в делах, от которого не уклоняюсь никогда. Воля моя, раз высказанная, остается неизменной. И лишь стараюсь высказать ее возможно менее поспешно. У нас здесь все постоянно. Каждый день походит на те, что предшествовали ему. Меняются с годами и обстоятельствами люди, но не дела, не ход политики. А как все знают, на что могут рассчитывать, то никто и не беспокоится. Даю я кому-либо место, он может увериться, что сохранит его за собой, если только не совершит преступления. Это дает всему твердость.
– Но, государыня… если вы убеждаетесь… что ошиблись, что сановники или избранный вами министр совершенно не пригоден? Как же тогда?
– Пустое… Я бы оставила его на месте. Сама работала с каким-либо из способных его помощников. А тот лично – министр – сохранил бы и пост свой, и положение. Сохранил бы и меня от нареканий, что я плохо выбираю слуг для России, для трона, для земли.
– Это очень мудрено, конечно… Но осуществимо лишь в вашей благословенной стране, государыня…
– У полудиких скифов и сарматов?.. Ничего. Я не обидчива. Вот почти весь мой секрет. Остаются пустяки. Я наказываю даже сильно виновных, но сильных лиц только тогда, когда начнут меня понуждать к этому со всех сторон… причем помогаю этим понуждениям, под рукою… Отказывать в излишних просьбах я поставила несколько людей, на которых и падают нарекания за отказы. Милости раздаю сама. Хвалю громко, при всех. Браню наедине, втихомолку, но сильно… Затем… да, вот, должно быть, и всё…
– Исключая ума, отваги и постоянного счастья, о которых почему-то не помянули вы, государыня.
– Когда я умру, пусть люди и Бог помянут меня с ними вместе, граф… А затем вернемся к нашему стаду. Не могу я забыть прусского короля-забияки. Что думает о себе этот молокосос? Я научу его поаккуратней, получше заниматься своим ремеслом – пусть даже не встречу помощи ни от Версаля, ниоткуда в мире… А все-таки прямо сознаюсь: сейчас мы очень слабы. И попробуйте написать Монморену все, что касается Фридриха с его Пруссией… Видите, Сегюр, за доверие я отплатила, как умела, тем же.
– Я тронут, верьте, государыня. Больше: я изумлен. Столько лет я имею счастье видеть, знать вас…
– И не узнали сполна? Это участь всех людей. Поди, и Екатерина Сегюра знает не больше, чем он ее. Время все кажет в настоящем виде и цвете… А чтобы уж дойти теперь до конца… Мы долго толковали. Поди, теперь только и говору там, во всем дворце, что о беседе, которую так горячо и пространно мы ведем. Ничего. Пусть после обеда поломают голову. Это полезно и для желудка… Скажите… – Екатерина вдруг поглядела прямо в глаза дипломату, словно желая отрезать возможность дать неверный ответ: – Скажите прямо: что вынудило вас провести два дня в Гатчине у моего сына, у великого князя Павла? Что могли вы с ним найти общего? О чем толк шел? Все эти годы, что вы здесь, я не слыхала о дружбе, какая была бы между вами. Что же так, вдруг? Только правду… или вовсе ничего. Я настаивать не стану.
– А мне нечего скрывать, государыня. Недалек и день моего возвращения на родину.
– Ваш отпуск? Да… Надеюсь, так и будет: отпуск, а не окончательный отъезд.
– Я так же надеюсь на это, государыня. По всем требованиям этикета и добрых приличий я поехал откланяться великому князю, наследнику трона ваше…
– Наследнику тро… Продолжайте, виновата. Я слушаю.
– Но тут случилось маленькое приключение: сломалась моя коляска. Пока ее чинили, и прошло больше суток. Это время я и провел в обществе великой княгини. Но больше князя…
– Вот что… Так это всё именно так?
– Именно так, государыня, как вам, должно быть, и доносили. А речь у нас шла…
– Не надо… Я не хочу выпытывать вас, Сегюр.
– Нет, позвольте, государыня… Священное имя друга, которым вы удостоили меня, трогательное доверие – все это обязывает меня именно лично вам передать речи мои и великого князя Павла… В них много важного, что вам хорошо узнать.
– Ну, тогда…
– Я буду краток, государыня. И точен по возможности. Началось с очень печальных картин. Были высказаны предположения, которые ужаснули и огорчили меня.
– За меня, Сегюр?
– За вас обоих, государыня. Вы – мать, он – сын. Я не сентиментален. И в вашем величестве не замечал излишней вредной мягкости. Но чтобы сын опасался так матери… Чтобы положение его казалось таким тяжелым, даже критическим. Я старался влиять на разум. Уверял, что вы, государыня, нисколько не опасаетесь своего сына. Позволяете составлять свой двор по собственному усмотрению. Рядом с Царским он держит в своем распоряжении два боевых батальона, сам учит, вооружает, одевает их… дает им офицеров…
– Да, да… Я не боюсь. Я верю.
– Значит, и он может и должен верить своей государыне и матери – так я и сказал… Вы, не опасаясь за себя, держите лишь одну роту гвардии на карауле… я сказал… Ну а если князь не приглашен в ближний совет… если он не принимает близкого участия в делах, не знает всех тайн правления… Трудно, по-моему, говорю я, и ожидать иного, когда князь открыто осуждает политику, управление, личную жизнь и связи государыни-матери. Я так сказал, простите…
– Прекрасно, Сегюр. А он?
– Князь говорит: «Мало же вы за все время узнали нашу страну…» Я плохо и понял: к чему это? Сейчас же последовал вопрос: «Почему на Западе монархи занимают трон один за другим, наследуя без всяких смятений, а в России иначе?» Пришлось указать на простую вещь: порядок наследования у нас твердо определен: трон получают у нас только сыновья и старшие в роде. Не иначе. В этом главная разница между древними, произвольного характера, монархиями и новыми, где введен строгий правовой порядок. В этом залог развития народа. Там же, где государь по своей воле может избрать наследника, все неустойчиво, сомнительно. Тут полный простор честолюбию, козням, заговорам.
– Вы так сказали, Сегюр?
– Я говорил правду, государыня. Князь мне ответил: «Что делать? Здесь к этому привыкли. Обычай – тиран. Изменить можно лишь с опасностью для самого лица, которое за это возьмется». Кроме того… я передаю чужую речь, государыня: «Русские любят лучше иметь на престоле юбку, чем мундир…» Тут уж я возражать не стал. Вот приблизительно о чем и шли речи у нас все время…
– Благодарю, Сегюр. Так вы уезжаете скоро? Жалею. Говорю от души. Передайте вашему королю, что я желаю ему счастья. Желаю, чтобы доброта его была вознаграждена, чтобы исполнились все его намерения, прекратилось зло, приносящее ему столько печали. Чтобы Франция возвратила себе всю прежнюю силу и величие. Надеюсь, это будет в пользу мою, в пользу России… и не на добро нашим всем врагам! Знаете, мне грустно расставаться с вами именно теперь, Сегюр. Лучше бы остались вы здесь, со мною, чем подвергаться там опасностям, которые примут, может быть, размеры, каких вы и не ожидаете!
Говоря это, Екатерина глядела вдаль, словно там ясно видела грядущую судьбу потрясенной Франции.
– Франция в опасности, вы говорите, государыня? Я французский дворянин…
– Молчите. Мне представляется нечто иное. Мне думается, перед вами особые пути, граф. Ваше расположение к новой философии, наклонность к свободе… все это заставит вас держать сторону народа в его споре с дворянством Франции. Мне это будет досадно. Я была и останусь всегда аристократкой. Это мой долг, мое ремесло. Никогда бы я не отреклась от своих вековых прав, как это сделало на днях феодальное французское дворянство… Подумайте: вы найдете вашу страну, охваченною опасною горячкой.
– Я сам опасаюсь, государыня. Поэтому и обязан скорее вернуться туда…
– Вижу, вас не удержать. Постараемся хотя задержать подольше. Но вот идут мои внуки. Узнаем, чего они хотят от бабушки… Слушайте, пока мы спорили, я все думала о речах моего сына. Он тоже непреклонен, неисправим. И многое готов изломать, если бы ему дать волю. Многое повернул бы назад, если бы. Ручаюсь и я: этого не будет… ни при мне, ни при великом князе Александре… при внуке моем…
– Как, государыня, разве вы задумали… Решили?..
– Потом. Это я так… не то, что хотела… Сюда, дети! – по-русски, громко заговорила она. – Мы кончили разговор. Что хотите? Я слушаю вас…
И с ласковой, доброй улыбкой двинулась навстречу обоим внукам, которые, появившись вдали, выжидали минуту, когда можно будет подойти к своей державной нежной бабушке…
* * *
Блестящим фейерверком закончился веселый воскресный день в полуосажденной, угрожаемой от врагов столице. Никто не знал, что готовит новое утро на полях битв. Чего можно ждать здесь, под кровом обширного Царскосельского дворца?
А здесь утро понедельника началось очень бурно.
Очередной докладчик – генерал-майор, статс-секретарь Попов еще сидел перед государыней и своим вялым голосом излагал военные дела, в приемной ждали еще два-три человека, когда Захар появился из маленькой двери, ведущей на половину, отведенную постоянно для фаворита, теперь занятую графом Димитриевым-Мамоновым.
Государыня даже не выждала, пока старый слуга подойдет и шепнет, в чем дело.
Пожав чуть заметно плечами, она кивнула Попову, и этот толстоватый, нескладный, широконосый человек пятидесяти пяти лет вскочил и удалился из покоя так быстро и легко, как будто его несло ветром.
– Граф там? Проси! – сказала тогда она Зотову.
Быстрыми, нервными шагами вошел фаворит. Дверь как бы сама собою плотно заперлась за ним.
– С добрым утром, мой друг. Хорошо ли почивал? Как чувствуешь себя? Судя по лицу, нездоровье вчерашнее не отошло. Я велю позвать к тебе Роджерсона, не правда ли? Он всегда удачно помогает тебе… Ну, садись, говори, с чем пришел.
Мамонов послушно сел, но не мог, очевидно, сразу заговорить. Невысокий, стройный, с легкой наклонностью к полноте, фаворит был очень красив лицом. Томные, продолговатые, лучистые глаза то загорались, то потухали под густыми ресницами, красиво обрамленные тонкими бровями редкой правильности. Невысокий, но хорошо развитой полукруглый, открытый лоб гармонировал с общим правильным, мягким овалом лица. Черты, немного мелкие для мужчины, поражали законченностью, тонкостью, влекли каким-то особым своим обаянием. Матово-бледное, чистое лицо оживлялось нежным, легким румянцем щек. Нервно очерченные ноздри римского носа, безукоризненная излучина красных, пухлых слегка, женски-капризных губ, розовые, небольшие уши, выглядывающие из-под пудреных буклей модной прически, – все это останавливало взоры. И во всем лице был какой-то свой характер, что-то легкое, неуловимо женственное, что могло и должно было очень нравиться именно такой твердой, мужественной женщине, как Екатерина Великая, даже и голосом мало походившей на женщину, хотя была она ею во всех отношениях, с ног до головы.
Красивы, и тоже не по-мужски, были руки у графа. Выхоленные, снежной белизны, с розоватыми, отточенными в виде миндалин ногтями, они, казалось, ждали поцелуя… и часто осыпала их этой лаской подруга фаворита в нежные минуты любви и страсти.
Весь фаворит в любимом красном бархатном кафтане, перехваченном генеральским темляком и орденской широкой лентой, в пудреных волосах, в белых атласных коротких штанах с пряжками, с орденами, украшенными крупными бриллиантами, висящими на шнуре из низанных больших жемчужин, – в этом виде он походил на оживленную фигурку из севрского фарфора, на красивую, стройную женщину, а не на мужчину двадцати восьми – тридцати лет, каким он был.
Даже в эту минуту, имея полное основание ожидать, что не с добром пришел к ней этот писаный красавчик, залюбовалась невольно на него Екатерина и, расхаживая по комнате, почти не сводила глаз с этого лица, прекрасного по-прежнему, но словно измятого, обрюзглого слегка. Такое лицо бывает именно у женщин, если они проводят ночь в любви, не щадя сил, или долго рыдают от настоящей, мнимой ли измены своих друзей.
У графа глаза на самом деле были красны и заплаканы.
Но он, видимо, стыдился своей слабости и решил крепиться, выказать приличные своему полу, положению и летам мужество и решимость.
Это было так же трудно осуществить на деле, как казалось легко там, у себя, в роскошно убранных покоях, не имея перед глазами мощной фигуры Екатерины, не встречая пытливого и в то же время строгого, чуть ли не угрожающего взгляда знакомых голубых, теперь потемневших, сверкающих глаз.
– Что же ты, Саша? Или в молчанку пришел играть? Так мог иное время выбрать для забавы. Видел, человека спугнул. С делами он сидел. И другие там, поди, ждали еще. Я полагала, и у тебя что важное, когда вдруг доложился… Будь что по-домашнему, чаю, и погодил бы чуть. Приему и так скоро конец… Что не потерпелось, сказывай… Я жду. Постараюсь сделать, если что… Ну, понимаешь? – Не находя подходящих выражений и слов, Екатерина развела быстро руками и снова сжала ладони вместе, стала тереть одну о другую, как всегда делала в минуту волнения. – Смелее же, ну… Робеешь, што ли, мой друг? Смешно, Саша… Ну…
Напоминание о робости подействовало прекрасно.
Как большинство несмелых, нерешительных душ, фаворит не терпел, чтобы подозревали в нем такую слабость – говорили о ней даже самые близкие люди… Пришпоренный до боли, граф поднялся с кресла, в котором уселся было, как ракушка в своей створке.
– Что за пустяки! Чего бы это мне опасаться, робеть? Я весьма чувствую свою правоту. Знаю справедливость моей государыни, ее открытый характер, великодушный, острый ум…
– Та-та-та! Что-то большое понадобилось. Столько прибрал всего! Ну, все едино: разом выкладывай.
– Да я нынче хотел… Видишь ли, матушка моя… Мне думалось, государыня, про вчерашнее… Жаль, не сумел я хорошо изъяснить… огорчил против воли…
– За четыре часа сказать не поспел? Дивно. Либо хочешь сказать, что самому видно, как мало прав был? Извиниться желаешь? В добрый час, я готова… Да нет, о правоте своей в первую голову мне доложил. Хотя я и не ждала нынче того, тебя увидев. Нам толковать подолгу, один на один, – тогда польза и смысл, если связать хочешь снова веревочку, которая в узле разошлась… А ежели ты про свое все – чего же тут старое переживать? Вижу, какая перемена в тебе. Молчала до сих пор. Тебя жалела. Думала, что и мне невместно за тобой, словно за мальчишкой шалым, следить, приглядывать, ревностями утруждаться, расстраиваться. А коли на то пошло, и я могу слова два сказать. Тепло ли тебе от них станет, не знаю. Да и той побегушке… девчонке лихой, которая посмела у меня моего друга отбивать, ссорить тебя со мною… вертеть тебя вокруг пальчика. Я уж так смогу ею повернуть… да и другими заодно…
Внятно, раздельно, медленно выговорила Екатерина последние слова, не особенно повышая голос. Но он стал таким грозным, потрясающим, что граф побледнел до легкой синевы, прикрыл глаза и совсем ушел, прижался к спинке своего кресла.
– Да я… Да кто же… Да никогда, государыня… Да разве… – залепетал наконец он, кое-как преодолев свою внезапную унизительную слабость.
Екатерина вдруг махнула рукой и негромко расхохоталась, уловив страх фаворита. Ей стало и жалко его, и смешно.
– Ха-ха-ха! О господи! Вот не чаяла, что так пугать тебя могу. Вздор! Успокойся! И слушай, что теперь без гнева, по чести по моей скажу… Ты знаешь, как я дорожу словом чести. Так слушай. Правда, прибыль мне не велика, если бросает свое место, уходит от меня человек, которого любила я все время… которого, как мать, берегла и холила… но… и убыток не велик. Люди разберут, чья больше вина. И Бог рассудит. Только неправды я не выношу. Что ты такое плел позавчера? Нынче, сдается, посмирнее стал. Сошло с тебя? Снова повторишь ли? Я в чем перед тобою виновата ли?
– Конечно, нет, государыня… Я и в субботу никого не винил, говорил, что не заслужил охлаждения. Но если оно явилось, тоже никто не виноват. Сердцу только Бог указать может, матушка! Больше никто…
– Так, так… Мудрец какой стал ты у меня, Саша… Далее.
– Я только и сказал: судьба. Силы мои слабы. Хвораю все…
– А я хожу за тобою, да так, как не каждая мать за дитятей за любимым…
– Видит Бог, государыня, помню, помню, ценю это… Вот слезы мои на глазах тому порукою. Стыдно, а не прячу их, матушка. Смотри и верь…
– Смотрю, верю… Дальше… – мягче и тише отозвалась Екатерина, забывшая обо всем в мире в эту минуту и стоящая, как женщина, у которой бесповоротно собрались отнять нечто близкое, дорогое: последний призрак радости, последнюю крупицу чувства, еще не развеянного среди долгих лет бурной, полной событиями, приключениями и романами жизни.
– А далее старое пойдет… Первое, думается, негоден я тебе. Вместо радости и отдыха – заботы и скука со мною… с больным, с слабым… с печальным… Не рад и сам, а не вижу в себе веселья былого. Улетело оно, златокрылое. Не поймаю. Не вини…
– В том не виню. Далее…
– Другое: тошно мне и на людей глядеть… Что говорят, что думают обо мне! Моложе был, как-то не думалось. А теперь, что дальше… Не сердись, матушка. Я о себе, не о тебе. Ты выше всех. Тебе нет суда людского, кроме Божьего. А я и о том думаю: придет минута, надоем, как с другими было. Уйти прикажешь. Куда я глаза покажу? И перед самим собою… Прости… все скажу…
– Все, все. Иначе как же?..
– Война теперь. Народ последнее несет. А я в роскоши купаюсь по твоей милости… Завистники шипят: «Фаворит куски рвет!»
– Ложь. Ты никогда не просишь… Я сама…
– Мы это знаем, государыня, больше никто… А покор остается… Вот посмотри, какие итоги разгуливают и по нашему городу, и по европейским дворам… Я не хотел. Но надо же мне оправдать себя, что не пустая, шалая дума толкает меня… от моего счастья уйти велит… Многое… тяжелое… И вот это заодно…
Граф подал Екатерине листок, сложенный пополам, исписанный внутри, как запись в приходо-расходной книге. Быстро двинувшись к письменному столу, Екатерина взяла со стола прежде всего золотую табакерку, одну из тех, какие стояли по всем комнатам, где проводила время государыня, раскрыла, втянула ароматный табак, с сердцем захлопнула крышку, отыскала очки, надела, взяла в руки большое увеличительное стекло в золотой оправе, развернула листок и стала читать… Гнев снова овладел ею с первых же строк, какие она пробежала глазами. Но, стиснув свои белые, крепкие зубы, которые были все еще целы, кроме одного в верхнем ряду, Екатерина, слегка шевеля губами, будто читая про себя, просмотрела весь листок.
Вот что на нем было:
Ведомость приходу и расходу по «маленькому хозяйству» Екатерины Великого, как ее бескорыстные хвалители, свои и иноземные, именуют.
Со дня «Ропшинского действа», роптания достойного, и до наших дней, кроме предбудущего, как Господь нам еще да поможет.
ПРИХОДУ
(Согласовано с письмом, кое к господину барону Гримму в Париж послано.)
Губерний, по новому положению учрежденных….. 29
Городов вновь выстроено – 144
Заключенных договоров и трактатов – 30
Одержанных побед – 78
Достопамятных указов о законах либо новых учреждениях – 88
Указов для народной участи облегчения – 113
РАСХОДУ
(С тем, что и малым детям ведомо у нас, согласовано.)
Братьям пятерым Орловым – 17 000 000 р.
г. Высоцкому – 300 000
г. Васильчикову – 1 100 000
г. Потемкину – 5 000 000
г. Завадовскому – 1 380 000
г. Зоричу – 420 000
г. Корсаку – 920 000
г. Ланскому – 7 200 000
г. Ермолову – 550 000
г. Мамонову – 690 000
гг. Страхову, Левашову, Стоянову, Казаринову и прочим с ними – 1 500 000
На всякие плезирные расходы – 7 000 000
На войны, земель не давшие – 150 000 000
Людьми утрач. всего до 500 000 чел.
А балансом счеты уравнять – сие всяк сам легко сможет.
Счетоводитель Нелицеприятный
– Пашквиль гнусная… Я знаю, чьих рук дело. Она, «дружок мой», помощница всего и во всем главная, муравей на возу. Душенька княгинюшка, красуля. Академии директор и всем сплетням заводчица. Ну, попадется она мне. Тяжебница! Ей бы только чужих свиней хватать и резать, а не… Подожди, Екатерина Романовна, тезка моя милая… Мы ужо…
– Нет, быть не может, чтобы она…
– Кому иному? Другой бы не посмел. Тут ложь и правда совсем по-особому, по-женски смешаны… Но… о ней ли будем спорить? Дашкову я давно на примете держу. Случая нет. А подойдет – за все отвечать заставлю. Чтобы не сказала, будто я из-за обиды мелкой караю и гоню. Крикунья, горло широкое. Надо с ней иначе… Но все же прошу мне сказать: что тебя тут трогать может? Дай Бог, чтобы о тебе так же много и хорошо говорили, как о светлейшем. А и его здесь поместили. Не место красит человека, человек – место; уж если на то пойти, что неловко, стыдно тебе любить меня. Меня! Вот ежели бы ты не любя, лукаво, продажно подходил – тогда иное дело. Я бы первая почуяла. Ежели бы ты видел, что не люблю я тебя, а только себя, старуху, тешу, слабости потакаю. Видишь, кажись, иное. А это самое вот колебание в тебе еще ближе, еще дороже тебя делает, когда обозначилось, что, кроме красоты телесной и сердечной нежности, душу в себе гордую носишь. Так в чем же помеха? Я, правда, женщиной родилась. Иные нам пути и законы написаны и природой, и небом, чем вам, чем мужскому полу. Вы все смеете. Все себе разрешили. И думать не хотите о нас. Может, женщина ни в чем, кроме пола, от вашей мужской души отличия не имеет. Мне судьба иное сулила, чем всем женам земным… Тридцать лет, почитай, я правлю страной, сильным народом… И меня самое великим мужем в женском образе зовут, верю, не за то лишь, что я платить могу, обласкать людей умею. Без огня дыму нет. Да еще такого жаркого дыму, как про твою «матушку», как зовешь меня, по свету идет! Чего же стыдиться тебе? Я не стыжусь, что, может, на сотни две лет путь новый указала женам на земле.
– Путь новый?
– Да, да. Не про троны я говорю. И до меня были государыни… и будут. Я говорю о сердце. Про него скажу. Волю дала я на высоте своему сердцу и показала, что ни вреда, ни стыда нет от этого умной жене… Такой, которая свято держит свое чувство каждый раз, когда загорается оно. А что чувство не единожды в жизни, не двоежды, не троежды загораться у нас, у жен, может, про то весь мир ведает. Укрывать же зачем, лукавить, лицемерствовать? Нет! Кто смеет – пускай смеет… И слабых надо учить смелее быть. Не только государыней народа – водительницей жен русских во всей правде их душевной быть хочу. Ужели этого не поймешь? Все на своем стоять будешь? Молчишь? Говори же.
– Оно-то и так, – грустно качая головой, ответил граф. – Да мне задача та не по плечу. Простой я, не такой, как ты, матушка… Понял это… и вот… – Он не досказал.
– Ха-ха… Вижу, правда… слабый ты духом, Саша. Жаль! Думалось, так и проведем мы последние дни. Немного мне осталось… Устала я – вверилась тебе. Светлейший тебя любит, с его помощью, гляди, и ты бы след оставил для родины… Ничего тебя не влечет… Или уж, видно, что-нибудь так завлекло, что и глядишь – не видишь, слушаешь и не слышишь… Знать, Бог того хочет. Французы толкуют: «Ce que femme veut, Dieu le veut!»[11] У нас же, видно, наоборот быть должно. Добро. Правда, постарела я… Бывало, раней, чего пожелаю – свершается. А желала так сильно, что, кажется, камень загореться мог от моей воли… Стара…
– Матушка, родная моя! Что же мне делать? Научи! Посоветуй сама!
– Нет… Не говори ничего. Давно ты советов моих не слушаешь! Бог с тобой! Ступай, если правду мне чистую сказал… Я ведь узнаю. Ну, будь по-твоему! Помни: правда мне всего ближе… всего дороже! Самой приходилось сгибаться много… Таила то, чего сказать не могла. Но уж если я что сказала, так и жизнь на этой правде отдать могла. Слово мое было правда… Молчаньем лгала только порой. И то врагам, ради земли, ради царства… Друзьям – никогда! Я – жена, не муж, как ты. И думается, не станешь лгать ты мне словами. Если говоришь, так нет иного в мыслях. Так? Верно, Саша? – Пытливый взор ее обжег лицо фаворита, снова принявшее помертвелый вид. – О, да ты и впрямь болен! Я и не вижу. Отдыху тебе не даю. Ступай. Может, и склеим все… Я подумаю. Жаль мне себя… Но и тебя жалею. Я подумаю. С Богом, иди. Мне тоже передохнуть надо. Окно открой… Так, благодарствуй… Иди! Я подумаю…
Медленно вышел из спальни Мамонов.
Екатерина подошла к окну и, прислонясь к раме, стоя стала глубоко вдыхать ароматный воздух, пропитанный дыханием соседних цветников. От этого аромата еще сильнее прилила кровь к вискам и щекам Екатерины, еще быстрее замелькали мысли в разгоряченной голове.
Какие-то забытые видения проносились перед ее внутренним взором, в то время когда глаза глядели на высокое, голубое небо, на буйную зелень парка, подбегающего к стенам ее покоев, и не видели ничего…
Лицо пожилой женщины как-то странно помолодело и одухотворилось, словно озаренное светлыми воспоминаниями юности, овладевшими ею, просветленное наплывом великодушных решений и чувств, начинающих шевелиться на дне усталой, обычно холодной, недоверчивой души.
«Ну а если и лжет? Не для обиды мне… Жалеет, огорчить не хочет… За себя опасается… и за эту… за душеньку свою, если правда… Сама же я говорила в сей час ему: сердцу не закажешь… Так и он… Мало ли я любила смолоду… Вот и здесь, под этими деревами… чего не было… В этом покое…»
Екатерина оглянулась. Залитая полуденными лучами, спальня ее имела особенно нарядный, ликующий вид. Вся комната была окружена стройными серебряными колонками, сверху покрытыми эмалью лилового цвета; все это отражалось в зеркалах, украшающих стены, а сверху замыкалось прелестно расписанным потолком. Вдруг словно ожила эта комната, наполнилась тенями, призраками. Не пугающими, белыми, в одеждах смерти, а веселыми, радостными, сверкающими любовью и страстью…
Красавцы-великаны Григорий и Алексей Орловы… Ловкий Зорич. Пылкий, сверкающий и быстро тухнущий Васильчиков… Увлекательный, пышущий здоровьем и негой Корсаков. «Пирр, царь эпирский», как называла она его. Философ в теле Гектора Ермолов, переживший то, чем, по словам Мамонова, страдает сейчас последний фаворит. Сознание стыда из-за положения мужчины, попавшего на содержание к своей повелительнице.
Вот умный, извилистый и сухой, внешне пламенный, ледяной внутри Завадовский. Выпущенный из будуара, он сумел войти в здание Сената, стать полезным министром, если не оказался пригоден как фаворит. Вот нежный, капризный, причудливый, но такой ласковый, обаятельный красавец-дитя Ланской. Кто знает, что толкало его, но он отдал ей с любовью и жизнь свою. Конечно, если бы она знала, что недостаток собственных сил этот хрупкий мужчина пополняет опасными приемами сильных возбуждающих средств, она бы поберегла его… Не только ласки мужчины – и он сам по себе был ей так дорог, так мил.
Очевидно, и он почему-либо дорожил Екатериной, хотя она была вдвое старше его. Иначе он не решился бы пойти на последнее, чтобы до конца казаться неутомимым и пылким в любви.
Наконец, заслоняя всех, зареял крупный, величавый образ человека с одним настоящим, но сверкающим, как бриллиант, глазом… С причудами балованного принца, с умом вождя, с характером смешанным, порою непреклонным до ужаса, порою изменчивым, как у женщины, охваченной жаждой любви.
Все они встали перед Екатериной… Всех помнит она. И, как это ни странно, любит всех и сейчас, далеких, полузабытых, истлевших в могиле, или случайных, как Страхов, как гвардеец Хвостов, осчастливленный ее лаской тогда, давно… когда еще она отдавала свое сердце избраннику, подобно всем остальным женщинам, а не брала их к себе, в золоченую клетку, как делала со времени вступления на трон.
Вот они, далекие, милые, полузабытые друзья ее юных лет…
Очаровательный, вкрадчивый и смелый Салтыков, отец ее первого ребенка… Блестящий рыцарь Запада, царственный и чарующий Понятовский…
Вот все они тут, в ее памяти, в ее остывающем сердце, которое все тише и медленнее бьется с каждым месяцем, с каждым днем…
Все тут… И нет никого… Вихрями жизни отвеяло всех. Отлетает и последний… Тут он, за стеной… И нет уже его… Отвеян жизнью…
Так скорее надо всё покончить. Не дать позлословить, посмеяться на счет старой женщины, которая никак не хочет отпустить молодого любовника – своего подданного. Она отпустит. Так, как и не ожидает никто!
Быстро подошла Екатерина к столу, на который бросила счет, показанный ей Мамоновым. Взяв пасквильный листок, она перешла к другому столу, на котором было навалено немало папок, ящиков, образцов минералов, каких-то инструментов, чертежей и много другого, как и на остальных семи-восьми столах различной величины, какими были уставлены спальня и кабинет Екатерины. Раскрыв небольшую шкатулку, она собиралась бросить туда памфлет, как вдруг заметила сверху лежащий рисунок и взяла его брезгливо в руки, вглядываясь с презрительной гримасой в карикатуру, грубо отпечатанную на листке. «Пожалуй, еще хуже что-нибудь нагрязнят обо мне… Какая низость… Тоже, поди, отсюда, от “подруг” и “друзей”, дано внушение негодяям-издателям!»
На листке, действительно, был изображен гнусный рисунок за подписью: «Вот всё, что ты любишь!».
Такие пасквили часто печатались за границей по внушению политических врагов императрицы, затем провозились в Россию и в тысячах экземпляров ходили по рукам у иностранцев, проживающих в столице, и у представителей русской знати, особенно из числа лиц, окружающих Павла. Завистливые подруги Екатерины, вроде княгини Дашковой, особенно старались распространять эти листки.
Екатерина швырнула отвратительный листок в ящик и захлопнула крышку.
Сев за свой стол, она раскрыла табакерку, левой рукой поднесла ее к носу и почти не отрывала, вдыхая возбуждающий порошок, пока правая рука скользила по гладкому листку бумаги.
Записка писалась по-французски и гласила так:
Пусть совершается воля Судьбы. Я могу предложить вам блестящий исход, золотой мостик для почетного отступления. Что вы скажете о женитьбе на дочери графа Брюса? Ей, правда, только четырнадцатый год, но она совсем сформирована, я это знаю. Первейшая партия в империи: богата, родовита, хороша собой. Решайте немедленно. Жду ответа.
Держа перо в руке, она перечитала написанное и быстро добавила внизу по-русски:
Теперь убедиться можешь, я тебе не враг. Нынче же вызову графиню Брюсову, чтобы на дежурство приехала с дочкой. Отвечай.
Сняв очки, Екатерина сложила листок и позвонила. Появился Захар. Она протянула ему незапечатанный листок:
– Отдай графу. Принесешь ответ…
Молча взял записку этот скромный, осторожный и преданный человек, знающий самые сокровенные стороны личной жизни Екатерины, и поспешно вышел через маленькую дверь, ведущую на половину фаворита.
Екатерина сначала ходила в волнении по спальне, переходила в будуар, опять возвращалась назад. Ноги, за последнее время начинающие изменять государыне, вдруг подкосились, заныли, отяжелели, стали словно свинцом наливаться. Она вынуждена была опуститься на диванчик, протянулась на нем, закрыла руками лицо, глаза, стараясь ни о чем не думать, не замечать времени… Ждала. Время тянулось страшно медленно…
Около получаса прошло. Никого нет… Она готова была сама уже поспешить туда, узнать, не случилось ли чего.
Может быть, она не поняла, огорчила его своим предложением?.. Может быть, он и не думает уходить? В самом деле, против воли, но она могла возбудить в нем порыв ревности… А мужчины в таком состоянии еще глупее женщин…
Зачем было писать? Какая непростительная торопливость! Она уже не девочка. Знает людей, знает сердце мужское… Надо было переждать… Ну, подурит – и все по-старому могло пойти. А теперь! Как вернуть эту глупую записку?
Прямо пойти сказать, что все это пустяки, что она не пустит его, что любит и не думает заменить никем? Да, так и следует сделать…
Екатерина решительно двинулась к маленькой двери, когда та раскрылась и Захар появился на пороге серьезный, как будто опечаленный, с небольшим конвертом без адреса в руках.
Почти выхватила она этот холодный, загадочный сверток.
Что в нем? Мука или радость? Продолжение мирной, счастливой жизни или снова боль разрыва? Потом – новые встречи, новое сближение?
Конечно, она не останется одинокой после удаления этого фантазера, если он решил воспользоваться данным ему выходом. Она сейчас же заполнит вакансию, отдаст пустое место достойнейшему… Но надо же поглядеть, что там, в записке…
Захар, осторожный, предусмотрительный, сейчас же вышел, как только записка очутилась в руках Екатерины. Сорвав оболочку, при помощи лупы она стала читать. Очевидно, рука сильно дрожала у Мамонова. Буквы стояли вразброд, почерк был неузнаваем.
Дольше таиться нельзя. Должен признаться во всем. Судите и милуйте. На графине Брюсовой жениться не могу. Простите. Более году люблю без памяти княжну Щербатову. Вот будет полгода, как дал слово жениться… Надеюсь, поймете и выкажете милосердие и сострадание. Несчастный, но вам преданный до смерти
А.
Листок выпал из рук Екатерины. Частые, крупные слезы покатились из глаз. Грудь судорожно, высоко стала вздыматься и опускаться. Но рыдания были беззвучные, задавленные, глухие…
«Так вот оно как! Все чистая правда, значит… И что зимою мне светлейший говорил… намекал… И все доносы теперешние… Вот оно что… Правда… правда…»
Голова ее упала на руки, лежащие на столе, и долго сдавленные рыдания потрясали это сильное, крупное тело… Потом постепенно рыдания ослабели, стихли. Она встала, выпила воды, отерла лицо, нашла записку Мамонова и положила ее в ящик шифоньера, стоящего в углу. Затем позвонила.
– Анну Никитишну попроси… И капли мне мои подай… успокоительные… И льду для лица. Пожалуйста, Захар, поживее…
Зотов выслушал, поклонился:
– Слушаю. Позову… принесу… – Он скрылся.
Екатерина снова опустилась перед письменным столом, взяла перо, надела очки, начала писать; но только вывела первых два слова: «Господин граф…»
Сейчас же изорвала листок, взяла другой, написала: «Хотя бы теперь…»
И снова порвала. Так было испорчено четыре-пять листков. Наконец, испортив, сломав в пальцах гибкое гусиное перо, она бросила все в корзину под стол, облокотясь, закрыла лицо руками, и снова слезы хлынули из глаз, орошая щеки, скользя между белыми пальцами с розовыми ногтями…
Шум двери, шаги подходящей Нарышкиной заставили Екатерину обернуться.
У дверей стоял Захар с каплями на подносе, с куском льда на тарелке.
– Поставь. Уйди. Благодарю… – И не ожидая даже пока скроется старый камердинер, Екатерина обратилась к Нарышкиной: – Ты знаешь ли? Все кончено… Он написал… Он любит княжну… дал ей слово жениться. Понимаешь, всё кончено…
И снова рыдания, на этот раз неудержимые, громкие, наполнили комнату.
Долго пришлось Нарышкиной успокаивать подругу. Всё было пущено в ход: капли, лед к щекам, убеждения и даже дружеские упреки в малодушии, в слабости, так не идущей великой повелительнице, женщине, прославленной всюду и везде. Лесть послужила самым лучшим лекарством.
Понемногу Екатерина успокоилась.
– Ты права. Распускаться не надо. Скорее вызови княжну… и ее маменьку. На послезавтра назначу сговор.
– Умница, милая. Это им будет самое лучшее наказание.
– Пускай… А нынче я, может быть, загляну к тебе… Пожалуй, и этого… ротмистра… Зубова пригласи. Пусть поболтает… утешит, рассеет меня немного. Я столь несчастна!
Слезы снова хлынули градом из красивых еще, теперь опечаленных глаз.
2
Покажите, мой дорогой, что вы способны удовлетворить даже и непомерный аппетит, насколько это возможно (фр.).
3
Хорошо смеется тот, кто смеется последним (фр.).
4
Дорогая Екатерина (фр.).
5
Весна – юность года (ит.).
6
Юность – весна жизни (ит.).
7
Вперед, только вперед! (ит.)
8
Вот и всё (фр.).
9
Я вас убью одним листком бумаги! (фр.)
10
Сто чертей! (нем.)
11
Чего хочет женщина, того хочет Бог! (фр.)