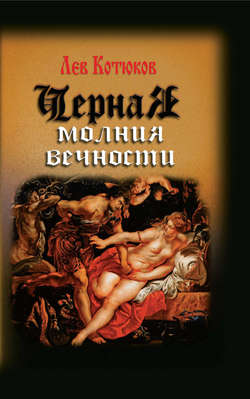Читать книгу Черная молния вечности (сборник) - Лев Котюков - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Демоны и бесы Николая Рубцова
Глава вторая
ОглавлениеЖаждущие в сей жизни неумолимой последовательности могут быть свободны, – я не рекомендую им читать мое сочинение, ибо не являюсь радетелем причинно-следственных связей. Причины еще кое-как принимаю, по последствия-следствия – увольте, сыт под завязку.
Я искренне завидую людям, чья личная подпись никогда не украшала никаких протоколов; и не завидую тем, кто с тупым упорством ожидает какой-то сверхъестественной последовательности от русского человека.
Ко времени моего знакомства Рубцов уже успел отличиться не только на поприще словесности, но, увы, и в единоборстве с «зеленым змием», которое с переменным успехом уныло заканчивалось вничью. По этой причине, а также из-за многочисленных приводов в милицию, как говорится, висел на волоске.
В 1964 году Литинститут возглавил железный ректор-канцлер Владимир Федорович Пименов. Ректорство было для него понижением, ибо до того он занимал – ого-го! – посты. Всеми театрами СССР ведал, в кресло министра культуры метил, но был подсижен завистливыми недругами. Подсижен и понижен за сокрытие своего социального происхождения, из семьи священнослужителя.
В некоторых писаниях-воспоминаниях о Рубцове железного ректора представляют чуть ли не душителем-гонителем поэта, этаким инквизитором от литературы. Резко возражаю, поскольку всё было далеко не так, совсем не так. Не был Пименов демоническим гонителем-душителем, другие тихо подвизались в сей роли, ловко, исподтишка провоцировали поэта, гнали, душили – и задушили в итоге.
А милейший царедворец Пименов, хоть и хмурил свои грозовые, брежневские брови при упоминании Рубцова, но, однако, не исключал из института без права восстановления и переписки, и сквозь пальцы смотрел на его проживание без прописки в общежитии. Именно благодаря Пименову, Рубцов успешно окончил Литинститут, а не был изгнан с позором, как гласят литературные легенды.
Как-то в перерыв между семинарскими занятиями ринулись мы теплой компанией во главе с Рубцовым в пивной ларек-гадюшник, исправно функционировавший недалече от института.
Но, о нюх, о, чутье были у нашего железного ректора!
Воистину только нелепая случайность помешала ему стать министром культуры или физкультуры.
Широко раскрыв отеческие объятья, он перекрыл нам выход на волю, с добрейшей улыбкой вопросив:
– Куда это скачем, пташки ранние?!
Мне думается, это было сказано не без подначки в адрес автора строк: «Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны…»
– Во дворик, воздухом подышать, Владимир Федорович, – смиренно ответил Рубцов.
– Ну что ж, давайте подышим вместе и о художественной литературе поговорим! – жизнерадостно согласился ректор.
Всю перемену он соизволил водить нас вокруг памятника Герцену, неторопливо рассуждая о разных разностях и, как бы между прочим, о вреде пьянства в учебное и неучебное время. Отправляя нас обратно в аудитории, он добродушно погрозил пальцев Рубцову:
– Смотри, Коля, держись!.. Я на тебя надеюсь. А пивнушку вашу я прикрою…
И сдержал свое ректорское слово, лично съездил в райисполком, – и каково было наше разочарование и огорчение, когда буквально через неделю надпись на палатке «ПИВО-ВОДЫ» сменилась на «ОВОЩИ-ФРУКТЫ». Вот таким своеобразным гонялой молодых писателей был Владимир Федорович Пименов, как говорится, тот еще фрукт.
А Рубцову надо было действительно держаться… Но я уже говорил, что скорблю о тех, кто ждет последовательности от русского человека. И о себе малость скорблю, ибо иногда, в приступах слабомыслия, уповаю на эту последовательность, а надо бы наоборот.
Рубцов вне стен общежития обладал удивительной способностью попадать в объятия стражей общественного порядка в самых безобидных ситуациях. И вдвойне удивительно, что он умудрялся находить таких собутыльников, которые почему-то никуда не попадали – и исчезали, «как с белых яблонь дым», с милицейских горизонтов, оставляя бездомного Рубцова наедине с неподъемной чашей советской морали. А он, как правило, брал все на себя, и никогда никого не подставлял.
С ним можно было спокойно идти и в разведку, и в контрразведку. Будь он жив, мог бы, подобно иным нашим литературным борцам с «зеленым змием», с гордостью говорить, что натерпелся и настрадался за свободолюбивые убеждения в коммунистических застенках. Но мне почему-то думается, что скромно помалкивал бы, с грустью внимая «страдальческим» россказням.
Как правило, главным выручателем нашей братии из милицейских передряг был наш однокашник Владлен Машковцев. В шляпе и при очках он смотрелся не хуже любого штатного сотрудника органов, впрочем, без очков и шляпы тоже неплохо выглядел. Но в то весеннее утро, когда пришла весть о задержании Рубцова в местном отделении, великолепный Машковцев почему-то не оказался на посту, то ли в командировку куда-то отбыл, то ли по мужским делам отлучился из-под казенной крыши. Поскольку я тогда числился в растущих авторитетах, пришлось идти и выручать злосчастного Рубцова.
Надо честно сказать, после вчерашнего и позавчерашнего вашему покорному слуге был далеко, внешне и внутренне, до внушительного, бронебойного Машковцева. Слава Богу, наши боевые подруги очень ловко замазали и запудрили мой фингал под левым глазом, ибо перед этим, как сказал Рубцов в каком-то стихотворении: «…повеселились с синими глазами…»
Но костюм на мне был что надо, двубортный, в полосочку, с черной прозеленью. Почти такой же, как у Евтушено во время кремлевской церемонии в честь получения ордена «Знак почета» за неоспоримые заслуги перед советской литературой. А французский галстук, который и нынче ого-го! подаренный какой-то дамой, скрадывал саднящую боль в голове и вселял этакую безнаказанную заграничную развязность и самоуверенность.
Бодро представ перед дежурным чином милиции, молодым аккуратным лейтенантом, я, стараясь не дышать в его сторону, громово, как в военкомате, представился:
– Секретарь комитета комсомола Литературного института имени Горького при Союзе писателей СССР!!!
Лейтенант напрягся, как машинописный лист под копиркой, взгромыхнулся по «стойке» смирно и сделал под козырек, всем своим служебным видом демонстрируя, что ради великой советской литературы он готов в огонь и в воду.
– М-да, мрачновато тут у вас… – сочувственно обвел я рукой тусклую дежурку. – Тяжеловато… Как танку в болоте… – и, не теряя темпа, с потусторонней брезгливостью спросил: – Тут поступила информация, что вами задержан некий Рубцов, наш студент, к сожалению…
– Сейчас, минуточку, выясним! – лейтенант бодро полистал мрачную, конторскую книгу и поспешно доложил: Есть Рубцов! Николай Михайлович… Без документов!
– Ну-ка, ну-ка, приведите-ка сюда этого Николая Михайловича! Наши студенты не шастают без документов! – почти приказал я.
Через минуту из камерных недр предстал Рубцов. Вид его был предельно уныл и жалок: рваная, когда-то, видимо, шелковая тенниска, грязные, пузырчатые штаны, в которых только покойных бомжей хоронить, беспорядочно покарябанная физиономия и аккуратная багровая шишка на лысине.
– Этот, что ли?! – с уничижительным недоумением взарился я на своего товарища.
Воспрянувший было Рубцов растерянно заморгал корявыми, непохмельными глазами, закашлялся, промычал что-то нечленораздельное вроде «…Да я это, я… Кто ж еще-то?..», а лейтенант всполошенно зыркнул на сержанта сопровождения, видимо, решив, что произошла накладка – и надо срочно поискать среди задержанных кого-нибудь поприличней.
Но я царственно успокоил служителей правопорядка:
– Да, да, да, что-то припоминаю… Кажется, это действительно наш Рубцов. Надо же так допиться, до потери лика человеческого! М-да!.. Тут съезд на носу, а он… М-да!.. Что он у вас натворил-то? С такой рожей?! Тьфу!..
Сейчас уже и не помню, какой съезд я имел в виду: партийный, комсомольский или писательский. Насъездились на тысячу лет вперед – и, как оказалось, дураков в России припасено не только для съездов.
Но при упоминании съезда откуда-то сбоку, наверное, из стены, поскольку ни слева, ни справа от меня никаких дверей не было, возник седовласый майор. Возник, благородно поздоровался, учтиво и уважительно полюбопытствовал:
– Участвуете в съезде?
– Работаю над докладом, привлечен в качестве редактора-референта! – небрежно бросил я.
– Это хорошо, что привлечены, хорошо, что молодежь, так сказать, творческую привлекают… – одобрил майор и сожалеюще кивнул в сторону Рубцова: – А таких вот нам привлекать приходится!
– К сожалению! – согласился я. – К сожалению, одна паршивая овца может все стадо перепортить! Всю, понимаете, отчетность перед съездом достижений всей творческой интеллигенции… – и грозно гаркнул в сторону пожухшего Рубцова: – До чего ты довел высокое звание советского писателя?! Что сказал бы Горький, что сказал бы твой любимый Маяковский, если бы видел твое безобразие?! (Рубцов исказился в гримасе, ибо терпеть не мог Маяковского). Как я буду смотреть в глаза Александру Трифоновичу Твардовскому?! Как ты теперь будешь смотреть ему в глаза, скотина неумытая?!
– Он с самим Твардовским знаком? – осторожно поинтересовался майор.
– Знаком! – сухо отрубил я. – Лучший ученик… В те годы имя Твардовского, этого советского Пушкина, со всеми вытекающими последствиями из эпитета «советский», было – что там на слуху! – оно гремело «…от тайги до британских морей», а редактируемый им «Новый мир» выписывали и взахлеб читали не только майоры КГБ.
Совсем недавно мы с Рубцовым имели честь получить обратно свои стихи из «Нового мира». Заведующая отделом поэзии, милейшая Караганова, честно сказала, что стихи наши весьма и весьма, что не без интереса их прочитала, но главному, увы! увы! они не приглянулись, но не теряйте надежды, заходите… Не напечатал при жизни Рубцова в своем журнале ясновельможный пан Твардовский, не допустил поэта до своего барственного тела, хотя казалось бы…
Но, наверное, правильно сделал, ибо не соответствовали стихи Рубцова концепции журнала, да и сам он не соответствовал. Не держал потный, дрожащий кукиш в кармане, подобно бойким борзописцам-лауреатам, авторам и не авторам «Нового мира», кормившимся в спецраспределителях ЦК и вместе с Твардовским, выпускавшим лишний пар из общественного котла по указке зловещего Суслова.
И зря нынче многие простодушно удивляются, что не «Новый мир» открыл Рубцова читающей России, а реакционная «Молодая гвардия» и треклятый прогрессивной общественностью, не менее реакционный в то время, «Октябрь». А нечего удивляться, братцы сердечные, Твардовский, поколебавшись, отверг и «Привычное дело» Василия Белова. А Рубцова, думается, отверг без малейших колебаний, как без колебаний оставлял «за бортом литературы» замечательные религиозные стихи и «Окаянные дни» Бунина в своем знаменитом предисловии к его собранию сочинений. Советую кое-кому перечитать эту статью сегодня, которая в пустозвонные шестидесятые объявлялась вершиной советской критической мысли. А лучше не перечитывать, надо по возможности жалеть свои заблуждения, ибо, как правило, они владеют лучшей частью нашей жизни.
Не жаловал советский Пушкин многих и многих настоящих писателей, в том числе и гениального Николая Тряпкина.
Но об этом я услышал совсем недавно из уст самого Николая Ивановича: «Да что я, что для него Рубцов!.. Он другим жил… Без Бога жил! Не хотел Бога признавать! Начальствовать над всем хотел… Самый настоящий Иуда!..»
Это высказывание могут засвидетельствовать прекрасный русский поэт Владимир Бояринов и журналист радиокомпании «Подмосковье» Михаил Ложников, с которыми я побывал на квартире Николая Ивановича. Жестокие слова, но не выкинуть их из песни о нашем многострадальном времени.
Но, о, Боже, куда это меня сносит поток памяти! Так можно вместо противоположного берега очутиться в открытом море одиночества, – и я опущу свои неловкие соображения о Твардовском и его роли в советской литературе ради краткости изложения.
Но на майора имя Твардовского подействовало весьма благотворно, а еще благотворней подействовала моя байка о том, как незабвенный Лаврентий Берия хотел расправиться с пьющими русскими писателями. Собрал он компромат, предстал пред Сталиным и доложил в надежде на справедливый гнев отца народов: «Русские писатели пьют!» Сталин очень и очень рассердился, но не на писателей, а на Берию: «Пьют, говоришь?!.. Ну и что?! А где я тебе других возьму?! Какие есть, с такими и надо работать! Трудись, Лаврентий!..»
Думается, не совсем справедливо упрекают Сталина за его знаменитый афоризм: «У нас незаменимых нет». Оказывается, все-таки были… Хочется надеяться, что и сейчас есть – и еще будут. И в обозримом, и в необозримом грядущем.
В считанные минуты благосклонный майор уладил неловкости со зловещим протоколом, который успели-таки составить на Рубцова. Помню, там фигурировали «… нецензурная брань, сопротивление работникам милиции, разорванный пиджак» – весь джентльменский набор мелкого хулигана для 206-й статьи Уголовного кодекса.
– Желаю успешной работы, товарищи писатели!
Напутственные этими словами благородного майора, мы вышли с Рубцовым из отделения – и энергично ринулись к ближайшей пивной.
После второй кружки пива Рубцов с обидой сказал:
– А чего ты Твардовского приплел? У него же нет ни одного стихотворения о любви! Уж лучше бы Грибачева вспомнил. Он ведь аж «Советский Союз» редактирует! (Был такой журнал, нынче, кажется, называется «Новая Россия»)
– А бес его знает, отчего… – усмехнулся я и сдул пену с пива.
Бесы и начальствующие демоны наверняка знают, отчего. И нас пичкают пустым знанием, подобно нам, не ведая Промысла Божьего. А может, ведая?! Кто ответит?!
Рубцов очень любил Гоголя.
«Скучно жить на этом свете, Господа!»
Да, братцы, скучно! А кому-то даже скучновато.
Ни потных кукишей в карманах.
Ни душных спецраспределителей ЦК…
И не имеет никакого значение все, что когда-то сказал о ком-то кто-то. И ничего не добавит истине сказанное ныне и в грядущем.
Жизнь превыше смысла. Никто не знает, что такое жизнь. А те, кто лукаво думают, что знают нечто, – слепцы глухонемые, ибо они не понимают и никогда не поймут, что жизнь и время не нужны друг другу. Все мы – слабые, неверные тени вечности. Мы неостановимо исчезаем в вечности, но вечность не исчезает вместе с нами, – и случайное таится в неслучайном.
Сразу хочу оговориться: я очень хорошо знал Рубцова, но дружбы между нами не было. Сказывалась разница в возрасте – почти одиннадцать лет, да и житейские обстоятельства.
Мы – девятнадцатилетние-двадцатилетние литшколяры – больше воспринимали Рубцова не как старшего товарища, а как непутевого, неудачливого, но доброго старшего брательника. А он посматривал на наши художества со снисходительной симпатией, но иногда с осуждением и страхом, как на преждевременно повзрослевших сыновей. Особенно характерно это проявлялось в отношениях с его земляком, талантливым и, увы, также безвременно и нелепо ушедшим из жизни Сережей Чухиным.
Замечательный русский поэт Глеб Горбовский в своих воспоминаниях честно говорит: «Я был слишком занят самим собой, своими стихами. И проворонил взлет поэта… узнал о нем как о большом поэте уже после смерти…»
Нет, мы не проворонили Рубцова, но заняты сами собой были чрезмерно. Ну еще бы – Москва, столичные девочки, издательства, редакции, богемные вечера и т. п. и т. д. И небрежно, порой потребительски, из-за общего полуголодного похмельного быта опекали Рубцова. Приведу характерный эпизод:
– Заочники утром приехали, при деньгах… Но не колются, жлобы!.. – рявкает влетевший без стука в мою комнату стихотворец К.
Я грохочу кулаком в стену, за которой обитает Сергей Чухин. Через минуту он у меня.
– Серега, пойдем заочников колоть! Срочно подготовь Рубцова с гитарой! И рубаху мою отнеси ему, а то кутается в свой шарф, как воробей недорезанный…
И шли, и успешно «кололи» зажиточных студентов-заочников под гитару и пение Рубцова:
Потонула во тьме отдаленная пристань.
По канавам помчался – эх! – осенний поток!
По дороге неслись сумасшедшие листья,
И всю ночь раздавался милицейский свисток.
Я в ту ночь позабыл все хорошие вести,
Все призывы и звоны из Кремлевских ворот,
Я в ту ночь полюбил все тюремные песни,
Все запретные мысли, весь гонимый народ.
А потом безответственно бросали поэта, оставляли один на один со случайными и не всегда добрыми людьми, – и разные невесёлые истории случались. Иногда совсем невесёлые.
Рубцов очень любил Гоголя.
«Скучно жить на этом свете, господа!» – говаривал он иногда грустным вечером.
А в нескучную минуту, как бы совсем невпопад шумного толковища, с тайной горечью произносил:
«Так, брат, как-то все… С Пушкиным на дружеской ноге».
А желающих быть с поэтом «на дружеской ноге» было в преизбытке.
«Колюня! Колян! Колюха!!!» – с каким-то ублюдочным сладострастием исторгалось из пьяных, прокуренных бездарных глоток.
Ничтожество не знает смирения. Ничтожество ничтожит всё и вся любыми, даже самыми, казалось бы, безобидными способами. И себя, в первую очередь, ничтожит, но не ведает об этом. И ноль обращается черным квадратом, – и слепит черноквадратная тьма глаза и души. И никто не зрит выпрыгивающих из организованной тьмы бесов и демонов.
А на первый взгляд вроде бы и ничего плохого. Выпили с поэтом, перешли на «ты», стихи почитали. И он выпил. Поморщился, но натужно одобрил посредственные вирши. Ну и слава Богу, ну и ладненько. Нет, не тут-то было, дружба нужна…
И уже – пожалуйста! – «Друг мой Колька!» гарк во всю глоть, аж голодные общежитские мухи вон из комнаты.
Рубцов не страдал гордыней, был общителен, доброжелателен, деликатен. Он прекрасно знал, что все равны перед Богом, и строго следовал этому завету. Но вот незадача: большинство окружающих вообще не ведали об этом равенстве. И бессознательно, а кое-кто сознательно, пытались нарушить сей высший завет. Страдали гордыней в чистом виде:
«С самим Рубцовым на дружеской ноге… Как дела, брат Колька, вчера спрашиваю. Так как-то все, брат, – отвечает. Большой оригинал…»
В трезвом виде поэт снисходительно мирился с бесовским панибратством, закрывая глаза на вольности и невольности товарищей. Но не дремал неистребимый зеленый змий. Полнил адским, хмельным огнем змий зеленый души страждущие, – и взрывались души. И шла злопыхательская молва о мании величия у Рубцова, преследующая поэта и после смерти.
Ныне, к месту и не к месту, вспоминают случай с портретами русских классиков, которые Рубцов снял в коридорах и перенес к себе в комнату, дабы не было скучно пить одному.
Думается, не следует сводить этот случай к литературным анекдотам. Не все здесь просто и смешно. Это была своеобразная защита не только от жизнерадостных бесов русской уравниловки, ничтожащей и поэтов, и непоэтов, отлучающих людей от равенства Божьего.
Рубцов обладал ясным сознанием. Чего ему было маяться величием? Он знал себе цену, знали эту цену и другие. Но было отвратно, что эти другие меряют его на свой скудоумный аршин.
А маеты жизненной поэту хватало с лихвой и без мании величия. Но взаимоуравнение было всегда чуждо ему, как и атеизм, уравнивающий Бога с сатаной.