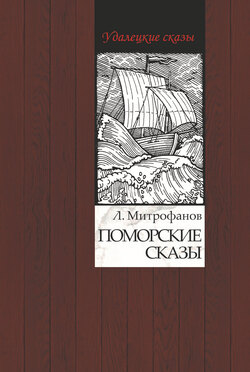Читать книгу Поморские сказы - Лев Митрофанов - Страница 4
Конские широты
Повесть
Конские широты
Оглавление«Вся русская культура пропитана тоской по тёплым морям, по настоящему флоту, по настоящей жизни, которая начинается там, где скрипит палуба и сияют южные звёзды»
Константин Анатольевич Крылов, публицист, философ
Иван Буторин по старинке, на поморский манер, сам себя называл кормчим. Вот и сейчас, стоя босиком в подвёрнутых до колен исподних портах, в накинутой на голые обгоревшие плечи рубахе в двух шагах за почерневшей от солнца широченной спиной штурвального Кирсанова, сына Киндея по прозвищу Белуха, которому едва доставал головой до плеча, размышлял вслух:
– Надо полагать, век паровых машин приходит. И уже волна не волна. Есть ветер, нет его, сердешного – а такой барк топает себе, как в хороший ветер. Да не простая эта посудина, а четырёхмачтовая – прямо гора на морской воде. Мы под такой её высокий борт подойдём, так клотик нашей фок-мачты за первую рею вылезет. Да и то едва на пару аршинов.
В Питербурхе-то батюшка Кирсана, Смолокур, ещё двадцать пять лет тому как отслужил на флоте, видел, как против ветра шла 1815 года постройки парусно-паровая яхта «Елизавета» с пассажирами на палубе. Да так, что яблоку негде упасть. И даже на ходовом мостике пассажиров было полным-полно. Ходила она из столицы в Кронштадт. А Смолокур там бывал в двадцать каком-то году. Как раз несколько лет прошло, как успокоили французского императора Бонапарта Напольёна. Наши-то мужики, что с той войны вернулись, такого порассказали, что век бы их не слушать. Говорят, кто-то жив и сейчас. Но я таких давно уж не встречал. Где-то, говаривали, много их вернулось по своим местам до тридцатого года. Я-то в тот тридцатый год списан был в инвалидную команду. Под цепь якорную попал. Она меня так бросила-приложила, что еле-еле оклемался. С «Александра Невского» я, с лучшего фрегата Балтийского флота. В сорок шестом, весной, переделали его в плавучий склад на Кронштадтской стоянке. А уже в сорок седьмом приказали разобрать…
– Эк бабахнуло, словно пушка выстрелила! – Буторин прервал на секунду свою речь и глянул на хлопнувший парус. – Время-времечко, словно ветрушко в парусину крепкую. Только бурун за кормой вьётся. И вскоре растворяется в глади морской. Вот так-то, всё летит незаметно да быстротечно. – И Буторин провёл рукой себе по крутому затылку. – Ну, чего этому императору Бонапартию не жилось? – продолжал. – Видать, ему маялось в маленькой своей Франции, видать, хлебушка не хватало. Мы-то в море ходим, так мы тут родились. Нас море и кормит, и одевает.
Надо обязательно полюбопытствовать, сколько ныне золотом просят за такую шхуну. Парус – само собой, ну и машину на пару, чтоб колеса крутила. Ныне-то, небось, полным-полно даже парусно-паровых шхун. Вот ведь как – беспокойство-то одолевает: вроде бы и заштивать ветрушко может. Конечно, грех так думать. Знамо дело – как удумал, так и сбудется. Прости, не гневись, ветер вольный. – И он торопливо перекрестился. – А тут бы самое время быть и под парусом, и под паром. Налил вонючки в бак, и топай сколько душе угодно. Вон сколько того керосину изводится на фонарные столбы. Почитай не сосчитать, весьма свету керосиновых ламп в столице российской империи хватает.
Но тут простодушный Кирсанов сын с расплывшейся до самых ушей широкой улыбкой громко сказал:
– Вроде как штивать начинает, порой морщится парусина. Нет такой гладкости, парус сникать вроде как начал. И не так шумит у форштевня.
– Не шалобродничай языком, чё болтать. Лучше курс береги, – зло рявкнул Буторин. – Ветры-то все наши слова разумеют. Накличешь! И чего ты напросился ко мне на борт, такой говорливый. Наш-то мезенский да архангельский народ – степенный, вахту отстоит и слова не обронит. Сначала в голове мысли погоняет, потом, чтоб не стеснять своими словами, скажет. И то коротко. Как доклад на мостик. Или вахтенному офицеру – с берега вернувшись. Прибыл, замечаний нет. Вестовым бы тебя определить. Как я, послужил бы, ума набрался. То-то намаялся бы, враз язык прикусил бы. И не мечтай, чтоб тебя марсовым на настоящую мачту пустили. Так-то вот я тогда мечтал. Всем марсовым почёт и уважение. Даже от своего брата матроса. Но и оторваться от кают-компании не мог. Как-никак, а офицеры все тебя в личность знают. И бегай из камбуза до винной каптёрки. Рай земной, а не царская служба. Я и старался изо всех сил. Подфартило мне за то, что глаза у меня были иссиня-дальними, как говаривал первый штюрман. Да усы огненно-рыжие, с волосом буйным цветом на голове. А ныне никто и не поверит, бородища – сплошь чистое серебро. И усы обвисли, что пакля крашеная. Родного цвета только и осталось самую малость в глазах. Но, конечно, основная синь уже всё больше пропадает. Так теперь из меня никакой не выйдет вперёдсмотрящий. Вдали всё расплывается. Но пока только у самой окоёмы. Глаза-то уже огнём не горят, даже выцвели, верно, малость. Словно ёрничают надо мной. Только силушка ещё живёт в жилочках. Да и то не та, конечно.
Киндей глубоко вздохнул и забубнил, как в пустую двухсотведёрную бочку, за что его и прозвали Белухой. Уж очень голос у него был трубный. Да такой, что в Петербурге мичманы и офицеры, как услышат его голос, всё про оперу говорили. Что петь он должен. Но Киндей прятался, когда его пытались разыскать и отвести в оперу. В иноземных краях, когда начинал он говорить, люди вздрагивали и понять не могли, что это говорит он – белолицый, огромный, который, быть может, бороться даже со слоном возьмётся.
– Так, пора нам склянки бить к обеду. Я-то с первых петухов вахту стою. А из поварни дух-то сладкий такой. Прямо слюна течёт. Впервой сегодня слово сказал потому. Может, вы какую команду выполнить прикажите, парусов добавить? – и совсем тихо произнёс полное имя, – Иван Яремеевич, – и ещё тише добавил на иностранный манер, – господин шкипер.
– Ты чего буровишь! Это как в иноземцевский порт войдём – там меня величать шкипером, я сказывал. А теперь-то! Раньше времени негоже приказы забывать.
– Так я, чтоб со всем уважением. Своё почтение выказать! – пробурчал себе под нос Киндей. И уже громко: – Как с курсом? Соблюдать, что ли? – не выдержав, спросил. – Ветерок понемногу, еле-еле, но перемещается.
– Это, вот… было, – выдавил из себя Буторин.
– Так подваливать под ветер? – спросил Киндей.
– Точно. Следи за парусами. Они подскажут. Не отпускай ветер.
В эти же минуты короткого разговора Киндей смеялся вовсю глазами. Вокруг глаз одни морщинки. Но понимал, что – не дай Бог – узрит это Иван Еремеевич, тогда спаси и сохрани Всевышний. Прямо вместе с бахилами сожрёт. «Судя по всем признакам, погода не испортится, – думал Киндей. – Но надо всё-таки выспрашивать побольше о его службе на царском флоте. Порода-то у него крепчайшая. Глядишь, и уму-разуму прибавится. Смог же он в наших краях быть может самым верховным богатеем стать. А как его воспоминая вопросом уведёшь, тогда он добреет. Да и насмотрелся он многого. Батюшку-то его, как-никак, а прозвали Свалицей. И уж не каждому дано столько силы да ловкости. Может, и поэтому Еремей Митрофанович был самым удачливым кормщиком. Да и самым строжайшим. И несмотря на самую крутость его нрава, был справедлив. А потому за честность свою глубоко уважаем и любим».
«Чем меньше ветра, – думал Киндей, – тем в океане, в тропических морях, да пропади они пропадом, всё больше влажности в воздухе. И как ни лей на себя забортную воду, только на самое короткое время спасаешься от жарищи, с большим трудом переносимой».
Глядя на почти безжизненные паруса, уже слабеющие, ловившие ветрушко, глядя на высокое безоблачное небо и иногда посматривая на Киндея, думал о своём и Буторин: «Все мы как мухи сонные стали. А так посмотреть со стороны – так вроде ушкуя завалят. Эх, мать честная! Кормщик-то я, конечно, хреновый, что ни говори. Эх, ёлки-палки. Но одно звание для солидности надо держать. Степенство – великая сила в нашем купеческом деле. Не то, что батюшка мой, крепчайшей породы. Недаром его Свалицей прозвали, – мысли об отце были любимым делом Буторина по взрослости. Ему нравилось, что с определённого возраста он перестал бояться отца. Зато проникся к нему каким-то необыкновенным, как казалось Буторину, уважением. – Батюшка-то мой, как настоящий хрен моржовый, из которого ножки табуретки делают. Уже видать, до настоящей твёрдости моё дело не дойдёт, нет, не дойдёт. Да и на паровую шхуну-то, видать, деньжищ надось. Уж лучше по старинке. Дело верное. Да, видно, не срок мне доходить до нынешней крепости. Даже купишь паровую машину – а она, глядишь, и поломается. Хоть я и везучий – что грех жаловаться. По всему подфартило мне! Паруса-то ветрушко задарма надувает. А с новизной, без керосину-то, никак не обойдёшься. А то ещё, поговаривают, чистым спиртом кормить да поить надо железных лошадей. В аптеке его не накупишься. Там же не одно ведро влить надо. Эхма, дела-то какие, прямо нелюдимые. Только что остаётся, так держаться за паруса. Святое дело. И что было дано родителю моему, упокой его душу Господи, так мне ни в жизнь в руки не давалось. Не приладился к моей руке его самый большой гарпун. Я уж с флота возвернулся, а у него рука не полегчала. Да так треснет, что и не увернёшься ни в жизнь. А как глянет, так дыхание – было – прерывалось. Я и букварь-то осилил только потому, что батюшка порол. Порол, пока матушка не вырывала вожжи из его рук, с криком истошным: «Забьёшь сынишку родного, Ирод жестокий!»
Помянув мысленно добрым словом родителей, Буторин снова стал размышлять о деле: «Без наших лучших мезенских мореходов мне этих проклятых морей тоже, видать, не одолеть бы никогда. Без Киндея, да особливо – без Антипа-Сдело. Да без Агея Распопова – Матигорца. А Пров Исаков-Серебряник ещё здоровей Киндея. Митрофан Михайло Дурасов – самый первейший парусный мастер. Мне и астролябию эту ни в жисть не выучить. Её с юности познают, как Сдело на зубок помнит, что ни спроси. По памяти ответит. А мне, видно, не дано. А Лёвка Иванов-Шубин, корабельный плотник, все секреты ведает, сам может и чертить, и топором тесать так, что никому другому не смочь. Потому, хоть я ныне и богатей, а худо будет без них. Каждый должен знать своё ремесло из всей нашей нынешней команды. В ней только одни умельцы. И только один Амос малость кумекает по звёздам, как ходить по морям, да и то – только по нашенским верно. Да всё Антип старается его просветить. Крепко верит в него. А так-то – до Антипа-Сдело ему грести, что против шквального ветра в открытом море. Вот у меня-то торговля идёт так, что все паруса ветром набиты. А тут искушение такое навалило. Верно от моей глубокой глупости. Наказывают ныне меня за жадность. Привык-то только одними пряностями. Но если вернёмся, – тут Буторин широко перекрестился, на что Киндей и ухом не повёл, – я этот поход оправдаю. Легшее гагачьего пуха у нас груз, а деньги за них кладут тяжеленные. Надо бы удумать, чтоб ненароком не опозориться. Точно, хворым надо сказаться. И… Сдело поставить штюрманом, кормщиком, шкипером. Всё равно с самого начала он командует. Я – так, только щёки надуваю. Не лопнуть бы! Всё одно он астролябию знает, и остальное… Антип-то всё что можно исходил. А я-то в эти моря больше ни ногой. Спаси и сохрани, – Буторин снова перекрестился. – Только бы вернуться. Святыя угодники, не выдайте, – он положил крест в третий раз. – И больше во мне любознательности проснуться я не разрешу. Вот дурень седой! Никак бесы меня подманили. Посмотреть на другие земли да на чёрные народы. Но лишь бы ныне до дому добраться. А то спросил Антипа: «Можно добраться до земель, где чай продают?» – «Да отчего ж нельзя? Земля-то точно круглая» – ответил мне. И я дорогу духом своим только как кормчий ведаю. Ей-ей, вернусь. Храм построю не хуже Александро-Невской церкви Архангельского Дисциплинарного полуэкипажа. – Буторин положил руку на нательный крест. И держал её так, пока обещал постройку церкви. – Ну, конечно, ежели домой вернусь, то такой же построю, но, конечно, поменьше. Тот соборишко всем народом строили. И царёвы были там деньги. Монастырь Соловецкий выкладывался. Все наши мезенские тоже копеечки собирали. Дружно монахи, говорят, в нём участие принимали…»
Тут все мысленные и немысленные клятвы и обещания прервало движение на палубе. Из открытого правого люка поварни вылез неторопливо дед Антип Сдело с бутылкой «Чёрного Дракона» в руке. Как Сдело утверждал, каждому в этих каторжных морях надо пить самый крепкий джин, чтоб не сдохнуть от здешней самой разной пакости.
И спросил:
– Что, довернули? Рыщете под ветер? Так гляди на воду. Ещё круче вали, не то совсем его потеряем. Вишь – он старается. Дует из последних сил.
Из люка, как жираф шею вытянул – появилась голова Амоса Алельковича Ливенцева, и сверкая голубовато-васильковыми льдистой стылости глазами да сахарными зубами, он протрубил голосом Посейдона – так, что у всех троих на палубе зыбь по шкуре пробежала:
– Извольте откушать, господа мореходы. А вам, господин Сдело, Антип Труфанович, очень низко просим подменить вахтенного.
– Ну, чего зубоскалишь? – повернув голову в сторону Амоса Ливенцева, ответил Антип Труфанович. – Скажи попроще: подмени его, до Геркулесовых столбов пока дойдём. Ну, на худой конец, до Гиблортара. А там мы сходим в шинок, по-ихнему – таверна, и через три дня и три ночи возвернёмся. Но будем совсем слабыми. И ты, Антипыч, как вечный человек отстоишь ещё двое суток, пока мы не отоспимся – сил-то набраться надо.
Все засмеялись дружно. Даже Буторин схватился за живот. И тут же вспомнил, что пора хворость разыгрывать.
– Ох, схватило что-то ниже живота. Ох, ребята, ну прямо невмоготу.
Пружиной из люка вылетел Ливенцев. К Буторину шагнул Киндей. Они подхватили хозяина под руки. Тот совсем обвис в могучих руках. И так вошёл в свою совсем небольшую кормовую каютку и сразу улёгся на лавку. Амос с Киндеем, согнувшись в три погибели под низким подволоком, потоптались, не соображая – чем ещё можно помочь, и переглянувшись, ни слова не сказав, решили, что пора в поварню. Чтоб еда не простывала – больно быстро скисает на жаре.
«Эх! – вздохнул и задумался Буторин. – А сегодня, верно, едим то же, что только магараджа потребляет: салат из разных фруктов, нарубленных, перемешанных и немного толчённых. Её, еду эту – словом, баловство одно – подсмотрели в гостях у соседей… Англичане, с которыми рядом стояли на причальной стенке, от жары спасаясь, каждый день такую толокушку делали. А мы всё на солонину налегали. Всё-таки тут везде есть фрукты. Мелко порезали, совсем маленько добавили мёду. И теперь, пока не вылижут свои миски и не исчерпают в котле всё до дна, будут сопеть-трудиться. А потом – не проспали бы меня сменить с вахты. Конечно, есть такие удальцы в этой самой Индии, что отказались от всего личного, и даже от исподнего. Круглый год шастают по пыльным дорогам голышом. Только верёвочка махонькая на поясе, а к ней, чтоб срам прикрыть – ветхая тряпочка. Прямо лоскуточек, да и только. И все их кругом уважают да почитают. И сколько их ни довелось увидеть, все они мимо базара проходили. Так ни один из них нигде и не присел да ничего не сжевал. Такие все достигли звания Садхи, что значит – Святой. Но, верно, нам это дело никак не может подойти. Попробуй, поворочай веслом в море, когда в особенности уже сало плывёт. Хоть махонькие льдинки, да тяжести заметно прибавляют. Так и баркас на берег не вытянешь. Сила без варёного иль печёного из дичины не проявится, хоть ты пополам тресни.
Вот уж – ни стыда, ни совести. Ну отказался от своей избы. Ну ладно, тут и под открытым небом все спать-отдыхать могут. Но от порток что ж отрекаться! Срам один, да и только! И всё-таки эти Садхи в одном порыве: вся жизнь сплошь преодоление, да и только. Упёртые они – по всему видать. Только глаза не очень-то весёлые. Всё и в них, всё в себе. Нет в них никакой нашенской открытости. Идут вроде как на каторгу. Без радости разве можно жить человеку? Из таких людишек – а на вид крепкие они ребята – и мореходы вышли бы наиправейшие, да и только. Что вовсе немало значит для любого народа. А может, они просто лентяи, лежебоки. Ну да Боженька им судья. А всё-таки, отчего же их к святым при жизни признают в народе? Но чтой-то я в чужом монастыре свои нравы как бы видеть хотел? Ну, верное дело. Бог им судья, да и только. У нас и своих забот полон рот!»
– А чё с Буториным, пониже живота? Кобыла ему нужна, что ли? – без эмоций спросил Митрофан у Амоса с Киндеем. Амос и плечом не повёл. Будто пропустил вопрос мимо ушей, а Киндей ответил, краснея:
– Да нет. Вроде и в лице изменился.
Антип занял место, где только что сидел Киндей и громко заговорил:
– Упреждал я. В этих гнилых морях и на этих землях люди не зря почернели. Пока не войдём в нормальные холодные воды, без «Чёрного Дракона» пропадёшь. Я купил тогда в порту – прямо сколько в два мешка влезло. Сам еле доволок. Потому что наша ластушка, наша лебёдушка, наша красавица стала в один день самой популярной посудиной. Толпы в порт валили поглазеть. А оказалось – секрет простой: бесплатное выступление на конском базаре Амоса Алельковича Ливенцева, – Антип уставился на Амоса и развел руками. – Местные людишки потом не на коней глазели, а весь базар ходил за Амосом. Из других городов завсегда на базар люди приходили! Там, видно, слава быстрее ветра летит. А как не посмотреть на ловкого парня? Спор свой выиграл у знаменитого змеиного скомороха-дудочника. И тот как проигравший спор всё, что было в чашке, все денежки ему в ладонь и ссыпал, – последнюю фразу Антип произнёс протяжно, будто наблюдал за проигравшим факиром, и засмеялся.
Ветер заметно тем временем ослабел, но порой порывами набирал прежнюю силу. Как обычно, когда всё вокруг совсем спокойно и на палубу привычно залетают летучие рыбки, и на небе ни облачка, и солнце печёт так, что надо всё время таскать забортную воду и скатывать на палубу. А палуба, к тому же, от мачт к бортам идёт с понижением. Вода просыхает на глазах. А не скатывать – под палубой становится точно как в хорошо протопленной баньке.
Как только ребята вышли, Буторин сполз на палубу своей каюты, встал на колени.
– Эх, кричи, не кричи, супротив Господа не попрёшь!
Глухие удары Буторинского лба услышали в поварне и за общим столом кают-компании. И выбрали послать к нему плотника Лёвку Иванова-Шубина, закадычного друга Буторина. Лёвка встал и пошёл.
– Иван Еремеевич, как это тебе, такому богатырю и захворать? К тебе шёл. На небо глядел. Ни облачка. Везде горизонт чистый. И сполохи от ветра порой бегут. Это точно слабеет ветрушко.
– Ох! Типун тебе на язык, он у тебя окаянный! – запричитал неожиданно изменившимся, звонким, раздражённо неприятным голосом Буторин.
– А чё ты раскричался? Мы все испереживалися. Не только ты как купец.
– Тьфу, чертяка, ежели так наговоришь, прости Господи. Так там всё слышно. Ветер-то всегда наши слова носит. Это уж как Бог свят, я знаю.
– Что ты всё лаешься? Сам-то не видишь? Я тех зверюг не покупал для царского зверинца. Ты отличиться захотел.
– Звери те попередохли, – примирительно сказал Буторин, – это что! Вот арабские скакуны – это да! Я ж в них вложил всё, что было, до последней полушки.
– Ладно брехать-то! Знаю я тебя. Без накоси иметь силу не мудро, не хитро. Пол-Мадагаскару ты бы купить смог.
– Ну чего ты, Лёвка, заливаешься лаем своим – прямо пёс цепной! Верно, хорошо, что на этот Мадагаскар не попали. Не то бы и вовсе не преодолели мы этих безмерных морей, – совершенно беззлобно, сникшим голосом говорил Буторин. – Теперь-то я понимаю, что лучше сидел бы на своем Беломорьевском берегу да торговал. Пушнины, какой хочешь, не считано; пеньки Вологодской лучше в мире не бывает. Золотишка из-за Камня сколько надо, сколько скажешь, привезут. А крепче нашего леса-то и вообще нигде не видать. Лиственницы такие – всем лиственницам лиственницы, они само небо подпирают. Кедрач такой, что всё на лодье пропадёт от солей морских, а кедровый килевой брус, что из-за камня вместе с комлем на форштевень уходит – так я не знаю случая, что его можно было разбить о скалы даже. Такие кили от веку и до веку в море бегают – работают.
– Да не хочу я, Ваня, твоих прибытков считать. Сам знаешь, не моё это дело. А пошли мы за тобой из-за чистой любознательности. А то без моря-то жизнь не в жизнь мне. Да и всем остальным. Окромя Беломорья никуда не ходим.
– Как не ходим? – возмутился Буторин. – Ты до Оби ходил? Ходил! И как успешно! До Мат-шара ходил? Ходил! И в одно лето по чистой воде пришёл! И тоже с удачею. А про Грумант и говорить нечего, сколько раз ты там бывал… на ихнем Шпицбергене.
– Да, – вздохнул Лёвка Иванов-Шубин, – на Грумант хаживал я целую дюжину раз, почитай двенадцать лет там промышлял. Да нет, четырнадцать. И конечно, куда хошь пойду. Мне старшего сынишку очень учить надо. Я его учёным человеком задумал сделать. А уж что задумал, то дело верное.
– Это ты правильно разумеешь, – покачивая головой, отвечал Иван. Михайла-то Ломоносова, каво не спроси, у нас в России все знают. И к нам сразу добрей становятся – вот, что я заметил. А про твоего малого старшего – как-никак мой крестник – я тоже согласен, все учёность уважают. Чаю, пора ему в Питербурх отправляться. Для начала в школу навигацкую. В класс на штюрмана, туда из нашей черносошенной и из поморов принимают. Я узнавал.
– Да неужто ты где выведал, что туда сразу можно поступить?
– А отчего же нельзя? – похлопал по кошелю, что выглядывал из-под подушки, Буторин.
– Я тебе скажу, Иван Еремеевич, мечтаю я, чтоб и у нас школа открылась своя, в нашей деревне. До Мезени-то не набегаешься. В особенности в снегопады. Да если бы ты первым был в этом деле. Народ бы тебе в ножки кланялся. И я тоже.
– Об этом тоже думал я, – почесав бороду, ответил Буторин, – но все резоны взвесить надо. Одно мне понятно – что ныне без учёности пропадём. Иноземец-то к нашим делам всё чаще прилипает. И леса у нас хватает. Ты только погляди, в Петербурхе-то сплошь одни немцы, куда ни плюнь, и фамилию его не выговоришь. Хоть целый день повторяй, а не осилишь. Ты вот что, Лёвка, мне совсем худо. Поди, скажи Антипу и всем в поварне, что кормчим назначаю Антипа – он удачливый. И вряд ли кто лучше его астролябию знает. А он назубок всё помнит. Только чтоб все видели – для фасону её таскает под мышкой пусть. А я всё-таки сосну. Может и полегчает мне.
Иванов-Шубин шагнул на палубу. И подходя к Антипу, услышал:
– Ну совсем невмоготу мне, не туда гребём. Говорил ему, а он, Ванька, всё своё! А как дойдём до полосы Конских широт, и Иван Еремеевич сбросит за борт немерено золота. Три-пять шапок серебра за коней отдал. Эх, дотянуть бы нам до большой дороги, до угревых течений!
Лёвка выглянул из поварни на волю. И тотчас же Антип заорал неожиданно.
– Всем наверх! – не успел Антип и глазом моргнуть, как все встали в ряд за его спиной. А он только руку протянул вперёд. И сказал – С последним ветром уходит один из чайных клиперов. Гляди, народ, любуйся, как акула бежит. У плавника, что торчком торчит над водой, бурун кипящий. И теперь только флагшток с клотиком видать. И до десяти раз – десять не досчитаем – и парус ушёл за горизонт.
Все стояли, молча любуясь той невиданной скоростью, с какой проплыл на горизонте и исчез, словно белое облачко, трёхмачтовый большущий парусник. Потом удручённо долго молчали.
Наконец Митрофан сказал:
– Ветра полный парус на всех трёх мачтах.
А Антип добавил:
– В три раза нас он длиннее, и осадкой поболее будет, и в три раза быстрей, чем мы, идёт. А может и ещё шибче.
– Так что, нам померещилось это судно? А если нет, то что такое чайный клипер? – спросил Митрофан, и все, ожидая ответа, сгрудились плотно вокруг Антипа. Кто-то тихо сказал:
– В один день две радости не живёт.
– Да чего там нам с этого клипера? Лучше хлеб с водою, чем пирог с бедою!
И вдруг незаметно подошедший Буторин спросил:
– Видно, это и есть Летучий Голландец? А тут думай не думай – а это и есть мираж!
Киндей хрипатым, неземным голосом и верно невпопад сказал:
– Жизнь висит на нитке, а думает о прибытке!
Никто не засмеялся. Один крякнул в сердцах, да за борт сплюнул. Угрюмо нахмурив брови, сам Киндей закрестился часто, зашептав молитву и искоса поглядывая на своих товарищей. Пров схватил ведро и давай палубу поливать. Буторин, увидев расстроенные лица, тихонечко поплёлся к себе хворать. Всем стало неловко за плевок. Вспомнили о старинных заповедях.
Наклонившись к Антипу, Киндей ещё ниже почтительно поклонился.
– Антипыч, ты же слово дал, что будешь рассказывать о жизни мореходов в морях.
– Да я – всем сердцем! Разве против я, Индюшонок-Киндеюшка?
– Но вот ты плюнул за борт, Киндей! А позабыл, позапамятовал, что Зелёная борода обидеться может? – попенял Антип.
– А это что-то из сказочной истории?
– В море-океане не бывает сказочных историй, – продолжил окрепшим голосом Антип. Так, Зелёная борода?
– Но, – перебил упрямый Киндей, – эдакая опять сказочная история. Скорей всего, вроде бы, младший брат самого Нептуна… Да и какой я индюшонок, Антип Труфанович? Посмотри, какой я. Только Митрофан меня больше. Да в силе я, может, и ему не уступлю.
Но Антип зло и уверенно продолжал: