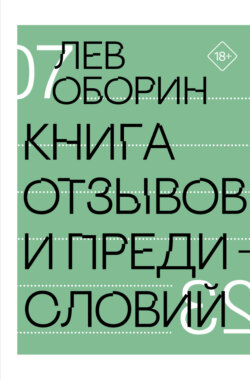Читать книгу Книга отзывов и предисловий - Лев Оборин - Страница 104
Длиннее
Виталий Пуханов. Школа Милосердия / Вступ. ст. С. Львовского. М.: Новое литературное обозрение, 2014
ОглавлениеВоздух
Мир стихов Виталия Пуханова – это мир уже после катастрофы:
Время такое пришло:
Выживут ангелы и герои.
Улыбнись, выбора нет.
Романтическое и красивое (в том числе порядок регулярного метра) начинает казаться шелухой, а то и слишком тяжелым для человека в нескончаемой экстремальной ситуации балластом – скажем, гирями, которые когда-то помогли нарастить мускулы, но сейчас могут утянуть на дно. Герои – с хитринкой, сумасшедшинкой, травмой – такие, как майор Федоскин или гастроном Соколов Иван Демьяныч, или дети, которых советские родители водили к доктору, чтобы «сделал больно». В абсолютизации предельно простого – картофеля, черного хлеба, земли («Привкус земли»), наконец, говна («Будем делать добро из зла. / Дом из воздуха. Хлеб из говна. / Нету войлока, нету льна. / Есть отчаянье, тишина») – видится здесь гордость, едва ли не бравада: вот с чем остается человек на пределе.
Перемены в поэтике Пуханова по сравнению с предыдущей книгой 2003 года «Плоды смоковницы» кажутся разительными, и автор предисловия Станислав Львовский отмечает это. Между тем, если перечитать сейчас «Плоды смоковницы», предпосылки поворота к новому стилю заметны уже там. Объем короткого отзыва не дает возможности разобраться, почему именно сейчас, в относительно «некатастрофические» времена, Пуханов создает тексты не о предчувствии катастрофы, а о катастрофе случившейся и обжитой, и на каком уровне она на самом деле произошла, но хотя бы поставить этот вопрос необходимо. Дополнительная проблема в том, что в «Школу милосердия» – книгу, которой давно ждали, – вошла лишь небольшая часть написанного Пухановым за эти годы и принцип отбора не всегда очевиден; все ясно с принципом отбора последнего раздела, этакого собрания «стихов о поэзии и поэтах», но оно как раз и диссонирует со всем остальным. Конечно, здесь есть ставшее уже хрестоматийным «В Ленинграде, на рассвете…» и другие тексты, работающие так, как только и могут работать жестокие парадоксы, умещенные в лаконичную стихотворную форму.
Недавно мне пришло в голову, что ближайшим предшественником Пуханова в русской поэзии нужно считать Бориса Слуцкого: как и Слуцкий, Пуханов создает стихотворения-эффекты, сталкивая проблемы истории с проблемами этики, ощущая себя выразителем мироощущения целого невыговорившегося поколения (у Слуцкого: «Я умещаю в краткие строки – / В двадцать плюс-минус десять строк – / Семнадцатилетние длинные сроки / И даже смерти бессрочный срок. // На все веселье поэзии нашей, / На звон, на гром, на сложность, на блеск / Нужен простой, как ячная каша, / Нужен один, чтоб звону без. / И я занимаю это место»).
Никто не хотел воевать за немцев,
Прибираться в комнате, застилать кровать.
Немцы воевали, чтобы проиграть,
Это знал каждый дошкольник,
Но без немцев какая война?
Тогда мы еще не знали:
Можно весело стрелять по своим и без немцев,
Мы по-немецки выполняли боевую задачу проиграть,
Продолжали прибираться в комнате,
Застилать кровать,
Платить рэкетирам в девяностые,
А когда женщина говорила: «Я тебя не люблю» —
Пожимали плечами.
Иногда встречаю человека хорошо за сорок
С молодым лицом, умными глазами
И чуть грустной улыбкой,
Спрашиваю: ты воевал за немцев?
Улыбается, не отвечает.