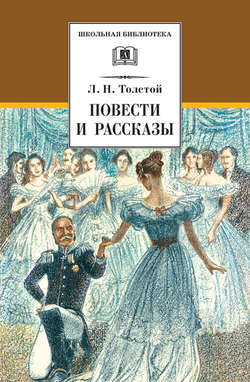Читать книгу Повести и рассказы - Лев Толстой, Leo Tolstoy, Liev N. Tolstói - Страница 3
В сумерках
ОглавлениеВ самом центре современной Москвы, за Садовым кольцом, посреди района, который с давних времен носит название Хамовники, стоит ни на одну другую в России не похожая дворянская усадьба XIX века. Ее обступают уцелевшие до наших дней постройки первых времен русского капитализма: ткацкая фабрика, пивоваренный завод с высокой трубой – все из бурого, видавшего виды кирпича. От улицы усадьба отделена резным деревянным забором, за которым виден такой же деревянный дом в два этажа, выкрашенный светло-коричневой краской. Стоит войти в ворота с небольшой сторожкой при них – и взгляду откроются внутренний дворик, калитка в сад, флигель, каретный сарай и боковая стена главного дома с обитой кожей дверью под козырьком. В доме и усадьбе сейчас музей. Здесь на протяжении почти двадцати лет с начала 1880-х годов, не считая летних месяцев, когда он уезжал в родовое имение Ясная Поляна, жил граф Лев Толстой, и здесь немолодой уже писатель встретил новое, XX столетие. Повести и рассказы, составившие книгу, которую только что открыл читатель, возникли в эту эпоху, так или иначе их создание связано с московским домом Толстого.
Усадьба Толстого в Хамовниках – место по-музейному тихое, осколок старины посреди бушующего города. Но тишина этого места странным образом не успокаивает. и даже просторный сад, расположенный за домом (сюда выходят окна всех главных его комнат), не приносит душе умиротворения. Весной, когда вдоль дорожек сначала пробиваются давно забытые в Москве подснежники, а позднее бурно и торжественно цветет сирень, осенью в листопад – он бывает очень красив. И все же что-то мешает вдыхать эту красоту легко и свободно. Конечно, обитателей усадьбы давно уже нет на свете. Искусственно сберегаемое прошлое не может не вызывать у человека другой эпохи одновременно с интересом некоторую скованность. Тем не менее музейные условности тут ни при чем. Это само время, запечатленный в тысячах примет дух позднего Толстого наполняют тишину усадьбы тревогой и неприкаянностью. Во всем, что окружает тебя, ясно ощутима трагедия гениально одаренной личности, русская трагедия минувших столетий.
Художник и мыслитель, который жил в этих стенах, мечтал о мире и братской любви, о счастливом будущем всего человечества. Ему казалось, он открыл простой, ясный путь к достижению вселенской гармонии и блаженства. Он призывал всех и каждого отказаться от жизни в цивилизованном обществе, избавиться от вековых, как полагал он, ошибок истории, довериться только непосредственному чувству. Тогда, полагал Толстой, сам собой устроится рай на земле.
Искренность его устремлений, его громадный художественный дар привлекали к себе внимание всего света, тем более что Россия, мир двигались навстречу великим потрясениям. Многие современники хотели верить тогда, что писатель действительно знает, как предотвратить беду. Но искренне обеспокоенный наступающим разладом, остро улавливая мировое неблагополучие, Толстой, увы, не отдалял, а по-своему даже приближал катастрофу. Он обличал людские пороки, выставлял напоказ «болевые точки» общественного устройства и одновременно стремился разрушить, относя их к тем же «язвам цивилизации», самые прочные, вековые жизненные устои.
У Толстого на все была своя мера. И религиозное учение, которое он создал на склоне лет, доверяясь только собственным представлениям и чувствам, приводило его к постоянному спору с вечными законами мироздания, рождало титаническую попытку изменить эти законы. Он был и «зеркалом русской революции», и самой революцией в одном лице.
Теперь это видится более определенно. А четверть века назад, в 1981 году, когда судьба тесно свела меня с домом на улице Льва Толстого, мои впечатления были неясными, если не сказать растрепанными. Я бросил тогда редакцию всеми уважаемой отраслевой промышленной газеты, где уныло трудился несколько месяцев после окончания факультета журналистики Московского университета. И вот начинал новую жизнь в музее величайшего из писателей. Конечно, главное, что я испытывал, было счастье прикасаться день за днем к русской истории, русской литературе, которые так увлекали меня с детства.
Столичный музей Толстого объединяет несколько филиалов. Хамовнический дом – один из них. Туда меня поначалу и направили: готовить экскурсию, знакомиться с местом, а потом и водить группы посетителей.
На дворе стоял март. Все казалось новым и необычным. Однажды меня попросили выйти на работу в выходной день (случилась какая-то заминка с рабочими), чтобы очистить от снега крыши служебного домика и сторожки. Оба раза я влезал по лестнице на довольно покатую крышу, обвязывал веревку вокруг печной трубы, перехватывал себя за пояс и, скользя, кидал лопатой на землю огромные слежавшиеся снежные пласты. Солнце светило тепло и ярко, от снега и мокрого железа на крыше поднимался последний зимний холод. Было жарко и свежо в одно и то же время. Иногда в увлечении работой у меня мелькала даже довольно глупая мысль, что вот и я, вслед за Толстым, «опрощаюсь».
Впрочем, ничего удивительного. Музей – культовое учреждение, тем более музей, посвященный одной личности. Особенно на первых порах здесь невольно начинаешь испытывать почти родственные чувства к постоянному герою своих размышлений, проникаешься, насколько это возможно, его настроениями. Если же со всех сторон тебя окружает созданная человеком повседневная атмосфера, тут и вовсе не избежать своеобразных «моментов перевоплощения». Мы изучали Толстого много и увлеченно, мы проводили в его доме немалую часть своей жизни и начинали поэтому временами видеть мир как бы «из Толстого». Конечно, толстовцами в полном смысле этого слова ни я, ни мои сотрудники не стали. Более того, нас нередко смешили иные житейские и творческие «чудачества» немолодого писателя (скажем, попытка титулованного дворянина научиться тачать сапоги не хуже профессионального сапожника или стремление «разоблачать» Шекспира как посредственного драматурга), но смешили тепло и по-домашнему. Хотели мы этого или нет, а толстовская мера вещей проникала в наши отношения с действительностью. Не говоря уже о том, что поздний Толстой, его образы, суждения и оценки, нередко выглядел для нас последним критерием истины, когда заходила речь о России, да и о целом мире.
До моего появления в музее Толстого я знал повести и романы писателя не только по университетскому курсу. «Война и мир» со школьной поры волновала меня необыкновенно. Когда в юности я впервые оказался на Бородинском поле, то невольно представлял себе на Курганной высоте большую и неуклюжую фигуру Пьера Безухова, пытался определить место, где стоял в резерве полк Андрея Болконского. Глядя на Псаревский лес, где находились во время сражения русские перевязочные пункты, я воображал встречу раненых князя Андрея и Анатоля Курагина… Меньше занимал меня в то время роман «Анна Каренина», хотя его безбрежная, «воздушная» поэзия (совсем не то что почвенное цветение «Войны и мира») уже покорила меня раз и навсегда. Из позднего Толстого я любил какой-то особенной тихой любовью мятежную и сокровенную повесть «Хаджи-Мурат».
Но была в Толстом огромная область, ранее для меня почти неведомая. Я, конечно, имел смутное (как большинство из нас, особенно в ту эпоху) представление о его поздних духовных исканиях, читал трактат «Исповедь», но даже и представить себе не мог истинный размах религиозно-философского, публицистического творчества писателя в последние десятилетия его жизни. Трактаты «Иследование догматического богословия», «В чем моя вера?», «Так что же нам делать?», огромный по объему трактат «Царство Божие внутри вас» (его черновики, как я узнал тогда, составляют одиннадцать тысяч листов), необъятных размеров книга «Соединение и перевод четырех Евангелий», масштабные книги афоризмов «Круг чтения» и «Путь жизни», десятки малых трактатов и статей…
Все это обрушилось на меня, ошеломило, стало открытием. Все это, даже с точки зрения профессиональной, следовало прочесть или хотя бы на первое время внимательно просмотреть. Ведь огромная часть религиозно-публицистических сочинений писателя создавалась прямо здесь, в хамовническом доме. Как можно было понять без них его поздние художественные замыслы, его жизнь последних десятилетий? Наивно, почти по-детски приходилось и мне решать главную проблему толстовского творчества: где кончается в нем философия и где начинается собственно литература?
Обычно принято думать, что человек, выйдя из юношеских лет, уже сформировался как личность. Так должно быть. Увы, сегодня хорошо видно, что люди моего поколения – те, кто начинал самостоятельную жизнь на рубеже семидесятых – восьмидесятых годов прошлого века, – очень редко имели устойчивые понятия о мире и о себе, легко терялись и путались в окружающей действительности. Конечно, главные представления о том, что хорошо, а что плохо, большинство из нас получили из вековой, сохранившейся всему вопреки культурной традиции, усвоили их в домашнем быту, в общении с друзьями, но ответить на вопрос: почему мы поступаем и чувствуем так, а не иначе? – смогли бы очень немногие.
Да и всегда ли эти представления были истинными? И в частных отношениях, и в поступках гражданских мы сами порой не ведали (ведаем ли сегодня?), что творим. Не говоря уже о той картине мира, которая открывалась, исключая, быть может, немногих, каждому из нас. В школе, в институтах и университетах все мы учились историческому и диалектическому материализму, а в душах и умах царствовал величайший беспорядок. Ущербная идеология была не в состоянии объяснить русским юношам их прошлое и настоящее, объяснить их самих. И мы со всей силой молодости блуждали в тумане, увлекались вещами полезными и бессмысленными, ничего не могли собрать воедино, набивали шишки на ровном месте, разочаровывались, тосковали…
Кто-то из моих сверстников уходил с головой в сочинения Ницше, Шопенгауэра, Кьеркегора… Все это читалось по дореволюционным, бог весть какими путями (запретный плод казался тем более сладок) добытым изданиям. Иные ни с того ни с сего начинали увлекаться буддизмом. Некоторые (чаще для культурного ознакомления) открывали Библию, разумеется в большинстве случаев плохо сознавая, что перед ними Божественное Откровение. Такая мера вещей для нас как бы не существовала. Помню, когда мне впервые предложили («из-под полы», как тогда говорилось) купить Священное Писание, я посомневался недолго и решил (любимое самооправдание атеистов), что книга эта мне не нужна, потому что там все равно ничего не понятно. Но одновременно у меня почему-то существовал устойчивый интерес к древнеиндийскому эпосу Махабхарата…
На первом же месте, конечно, стояла для нас художественная литература. Общество наше было по преимуществу литературным, оно, несмотря на все потрясения, унаследовало эту традицию от минувших веков. Русский театр, кинематограф, музыка, изобразительное искусство – все так или иначе испытали на себе мощное воздействие художественного слова. Поэзия, проза представлялись нам (представляются многим и сегодня) едва ли не высшими из возможных проявлениями духовной жизни. А в том, что духовность пребывает исключительно в культуре, что следить за литературными новинками, посещать выставки, ходить в театр, кино или на концерты – значит жить полноценной и насыщенной духовной жизнью, не сомневался тогда почти никто. В нашем «горизонтальном» (впрочем, часто очень разнообразном и напряженном) существовании мы ведать не ведали о причинах, жили одними только следствиями – и нередко боготворили эти следствия. Культурное достояние, оставленное предками, лучшие создания дня сегодняшнего, естественно, мы продолжали воспринимать в сугубо земном измерении. Чем выразительнее, тем духовнее – казалось многим из нас. Материалистическая наука об искусстве, прочно увязывая чувственное и духовное, даже придумала (как будто речь велась о кулинарии!) такой особенный термин – «эстетическое наслаждение».
Вот в эту легкомысленную, хотя по-своему очень счастливую эпоху я и узнал религиозно-философские трактаты Толстого, заново перечитал его поздние художественные сочинения. Нельзя сказать, что они решительно изменили мою жизнь. Воздух времени, изо дня в день пребывающая с тобой «невыносимая легкость бытия» делали любые впечатления словно необязательными, случайными. Тем не менее какая-то новая мера вещей подспудно открывалась уму и сердцу при этом чтении. Мысли о невозможности для человека жить без веры, о жизни как приготовлении к смерти, о бытии нравственном и безнравственном – в зависимости от того, как исполняет человек на земле Божеские законы, – звучали здесь настолько пронзительно, что трудно было не откликнуться на них, пусть даже и мимолетно.
Размышления писателя о мировом устройстве, к чему бы они ни относились – к государству, войне, революции, к промышленному развитию, гражданским отношениям в обществе, – тоже поражали неизменно религиозным взглядом на вещи. Само сознание того, что ты читаешь нечто религиозное, что перед тобой картина мира, построенная по каким-то прежде неведомым тебе законам, было волнующим и тревожным.
Сегодня хорошо видно: не один Толстой предлагал разуверившимся потомкам и своим современникам выйти из порочного круга атеизма. Более того, выход, им предлагаемый, в итоге, вероятно, грозил еще худшими опасностями, чем простое неверие. Гоголь, Достоевский были в этом смысле куда как надежнее. А разве Пушкин всем строем своего творческого космоса не утвердил на века духовные истины русского мира? Но мы редко способны были в то время отличить грешное от праведного. Даже в литературе Древней Руси мы продолжали искать только «эстетическое наслаждение», даже иконы, помещенные в музеях, разглядывали так или почти так, как смотрим на картины художников-передвижников. А с поздним Толстым ничего подобного не получалось. В его трактатах, его статьях открыто звучал голос чуть ли не современного нам религиозного проповедника. При нашем исключительном доверии к литературе важно было именно то, что это – художник-проповедник.
* * *
Художественные произведения, созданные писателем на склоне лет, конечно, строились по иным законам, чем его публицистика. Но это и не было что-то совсем отдельное от проповеди Толстого. Поэтические образы гораздо откровеннее, по сравнению с «Войной и миром» или «Анной Карениной», служили ему теперь для утверждения собственной веры. Все восходило в этой прозе к единому, оформленному с годами духовному центру. Временами, как то происходило в романе «Воскресение», повести «Крейцерова соната», художественный рассказ у Толстого даже прямо уступал место моральному воззванию. Да и самый выбор сюжетов, не говоря уже о творческом их развитии, выглядел здесь откровенно поучительным. Толстой намеренно выставлял на всеобщее обозрение «неудобные» стороны жизни, те обстоятельства, о которых его современники (люди XX – начала XXI века мало чем от них отличаются) предпочитали не говорить и не думать. Между тем эти болезненные для каждого обстоятельства затрагивали нечто самое главное, для чего человек приходит на свет.
Грандиозный роман «Воскресение» меньше увлекал меня в те годы. Очень многое в нем, казалось, принадлежит все-таки уже далекому времени. Но «Смерть Ивана Ильича», «Крейцерова соната», «Записки сумасшедшего», «После бала» прямо относили читателя к вещам, не подвластным никаким переменам.
Эмоциональное воздействие этих произведений всегда огромно, в каком бы возрасте ты их ни читал. Первая, еще в юношеские годы, встреча с повестью «Смерть Ивана Ильича» произвела на меня настолько ошеломляющее впечатление, что я просто не в силах был увидеть здесь ничего, кроме пугающего, «мучительного» сюжета. Открыл повесть, ожидая найти нечто классически прекрасное, и вдруг погрузился в пучину страданий смертельно больного человека, в переживания смерти, показанные «изнутри» с какой-то незнакомой, единственной в литературе силой перевоплощения. Казалось, то была не литература, а сама жизнь. Точно так же «Крейцерова соната» с ее картинами домашнего кошмара и убийства жены отчаявшимся мужем (сам он рассказывает попутчику в вагоне поезда о том, как это приключилось). А другой кошмар, испытанный героем «Записок сумасшедшего» в одиноком гостиничном номере? А наказание (мучительное убийство) шпицрутенами провинившегося солдата в рассказе «После бала», созданном на материале памятных Толстому 1840-х годов? Вечный дар художника изображать придирчиво точно внутреннюю жизнь своих героев, «опрокидывать» события внешнего мира в их душевный космос оказался теперь необычайно резким, шокирующим, способным выбивать читателя из привычной колеи.
Перечитывая толстовские повести и рассказы в новую жизненную пору, уже прикоснувшись к религиозно-философским сочинениям писателя, нельзя было не увидеть здесь развитие одних и тех же дорогих Толстому идей.
Вот жил себе Иван Ильич поживал, как вдруг нестарым еще человеком заболел и умер. Был он неплохо устроен в жизни, занимал видное общественное положение, имел жену и детей, обзавелся удобной квартирой. И вдруг в момент самого полного благополучия оказалось, что все это не то, что надо встречать смерть, а встречать ее не с чем. Ничего, кроме внешних суетных забот, интересов приобретения и потребления, поиска удовольствий, не было в сознательной жизни Ивана Ильича. Тут легко приходили на память герои-автоматы из «Войны и мира» (какой-нибудь Берг, наконец-то заполучивший в момент оставления русскими Москвы желанную шифоньерочку, или Борис Друбецкой, женившийся «на пензенских имениях» Жюли Карагиной), судейские чиновники (Иван Ильич тоже служил в суде) из более позднего «Воскресения», занятые каждый своими эгоистическими заботами, а не судьбой человека, которого они судят. Тут наряду с толстовскими маленькими наполеонами невольно вспоминался и сам император Наполеон, погруженный «в безумие эгоизма».
Ужасна была смерть Ивана Ильича – от непонятной мучительной болезни, в полном моральном одиночестве. Но еще более ужасной (Толстой настаивал на этом) была его жизнь. Ведь Иван Ильич ни во что не верил, никого не любил (заботу о материальном благополучии своих близких трудно назвать любовью), существовал для собственного удобства и, скорее всего, думал, что так будет продолжаться вечно. Именно безумная, даром потраченная жизнь Ивана Ильича повлекла за собой столь страшную смерть. Даже сама его смертельная болезнь словно нечаянно возникла прямо из этой погони за удобствами – после того как он упал с лестницы и ударился во время обустройства своего нового комфортабельного жилища.
Движение героя повести навстречу смерти оказалось невыносимо трудным, сродни кошмару. При этом было очевидно, что для писателя смерть – не просто исчезновение, но переход, возвращение человека к тому началу бытия, из которого он вышел на свет, с которым связано все подлинное, живое в его земном существовании, все, о чем долгие десятилетия ведать не ведал Иван Ильич. И вот теперь холод и пустота минувших лет, злоба на весь мир за эти несправедливые, казалось герою, страдания не пускали его навстречу тому великому, что ожидает людей за гробом. И никто из окружающих не мог понять, как не понял бы и он сам, наблюдая в минувшие годы болезнь и смерть другого человека, всей значительности происходящего с Иваном Ильичом. Люди привычного ему круга, даже жена и дети, видели в этом мучительном угасании только нарушение своей приятной, посвященной удовольствиям жизни. Наступившая смерть героя (произведение начиналось именно с рассказа о том, как восприняли это известие сослуживцы Ивана Ильича) вызвала у всех, кто его знал, одновременно с приличными случаю сожалениями, кажется, лишь новую жажду наслаждений. Разумеется, художник выступал в этом случае не только проникновенным психологом…
Картины семейной жизни всегда занимали в творчестве Толстого исключительное место. И в «Войне и мире», и в «Анне Карениной» семья выглядела едва ли не главным положительным полюсом земного бытия. Писатель без преувеличения открыл для мировой литературы великую поэзию семейных, домашних отношений в тончайших ее оттенках. Но вот написанная в поздние его годы «Крейцерова соната». Двое измученных браком людей, в жизни которых безобразные, убийственные столкновения-»сцены» лишь на время сменяются гнетущей, сумеречной тишиной. Дети, с малых лет отравленные впечатлениями этой вражды. Прислуга, которая впитывает атмосферу несчастного семейства… И наконец, трагедия – в припадке ревности муж убивает жену.
Казалось бы, случай ненормальный, патологический. Однако за этим «вывихом» слишком хорошо угадывались судьбы великого множества по видимости благополучных семей. Позднышев, главный герой повести, жил так, как живет подавляющее большинство людей его круга: в молодые годы отдал дань порочным удовольствиям, а пришло время – женился на молоденькой девушке из хорошего семейства. Семья казалась ему только новым (теперь уже узаконенным) удовольствием. Его невинная будущая жена тоже невольно усвоила из окружающего мира разлитые в тысячах знакомых с детства вещей (повседневных разговорах, нормах поведения, модах) представления о том, что женщина – это, прежде всего и главным образом, «объект желания», что тем самым она обладает почти неограниченной властью над всеми «жаждущими». Но люди – не животные. Телесные «радости брака», жизнь, построенная на одном только чувственном влечении, создали нечто уродливое, разве что по внешним формам похожее на семью. Более того, они постоянно несли в себе возможность явной катастрофы. Супруги Позднышевы, сами не понимая, отчего так происходит, все глубже заходили в казавшийся безвыходным тупик.
Читая эту очень откровенную, по меркам своего времени, даже невозможно откровенную повесть («Крейцерова соната» стала причиной общественного скандала, вызвала к себе нездоровый интерес), трудно не увидеть и в ней глубинной религиозной мысли. Исповедь убийцы Позднышева (по суду он был оправдан) своему случайному попутчику на железной дороге заключала так много горькой правды о мире атеистическом, ослепленном, о повседневных невидимых ужасах его существования. Утрата, забвение вечных истин семейной жизни: терпения, жертвенности, самоотречения, служения большему, чем твое отдельное «я», высшему началу – делают эту жизнь с ее повседневными тяготами и трудами почти непереносимой. Сам Позднышев, сломленный совершенным преступлением, похоже, стал человеком вконец разуверившимся, не желающим знать ни о каких духовных законах мироздания. Умный, желчный, искренний рассказ героя звучал поэтому удручающе-безнадежно.
Гораздо более оптимистичной (во всяком случае, с точки зрения автора) выглядела судьба центрального персонажа другого позднего произведения писателя – рассказа «Записки сумасшедшего». Жизнь этого человека на протяжении многих лет мало чем отличалась от жизни Позднышева или Ивана Ильича. Но странное происшествие – внезапно испытанный героем (он находился в поездке и остановился на ночлег в обычной провинциальной гостинице) ужас смерти, точнее, ужас собственной жизни, бессмысленной перед лицом смерти, – переменило весь его внутренний мир, заставило отречься от привычного и удобного существования. Еще прежде, чем наступила катастрофа, герой понял, что можно жить не только для тела, но и для души. Сумасшедший с точки зрения людей своего круга, он решил избавиться от мирских привязанностей, жить с народом… Куда привело его это решение, на каких путях – грешных или праведных – продолжились его искания, так и осталось неизвестным. Рассказ не был закончен.
Что и говорить, в атеистической стране, провозгласившей основным жизненным принципом «удовлетворение постоянно возрастающих духовных и материальных потребностей», наследие позднего Толстого, художника и мыслителя, будоражило, открывало молодому человеку почти незнакомые ценности бытия. Сильнее, чем любые другие впечатления тех лет, оно заставляло меня временами (но только временами) думать о Боге как о начале действительно существующем, о нравственных истоках земного счастья и несчастья. Между тем мысли эти, направленные именно по толстовскому руслу, странным образом не приносили радости, успокоения. Они то откровенно пугали, то становились утомительными и скучными.
Молодости свойственно бездумно отмахиваться от вечного, «ловить мгновение», тем более когда весь мир вокруг тебя располагает к этому. Но не только молодость была тому причиной. Обжигающая правда поздних произведений писателя почему-то казалась мне уже тогда правдой неполной, односторонней, и от этого как бы разительной сверх всякой меры. «Это потому так кажется, – говорил я себе, – что ты заодно с героями Толстого, ты живешь по тем же губительным законам, а Толстой знает нечто большее, непонятное тебе, духовное». Только весь опыт еще недолгой жизни: все дорогие мне связи с родными, друзьями, мое восприятие Русской земли, мировой истории, культуры, в том числе лучших страниц «Войны и мира», «Анны Карениной», – не позволял довериться писателю в поздних его творениях окончательно и бесповоротно.
Главное, что меня тревожило, – здесь как будто совсем не было света. Темные стороны жизни, зорко увиденные опасности и угрозы безбожного существования изображались художником, что бы он там ни думал и к чему бы ни стремился, с такой же безнадежно мрачной точки зрения. И от этого действительный мрак становился вопиюще непроглядным, как бы непроизвольно сгущенным. Неужели в сознательной жизни Ивана Ильича все, все без исключения, оказалось настолько уродливым и ужасным? Неужели семейство Позднышевых не знало никогда мгновений радости и счастья? Положим, сам несчастный рассказчик-женоубийца мог находиться в подобном заблуждении. Но разве была в повести мера вещей бо́льшая, чем этот пронзительный рассказ?
Что же касается «философии брака», которую проповедовал Позднышев, то она и вовсе приводила в недоумение. Горькие истины, открытые героем в семейном быту, оборачивались тут полным развенчанием семьи, безоглядным осуждением даже и в семейной жизни плотских, «свиных» отношений мужчины и женщины, приводили к очевидной демагогии в вопросе о продолжении человеческого рода. «Но Позднышев – не Толстой, он только литературный персонаж», – замечал я с полным на то основанием. И открывал «Послесловие к „Крейцеровой сонате“», где находил многие из тех же мыслей, высказанных писателем уже «от себя», «в пояснение» к собственной повести.
Странное, двойственное чувство оставляло во мне это прикосновение к духовной жизни «через Толстого». С одной стороны, вопросы вероисповедные, религиозные впервые встали передо мной как вопросы самые существенные. С другой же стороны, оказались они настолько смутными, даже гнетущими (как бы ни убеждал я себя в обратном), что невольно хотелось от них избавиться. Почитаешь, подумаешь – и через час, через день, через неделю невольно себе признаешься: если такова духовная жизнь, то до чего же она грустна!
Иначе и быть не могло. Картина мира, созданная писателем в поздних его произведениях, как ни одна другая, точно запечатлела недуги и конфликты русской жизни в их непосредственном, чувствительном проявлении. Но все же тут возникла совершенно особая творческая вселенная со своими исключительными законами и ценностями.
Психологическая правда художественных картин и образов почти всегда подчинялась у позднего Толстого его собственным представлениям о добре и зле, о путях исцеления страдающего человечества. Толстой не верил, подобно поколениям своих соотечественников, что мы живем в мире прекрасном, но все-таки грешном, что каждому из нас после смерти предстоит держать ответ за наши дурные и добрые дела, что в жизни вечной есть Царство Небесное – рай, уготованный праведникам, и «геенна огненная» – ад, куда попадут грешники. Мир не казался ему полем битвы за живую душу между Святой Живоначальной Троицей и врагом человеческим – дьяволом.
Писатель думал и учил, что все устроено проще. Есть бесконечное, доброе, безличное начало – Бог. И есть человек, животное, растение – своего рода нервные окончания этого великого целого. Психическая, эмоциональная жизнь представлялась Толстому божественной, совершенной (вся сложность мира как раз и состояла для него в бесконечном многообразии «чувствительных» явлений). Каждая мысль, каждый поступок человека, полагал он, божественны, «праведны», если они подсказаны непосредственным переживанием. Все прочее – ошибка цивилизованного развития. Достаточно освободить чувство от всего «головного», отвлеченного, довериться ему – и мир засияет светом любви и добра. А придет время умирать – каждый из нас, утратив собственную личность, просто (не так, как посвятивший себя «отвлеченностям», забывший в повседневных страстях «истину чувства» Иван Ильич) сольется с безличным божеством. В жизни, казалось писателю, нет и не может быть виноватых, есть только «понимающие» и «непонимающие». И он хотел сделать «понимающими» всех.
Конечно, «революция Толстого» началась много раньше. Мысли основать новую религию, «не обещающую будущее блаженство, но дающую блаженство на земле», посещали художника уже и в молодую пору. Воспитанный в православной вере Толстой рано познакомился также с далекими от христианства философскими учениями Запада. Самую же дорогую для себя «внутреннюю опору» он нашел в сочинениях французского мыслителя и романиста Жан Жака Руссо, провозгласившего, что живая природа, эмоциональный мир человека священны.
Юноша Толстой скоро почувствовал себя обладателем собственной веры. Долгие десятилетия он то слабел в этой вере, то заново укреплялся в ней. Явно или потаенно она дала о себе знать во всех его жизненных начинаниях, его непостижимо богатом раннем и зрелом художественном творчестве. На рубеже 1870–1880-х годов наступил решительный момент, когда убеждения писателя оформились и укрепились. Он выступал отныне как религиозный учитель, готовый переустроить вселенную.
Вот откуда возникала разительная парадоксальность позднего творчества писателя. Толстой изображал действительный мир, утративший память о Боге, но при этом все-таки имел в виду по большей части своего собственного бога, а стало быть, сам принадлежал этому грешному миру. Толстовская духовность вся «разместилась» в области земных естественных переживаний. Величие и драматизм мировой духовной борьбы – борьбы дьявола против Бога, перенесенной в земной мир, суть и смысл истории как движения отпавшего от Бога человека к новому соединению с Творцом через череду отступлений, падений, катастроф словно остались за пределами позднего творчества художника. Он прекрасно слышал отголоски этой великой брани, но был уверен, что тут совершается «иная борьба»: между «человеком чувствительным» и пленившим его «нечувственным», цивилизованным порядком вещей. Художественный образ бытия становился одновременно упрощенным (при всем его психологическом богатстве) и крайне запутанным в своем отношении к действительности.
* * *
Ту часть хамовнического дома, где расположен кабинет писателя, Толстые в шутку называли «катакомбами». Это антресоли – половина второго этажа с необыкновенно низкими потолками, никогда не подвергавшаяся перестройке. Из большого зала спускаешься по нескольким высоким деревянным ступенькам – и попадаешь в темный коридор. Пройдя в сумерках мимо комнат по сторонам (коридор освещен только из открытых дверей), упираешься в небольшое помещение со столиком для сапожных работ, простым платяным шкафом, умывальным прибором. Рядом – крутая лестница на первый этаж, к черному ходу. За стеной рабочей комнатки, под таким же низким потолком, – кабинет Толстого.
Прикосновение к повседневной жизни великого человека всегда или почти всегда вызывает у нас чувство наивного удивления. Нам нелегко соединить в сознании внутренний мир творца и тесные земные рамки, в которых он осуществился. И потому эти мелочи быта, такие знакомые каждому, эти понятные, видимые приметы творческой работы по контрасту с масштабом личности особенно трогают нас. Но, сами того не замечая, растроганные «привычками обихода», мы уже начинаем узнавать человека «в его сердцевине», незваные гости, посещаем его «душевный дом».
Обычно кабинет Толстого можно увидеть только из дверей соседней, рабочей комнаты. За годы, проведенные в музее, при разных обстоятельствах я несколько раз видел его изнутри. Обтянутый зеленым сукном письменный стол «с решеточкой». Он стал знаменит благодаря портрету, написанному с натуры художником Николаем Ге, другом и религиозным сподвижником Толстого в последние десятилетия XIX века. Толстой писал и Ге писал, наблюдая за ним вот примерно отсюда, где теперь находишься ты. Тут же, в комнате, – пюпитр; к нему писатель становился, уставая работать сидя. Обтянутые черной кожей большие диван и кресла. Книг почти нет: библиотека во все время московской жизни Толстых оставалась в Ясной Поляне (сотни необходимых Толстому для работы изданий приносили ему из библиотек). Весь пол покрыт шинельным сукном – шагов не слышно. За окнами сад.
И внутренняя обстановка кабинета, и еще больше его уединенное расположение в доме, это шествие к нему через темные «катакомбы» невольно приводят на память все, что ты слышал и знаешь о монашеских кельях, где посвящают себя молитвенному труду, о подвиге первых христиан, уходивших под землю от гонений языческого мира. Но ясно, что перед тобой какая-то особенная келья – без икон, без креста. Кабинет довольно просторен. Может быть, именно это обстоятельство в сочетании с низким потолком вызывает непреодолимо «горизонтальное» чувство, словно ты можешь сколь угодно далеко двигаться вширь, но не в силах подняться выше определенного предела. Почти как та духовность, что открылась тебе в повестях и трактатах Толстого. И несмотря на всю свою слепоту в духовных вопросах, ты понимаешь: если коридор – это катакомбы, то катакомбы именно в переносном значении слова, если кабинет – это келья, то келья, где веруют и молятся на свой отдельный манер. Словно какая-то новая сила стремится тут облечь себя в тысячелетние формы отеческой святости.
С домом в Хамовниках сегодня прочно связано представление о перевороте в жизни и мировоззрении Толстого на рубеже 1870–1880-х годов. И действительно, здесь полнее, чем в Ясной Поляне, которая помнит также и другие времена, ощутима атмосфера «послепереломной» жизни писателя. До чего же трудно было понять самому, тем более объяснить на экскурсиях, что происходило с Толстым в поздние его годы! Так ли это просто сделать и сегодня?
В ту пору нам предлагался и даже считался обязательным вполне определенный ответ: граф Толстой «перешел на позиции патриархального крестьянства». Многое в обстановке хамовнического дома подтверждало эту ленинскую формулу. Стремление писателя «оторваться» от своего сословия, переменить жизнь барина на жизнь мужика ясно угадывалось тут по многим вполне очевидным приметам. Разве не служили лучшим тому доказательством его личные комнаты? Зато обустроенная по вкусу жены писателя, Софьи Андреевны, ее любимая красная гостиная ни в чем не походила на расположенные рядом рабочую комнатку Толстого, его кабинет-келью. Сам он не любил эту огромную и яркую гостиную, осуждал ее богатое, «дворянское» убранство. Впрочем, не имея возможности увлечь за собой семью (кроме обосновавшейся в «катакомбах» – поближе к отцу – дочери Марии, никто из домашних не разделял вполне его убеждений), Толстой оказался вынужден, как и другая сторона, идти в повседневном быту на компромиссы.
В творчестве, однако, он был непримирим. Мысли о нравственном превосходстве трудовой жизни народа над «паразитическим сумасшествием» господ постоянно звучали в ту эпоху на страницах его трактатов и статей. Художественные замыслы Толстого так или иначе тоже развивались в этом русле. Нельзя было не увидеть, особенно по контрасту с картинами бессмысленного «барского прозябания», как «теплел» художник, едва заходила речь о мире народном, крестьянском. Даже люди, потерявшие себя, но все-таки связанные с народной средой, выглядели, с точки зрения писателя, далеко не столь «безнадежными», как Иван Ильич, как великое множество других «погубителей» собственной жизни.
Казалось бы, купец Василий Андреич Брехунов из большого рассказа «Хозяин и работник» был во всем сродни опустошенным, не ведающим ни о чем, кроме собственного благополучия, персонажам позднего Толстого. Главной, любимой его заботой сделалось приобретение, увеличение и без того немалого богатства. Довольство собой, чувство своей непогрешимости вошли у него в плоть и кровь. И вот неутолимое стремление к наживе (он хотел успеть раньше других выгодно купить рощу у соседа-помещика) однажды повлекло Василия Андреича из дому в ненадежную зимнюю погоду, заставило по начавшейся метели, уже раз заплутавши, пуститься опять в дорогу, обрекло на смерть окончательно сбившихся с пути хозяина и его работника Никиту. На краю гибели, в открытом поле, ночью, посреди снежной бури Василий Андреич, еще не понимая как следует, что его ожидает, все утешался, перебирая в уме нажитое имущество. Он даже решил поначалу (оправданием служили ему мысли о собственной значимости и превосходстве над «никчемным» Никитой) бросить работника замерзать одного, лишь бы самому уцелеть. Но пробил последний час, и потерявший себя в мирской суете хозяин опомнился: накрыл едва не погубленного им Никиту своим тяжелым телом, накрыл как брата, сам замерз, а работника спас.
Этот трогательный рассказ заметно отличался от увидевших свет в одну с ним эпоху произведений писателя, посвященных избранным сословиям, «паразитам жизни», как называл их теперь Толстой. Мне же всегда казалось, что «Хозяин и работник» занимает особое место и среди «народных» замыслов позднего Толстого – так много в нем свободной, непреднамеренной поэзии. Захватывающе яркими оказались на его страницах картины народного быта, зимней природы, образы людей, встреченных путниками в дороге, даже образы животных.
Между тем, конечно, бросалось в глаза, что особенно дорогим для писателя выглядел здесь труженик Никита, не чуждый человеческим слабостям, но безропотный, неутомимый, любящий все, что окружает его в мире. Именно этот образ на протяжении рассказа служил постоянным напоминанием о ценностях жизни, которые «померкли» для увлеченного стяжанием Брехунова. Писатель определенно видел в нем отражение последней народной правды, какой она представлялась ему в «послепереломные» годы. Не случайно в повести «Смерть Ивана Ильича» появлялся однажды словно другой Никита – такой же кроткий, трудолюбивый буфетный мужик Герасим, единственный среди всех способный понять, что происходит с героем («Все помирать будем»), и готовый своим участием облегчить страдания умирающего.
Толстой никогда, даже и в поздние свои годы, не был склонен приукрашивать людей из народа. В том же «Хозяине и работнике» угадывалось проникновенное знание народной среды, в том числе ее тяжелых, мрачных сторон. Но такие всесторонние, богатые описания русского почвенного мира всегда заключали в себе (в отличие от беспросветных картин «господской» жизни) некие «проблески» идеала. И странным образом идеал этот почти не отличался от того «природного» источника добра и света, который утверждался в повести «Холстомер» – настоящем жизнеописании лошади.
Пожалуй, ни одно другое произведение Толстого не создавалось так долго и не было настолько дерзким, экспериментальным. Пегий мерин, который рассказывает другим лошадям свою историю, – этот замысел появился у писателя еще в конце 1850-х годов. Но вернулся Толстой к давным-давно отложенной рукописи только четверть века спустя, уже в «послепереломное» время. Новые идеи заметно преобразили то, что было намечено много лет назад. В повести одновременно с рассказом лошади укрепился «человеческий» сюжет, зазвучало явное противопоставление изуродованной людьми, но прекрасной жизни Холстомера и бессмысленной, дикой, даже отвратительной судьбы бывшего одно время его владельцем «ходячего мертвеца» князя Серпуховского. Особенно разительным оказался контраст между посмертной участью одного и другого. Зарезанный по старости Хо л стомер (его уход, показанный «изнутри», – мощная и едва ли не самая удивительная картина смерти у Толстого) просто слился с природой, послужил продолжению жизни. А Серпуховской и после своей физической смерти оказался ни на что не годен. Обычно несвойственный Толстому вызывающий натурализм в описании этого затянувшегося погребения предельно заострял новые мысли писателя о жизни людей своего круга. В нем появилась брезгливая, даже как будто мстительная интонация.
Как часто слышалась она в публицистике, в религиозных трактатах Толстого! Отречение от «прогнившего», по его мысли, дворянского сословия сопровождалось у писателя гневным осуждением ненавистных ему отныне условий существования, осуждением порой даже собственного творчества минувших лет. И все это протекало под знаком вновь обретенной «мужицкой правды». Только правда эта, какой она виделась Толстому, почти не выходила за границы живой природы, подчинялась ее простым, чувствительным законам, была правдой Холстомера.
Не знаю, память ли о моих прадедах-крестьянах, простое ли чувство справедливости, но только что-то не позволяло мне согласиться вполне с таким вот естественным пониманием народной жизни. Писатель словно хотел наделить эту жизнь своим, глубоко личным (разумеется, выстраданным), представлением о ней. Но при чем здесь тогда «переход на позиции патриархального крестьянства»? Это, скорее, «наполнение» жизни крестьянина (так хорошо знакомой Толстому по внешним приметам, по ее психологическому рисунку) новым, самовольно определенным жизненным смыслом, в лучшем случае, высвечивание в народном мире (временами до искажения зрительной перспективы) только природных, чувствительных сторон бытия. Значит, Толстой стремился утвердить в собственной жизни нечто ему одному принадлежащее, свои особенные представления о народе?
Суть перемен, которые произошли с писателем в новую жизненную эпоху (это становилось ясно из всего мной прочитанного), следовало искать вовсе не в «переходе на другие классовые позиции», а в той самой духовности, той религии, что влекла меня к себе и одновременно пугала. Толстой требовал от современников и потомков жить «по-божьи», «любовно», так же как живут, по его мнению, лучшие люди из народа, его цвет. Но понятие о божественном он вывел для себя сам, создал ему под стать на старости лет и свой идеальный народный тип.
Цивилизация – все, что не принадлежит миру естественных, природных явлений, – часто представлялась ему и в прежние годы силой, враждебной подлинным началам бытия. Но теперь Толстой ощутил действительность как настоящий цивилизованный кошмар. Государство с его вооруженными силами, судебной системой, тюрьмами, границами представилось ему безбожным орудием стеснения, осквернения, истязания невинной и прекрасной божественной природы. То же самое промышленность, которая уродует жизнь. Сословные, хозяйственные, правовые нормы, отношения собственности (Холстомер не понимал, почему люди называют себя его хозяевами) – все это были, с точки зрения Толстого, злокозненные или безумные изобретения – лишь бы не состоялся уготованный человеку, животному, растению рай на земле. Культура, которая не учит естественному добру, также казалась ему бессмысленной, даже вредной. Вся военная, политическая история человечества представала в его глазах беспрерывной чередой цивилизованного «мучительства». Жуткий обычай наказания шпицрутенами (он пришел к нам из Западной Европы), изображенный в рассказе «После бала», кажется, полностью исчерпывал содержание государственного прошлого России, каким его теперь видел художник.
Многое из того, о чем он говорил, было несомненной правдой. Недуги современности, вырастающие из них угрозы для будущего Толстой угадывал на редкость прозорливо. И в то же время, шаг за шагом утверждая свою веру, он из лучших побуждений словно грозился уничтожить, растоптать всю общественную жизнь в ее драматичной сложности и многообразии. Что же останется человеку, осуществись на деле призывы писателя? Ум терялся в этом изощренном переплетении истины и заблуждения (разумеется, тогда я не мог называть заблуждениями парадоксы позднего Толстого), не было никакой возможности понять, где кончается истина, где начинается заблуждение.
Только одно открывалось мне со всей очевидностью. Толстой часто и охотно говорил в это время о братской любви, о мире. Но сам он, похоже, не знал умиротворения. Как ожесточенно, с каким раздраженным сердцем бичевал он «пороки цивилизации»! Как тяжело и мрачно стремился обратить человечество в свою веру! Искренне желая мира, он вел бесконечную войну. Его московский дом помнил, увы, не много счастья.
Что поделать! Видно, бог, которому он посвятил себя, оказался совсем не таким, каким вообразил его писатель, – служить ему значило снова и снова осуждать, язвить, уничтожать… Вероятно, существовали в мире какие-то высшие законы, иные, чем толстовская вера, чем добрые намерения одного, пусть даже безмерно одаренного человека. Но понять эти законы я не мог, только чувствовал порой (в том числе читая ранние и зрелые произведения Толстого, лучшие страницы поздней его прозы), что мир устроен богаче, сложнее, чем это виделось писателю на склоне лет.
* * *
Направляясь по утрам к новому месту работы от станции метро «Парк культуры», а ближе к вечеру возвращаясь обратно, я всегда проходил мимо действующей церкви (многие храмы тогда были закрыты) Святителя Николая в Хамовниках. Этот очень нарядный, совершенный по своей архитектуре старинный московский храм всегда радовал меня. Даже в самом унылом настроении окинешь его взглядом – и на душе становится светлее.
Однажды, еще студентом, я побывал там на службе. Мы с друзьями решили тогда необычно провести пасхальную ночь. Отмечать Пасху в то время никто не запрещал, но это и не приветствовалось, а члены партии, уличенные в «симпатиях к религиозным обрядам», даже могли ожидать больших неприятностей. Обычным для нас было сидеть дома и смотреть развлекательные программы или собираться веселой компанией, петь песни под гитару, в хорошую погоду болтаться по ночной Москве. Что ни говори, а Пасху помнили и в нашем атеистическом мире. Она никогда не проходила, не могла пройти незамеченной. Чувство праздника разливалось в воздухе… и устремлялось в русло единственно понятных большинству из нас безбожных радостей жизни. Подлинный же праздник совершался вдалеке, для нас незримо. Вот мы и решили (партийных среди нас не было) отправиться посмотреть, как это бывает. Выбрали именно Никольскую церковь в Хамовниках.
Придя уже где-то после двенадцати, крестного хода мы не застали. Вблизи храма было довольно многолюдно. Несколько дружинников с красными повязками, заменяя собой милицию, наблюдали за порядком. Один из них то ли укоризненно, то ли предостерегающе спросил: «Ребята, вы комсомольцы?» – но проходу в церковь не препятствовал.
Это был второй случай, когда я в сознательной жизни (до этого младенцем меня крестили по настоянию моих бабушек) посетил храм. Богослужение я наблюдал со стороны, никак не участвуя в нем, почти ничего не понимая. Возникало только чувство, что я нахожусь в мире таинственном и бесконечно далеком от всего, что я знал до сей поры. Помню, меня удивило, когда одна из моих сокурсниц зажгла и поставила свечу, а потом по ходу службы несколько раз крестилась. Сам я не мог не ощутить стройности богослужения, красоты праздничных песнопений, радости и торжества молящихся, в основном немолодых людей, а главное, какой-то незнакомой гармонии, в которую сливались убранство храма, священники и прихожане, звуки, краски, запахи, свет. Эстетические впечатления наполнялись тут еще какой-то неведомой объединяющей силой, искусство переставало быть только искусством. Но, случайный наблюдатель, я скоро устал просто так стоять в храме. Устали и мои друзья. Часа через полтора мы ушли. Ни в этой, ни в другой церкви я не был с того случая много лет. За время работы в музее любовался храмом Николы в Хамовниках со стороны, но даже мысли не возникало войти в него.
Очевидно, в годы московской жизни Толстой нередко проезжал или проходил мимо Никольского храма. Церковь эту много раньше он упомянул на страницах «Войны и мира» в рассказе о том, как французы, покидая Москву, гнали с Девичьего поля на Калужскую дорогу русских пленных, и среди них Пьера Безухова. Из дома в Хамовниках писатель иногда ездил за водой на Москву-реку (водопровода в доме не было). Почему-то мне представляется такая картина: рано утром с большой бочкой, поставленной на сани, в мужицком полушубке, словно простой работник из барского дома, вниз по Долгохамовническому переулку (так называлась тогда нынешняя улица его имени) едет Толстой, минует храм по левую сторону от дороги. Должно быть, в это время суток там шла литургия. Смотрел ли Толстой на храм или проезжал так, будто рядом пустое место? Если смотрел, то что он испытывал? Или он избирал для своих поездок все-таки другой, окольный маршрут, только бы не видеть храма? Но где в Москве не увидишь храма?
Отвергая в главном и в мелочах все существующее мировое устройство, писатель был как-то особенно беспощаден, когда заходила речь о Церкви. «Переворот» в мировоззрении Толстого, собственно, и начался с того, что художник отрекся от православной веры, в которой он был крещен. И дальше его религиозное учение складывалось в постоянной борьбе с Православием. Читая некоторые из поздних высказываний Толстого «по церковному вопросу», даже мне, человеку неверующему, становилось тяжело и грустно.
Себя он считал истинным христианином, который вернул вековому исповеданию веры его подлинное значение и смысл. При этом Толстой привычно для себя исходил из понятия о безличном божестве, которое проникает собой весь эмоционально отзывчивый мир. Стремясь доказать свою правоту, он заново (с точки зрения Церкви, для мирского человека дело немыслимое, греховное) перевел с греческого языка (который знал не совсем твердо) четыре апостольских Евангелия: от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Перевод сопровождался обширными комментариями Толстого. В итоге получилось «толстовское евангелие»: укорененное в почве, провозгласившее божественными законы живой природы. Нечего и говорить, что тем самым Толстой отрицал всю святоотеческую церковную традицию, все, во что верили и веруют поколения православных христиан. Он называл Иисуса Христа земным человеком и мудрецом, который лучше других понял бога. Он запросто «отменял» понятия о Святой Живоначальной Троице, о грехе и его искуплении. Само православное богослужение показалось ему бессмысленным: чтобы молиться «естественному богу», Церковь не нужна.
В Евангелии Толстой особенно выделял заповедь о долге христианина любить своих врагов и учил ненасильственно противиться злу. Но где находилась граница между добром и злом в его новом религиозном учении? Кто мог ее определить? Только сам Толстой с его представлениями о мире. Естественное добро и цивилизованное зло – здесь было так много личного! Церковь с ее без малого двухтысячелетним опытом утверждения истины, различения добра и зла, неустанной борьбы с темными мировыми стихиями стояла на пути этих своевольных воззрений. Тем более она казалась Толстому последним воплощением «зла цивилизации». И он «ненасильственно» – только силой данного ему таланта – решил бороться с ней, объявил ей войну.
В то время, когда только начиналась моя работа в музее Толстого, для меня почти невозможно было представить себе весь масштаб духовной трагедии, пережитой писателем на склоне лет. А между тем, утверждая свою «нецерковную» народность, явно намереваясь «вырвать» Христа Спасителя из души русского народа, вложить в нее плоское представление о человеке Христе – своем предшественнике, Толстой восставал против самых глубоких основ, создавших и укрепивших Россию, против того источника света, который один способен нести в мир тишину и благоденствие. Он до такой степени посвятил себя «религии безгрешного человечества», сроднился с «чувствительной» материей, что, кажется, утратил всякую возможность различать вечно пребывающие в земном подлинно духовные, таинственные, неземные начала. Смирение, покаяние перед Богом в их православном значении оказались для него непостижимы. Он грозился пошатнуть непонятную, чуждую его мирским воззрениям Вселенскую Церковь, вековую хранительницу спасительных истин, и тем самым заранее обрекал себя на поражение: вечную душевную борьбу, смятение, разлад со всеми и с самим собой.
Когда Толстой говорил о Церкви языком художественной прозы, он, разумеется, избегал (насколько ему это удавалось) публицистической прямоты и откровенности. В романе «Воскресение» он даже показал вполне «нейтрально», если не сказать сочувственно (это один из наиболее ярких эпизодов произведения), ночное пасхальное богослужение. Но в том же романе появились невиданные в русской литературе главы, где писатель самым издевательским образом описывал Божественную литургию, совершаемую в тюремной церкви.
Это было вопиющее свидетельство художника о своей религиозной исключительности. Обычно же в повестях и рассказах той поры Толстой просто упоминал о Церкви как о чем-то несущественном, постороннем, далеком от божественного (так ему представлялось) естественного порядка вещей. Он хорошо знал, что подавляющее большинство русских людей из народа – православные христиане, для которых таинства Церкви есть сама жизнь, но не смущался этим обстоятельством. Даже если его любимые герои посещали храм, произносили православные молитвы, то, скорее, лишь по навязанной сверху «цивилизованной» привычке, а все подлинное, «священное» в их жизни совершалось помимо храма.
Зато персонажи «помраченные» нередко выступали у Толстого в полном внутреннем единстве с Церковью. Вот Василий Андреич Брехунов из «Хозяина и работника»: он и забывший Бога стяжатель, он и церковный староста, запросто наедине с собой одалживающий приходские деньги для собственных приобретений. И дело не в том, что такие, мягко говоря, плутоватые старосты, очевидно, встречались и, увы, встречаются в России, а в том, что Василий Андреич выглядел тут вполне показательным «человеком Церкви».
На страницах романов и повестей Толстого в качестве эпизодических действующих лиц довольно часто появлялись православные священники. До начала 1880-х годов он говорил о них уважительно, в духе народной традиции, а в «послепереломную» пору – нередко насмешливо, с плохо скрываемым раздражением. Но всегда это был (в отличие, скажем, от посвященных духовному сословию произведений H. С. Лескова) взгляд «извне», без «погружения» во внутренний мир персонажей, без желания понять обстоятельства их жизни. Созданная писателем на склоне лет повесть «Отец Сергий» представляла собой единственную в его творчестве попытку показать мир православного духовенства «изнутри».
Едва ли эта попытка с самого начала предполагала сколько-нибудь объективное художественное исследование. Скорее всего, в жизнеописании главного героя повести, Степана Касатского (в монашестве отца Сергия), Толстому были заранее ясны его итоги, во всяком случае итоги отрицательные. Так и получилось. Обидевшись на весь свет, в прошлом гвардейский офицер Касатский ушел в монастырь. Но, проведя много лет в затворе, прославившись на всю Россию как чудотворец, исцеляющий недуги, он тем не менее не смог смириться и пал, не выдержав борьбы с грехом. По Толстому выходило, что Церковь в деле спасения не помощница, что она служит не Богу, а людям.
Что же касается итогов положительных, то Касатский обрел новый смысл жизни после встречи с подругой детства, Пашенькой (ему приснилось, что он должен бросить келью и обязательно найти постаревшую к тому времени Пашеньку). Кроткая, безропотная во всех невзгодах Прасковья Михайловна явилась ему как подлинный идеал служения Богу. Вот так же Толстой в одно из своих посещений Оптиной пустыни, прославленного в XIX веке подвигами иноков-старцев русского монастыря, раздраженно начал доказывать старцу Амвросию, что истину знают не он – Амвросий, и даже не он – Толстой, а рабочие-строители, которые трудятся за окном. После встречи с Пашенькой Касатский пошел странствовать по России, попал в острог, был сослан в Сибирь, где осел на заимке у богатого мужика, занимаясь огородом, лечением больных да обучением хозяйских детей.
Повесть «Отец Сергий» была популярна среди интеллигенции в годы моей молодости. Этому способствовал и незадолго до того увидевший свет одноименный кинофильм с Сергеем Бондарчуком в главной роли. Произведение Толстого казалось тогда одним из немногих «окошек» в непонятный и все-таки интересный советскому человеку мир Православия. Тем не менее открывалось из этого «окошка», конечно, совсем не Православие. Безусловно, писатель старался на страницах повести точно передавать внешние приметы церковной жизни, но при этом не хотел и, вероятно, не мог переменить своего взгляда на Русскую Церковь. Суть и смысл монашеского подвига – смирение, неустанное противостояние греху для стяжания духа святого, стяжания благодати – казались Толстому чем-то пустым, посторонним по отношению к тем ценностям, которые сам он почитал истинными.
Посвященная эпохе расцвета монастырей в России, времени святых Игнатия (Брянчанинова), Феофана Затворника, Филарета (Дроздова), времени великих оптинских старцев повесть Толстого и в малой степени не смогла передать дух русской святости. Как раз наоборот: Толстой «вложил» в созданную им достоверную по внешним приметам картину монашеской жизни почти исключительно собственные представления о ней. Получалось, что герой повести Касатский по-настоящему приблизился к праведной жизни не тогда, когда жил в затворе и совершал чудесные исцеления, а только покончив с монашеством, уйдя в мир с его простой, «естественной» святыней. Если даже в его иноческой жизни и случались яркие моменты просветления, то происходили они как бы независимо от Церкви. «Психологический ключ» – тончайшее знание эмоционально-психической жизни человека, «отпиравший» для Толстого любые области земного бытия, оказался в этом строго духовном случае неподходящим.
До моего прихода в музей я очень мало знал о событиях, связанных с отлучением Толстого от Церкви в начале 1901 года. Теперь же с удивлением обнаружил, что отлучения по церковному чину вовсе не было. Толстому не пели, как некогда Григорию Отрепьеву или гетману Мазепе, анафему в церквах. Можно предположить, что кто-нибудь из батюшек на местах проявил излишнее усердие и анафему таки пропел, но если это и происходило, то исключительно «в частном порядке». Святейший синод выпустил Определение об отпадении Льва Толстого от Церкви. В нем были перечислены причины, по которым Церковь не считала больше Толстого своим членом (формально до этого времени писатель числился православным). Тут получил признание давно состоявшийся факт, и сам Толстой ничего не мог возразить по существу вопроса: он только оспоривал с точки зрения своей веры формулировки Определения. Возможности покаяния и возвращения в лоно Церкви Толстого никто не лишал.
Известие о своем «отлучении» писатель получил в хамовническом доме, и сюда же поступали к нему многочисленные отклики на Определение Синода: реже увещевательные – от верующих, в большом количестве сочувственные, осуждающие Церковь – от тех, кто называл себя прогрессивной общественностью. Сам я все-таки очень приблизительно представлял себе религиозные воззрения Толстого, тем более ничего не знал о Православии. Понять глубинное существо конфликта для меня не было никакой возможности: он еще не затронул по-настоящему моего сердца. И потому на экскурсиях, стоя у дверей кабинета писателя, видя перед собой стеснившихся в рабочей комнатке, а то и оставшихся в коридоре, за ее порогом, посетителей музея, я просто сообщал факты, старался передать волнения и тревоги в семье Толстых, вызванные «отлучением». Но все же невольно склонялся на сторону писателя, представлял его стороной страдающей, несправедливо обиженной. Гений Толстого, что ни говори, был для меня в ту пору некой последней ценностью, выше которой не найти. В этих стенах побывали чуть ли не все знаменитые люди своего времени: писатели, художники, композиторы, музыканты, актеры! Вот что я понимал. А Церковь значила для меня так мало…
После одной экскурсии как-то подошли ко мне два молодых человека, примерно моих ровесника. Эти свежие бородатые люди, оба в костюмах, постоянно обращали мое внимание и во время нашего шествия по дому. «Священники», – подумал я. Так и оказалось. Оба они были молодые батюшки, только что закончили семинарию. Кажется, они похвалили мою экскурсию. Мы разговорились. Они что-то спрашивали о Толстом, я охотно рассказывал все, что знал. Только под конец нашей беседы один из них почти смущенно заметил: «А все-таки нам показалось немножко наивным то, что вы говорили о Церкви…»
Что я мог ответить? В глубине души я прекрасно чувствовал их правоту. Иногда у меня возникала целая череда вопросов. Толстой сам, по своей воле, отрекся от Церкви. Мало того: он делал все, чтобы ее разрушить. И вот через двадцать лет, после нескольких обращений к писателю священников различного ранга, Церковь признала этот факт состоявшимся, несомненным. Против чего же так негодовали сторонники прогресса? Если сам писатель не хочет принадлежать к Церкви, то Определение Синода только упрощает дело. Может, они считали, что Толстой православен, а Церковь не православна? Но ведь это очевидная нелепость! Значит, они вслед за Толстым тоже отпали от Церкви? Вместо согласия им нужна была вражда, революция? А разве я вольно или невольно не повторяю вслед за ними почти то же самое, что говорилось в начале тревожного XX века? Или мы все дети единой, не сегодня начавшейся эпохи и Толстой, называющий себя христианином, все-таки один из ее духовных отцов и выразителей? Не было конца таким вопросам.
* * *
С той весны, когда я водил экскурсии по дому в Хамовниках, прошло больше десяти лет. Я давно уже не работал в музее, но творчеством Толстого, изучением его жизни продолжал заниматься профессионально. Поэтический мир писателя, особенно раннего и зрелого периодов, начинал все больше открываться мне в его ослепительном богатстве и сложных, почти неразрешимых парадоксах. Теперь я часто видел в Толстом едва ли не самого исторического человека двух последних столетий – так полно отразилось в его судьбе движение русского мира со всеми взлетами и крушениями.
Кончилось время, которое теперь называют застойным. Началась новая смута на Русской земле. Еще не до конца понимая, что происходит, мы утратили наше Отечество в его вековых пределах, заметались, потеряли голову. Что до меня, то я испытывал чувство огромной, со всех сторон наползающей душевной тяжести, почти физически ощутимой нравственной тошноты.
Однажды я поехал осенью в Ясную Поляну. Покончив с делами, посетил одинокую могилу Толстого в лесу на краю оврага, а затем отправился пешком в расположенное неподалеку село Кочаки, где на православном кладбище похоронены родные писателя. В Ясной Поляне мне приходилось бывать не раз, но все оказывалось недосуг посмотреть это место.
Дорога заняла чуть меньше часа. По пути я пытался объяснить себе то странное чувство, которое вызывает у меня могила Толстого. Все так скромно, так безыскусно, такая богатая природа вокруг. Но отчего-то словно кружится голова. То ли это от уходящего вниз оврага, то ли от странной игры света, проникающего сюда сквозь кроны деревьев?
Но вот я очутился в небольшом поселке. В конце короткой улочки стояла церковь, купол которой я видел еще издалека. Подобно храму в Хамовниках, она тоже посвящена Николаю Чудотворцу. Подойдя к церкви поближе, я увидел рядом с ее вратами главный вход на кладбище, а справа, за алтарной частью храма, низенький, почти символический забор с такой же невысокой калиткой. Почему-то я выбрал именно калитку – и сразу попал на ту часть сельского кладбища, где похоронены Толстые.
Кладбище было в тот момент совершенно безлюдным. Я остановился у выкрашенного белой краской каменного склепа. Прочел, что тут лежат отец и мать Толстого, его рано умерший брат, Дмитрий. Рядом увидел надгробие его деда, князя Волконского. Дальше, проходя между могилами, я встречал почти все знакомые имена: дети писателя, которые умерли при его жизни (некоторые во младенчестве), его тетушки, другой его брат – Сергей, его потомки – наши старшие современники. Софья Андреевна. Все они вместе, за алтарем конаковского храма.
Какая уж радость на кладбище! Только ставшая привычной для меня тоска вдруг исчезла. Мне вспомнились слова молодого Толстого, оставленные в его записной книжке в ту пору, когда духовный выбор писателя еще не определился: «Сельская церковь, обсаженная плакучими березками. Сколько в ней разных душ обвенчано, крещено, похоронено». Возможно, сказано совсем не об этом храме, и в то же время – о нем. Самого Толстого крестили здесь, в Кочаках.
Впервые за долгое время я почувствовал красоту осени, осеннего света. Но свет сентября наполнялся в те мгновения как будто еще иным, незримым светом. И этот новый свет согревал сердце, приносил душе забытый мир. Прошлое, будущее Родины сливались в его лучах, соединяли меня со всеми, кто жил до меня, кто придет после…
И не осталось места безнадежности. Я обогнул церковь и подошел к ее вратам. Однако по какой-то причине она была закрыта. В Москву я поехал с намерением потрудиться и все-таки войти в храм.
Александр Гулин