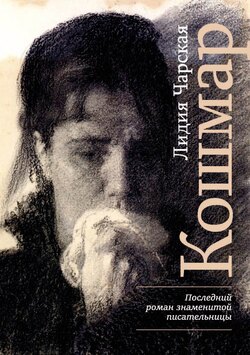Читать книгу Кошмар - Лидия Чарская, Лидия Алексеевна Чарская - Страница 4
IV
ОглавлениеЧерный лес приютил наконец беспорядочную толпу беженцев. Под его гостеприимным навесом скрылись и люди, и животные. Крепкий, как вино, осенний воздух, насыщенный первым брожением тления, приятно бодрил затуманенные тревогой головы. Беженцы медленно подвигались в темноте. Детский плач умолк – убаюканные дети спали в телегах у груди матерей.
Только изредка чье-то всхлипывание да тяжелые, надорванные вздохи нарушали тишину. Говорили с жалобной покорностью о покинутом гнезде, разоренном хозяйстве, об участи мужа или отца, оставшихся там, в покинутом селе. А впереди, казалось, уже ждало что-то зловещее, неведомое, притаившееся, как хищный зверь, в непроницаемой темноте леса, что-то страшное, больное, мертвенное, чему не было ни имени, ни представления, ни образа, но что медленно и кошмарно рождалось в тишине.
И вот неожиданно яркий сноп прожектора осветил лес. Послышалось короткое и зловещее: «Halt!»[5]
В ту же минуту показалась группа немецких всадников – очевидно, разведчиков – в затянутых чехлами касках. Молодой, упитанный, краснощекий кавалерийский офицер первый врезался в толпу беженцев, крича что-то по-немецки и размахивая саблей.
Обезумевшие от неожиданности и испуга женщины заголосили. Снова запищали разбуженные дети. Кто-то из крестьян, воспользовавшись суматохой, метнулся было в кусты. Но тотчас же грянул выстрел – и беглец упал замертво в лесную канавку.
А сноп прожектора, похожий на взгляд сказочного дракона, все нащупывал, все искал в густоте лесных зарослей.
– Обыскать хорошенько этих мерзавцев! Отобрать от них запасы и погнать обратно в село. Безмозглые ослы!.. Свиньи, чего они испугались? Надо иметь дело с дикарями, а не с просвещенной германской армией, чтобы так по-идиотски задавать стрекача при первых признаках ее появления, – кричал хриплым голосом офицер, соединяя немецкие, русские и польские слова воедино. Вслед за тем, обращаясь к дубоватому вахмистру, все время неотлучно следовавшему на своей лошади за его конем, он добавил после короткой паузы по-немецки: – Да… вот еще, Франц Крагер, распорядитесь, чтобы молодых женщин и девушек отделили от прочей сволочи. Да торопитесь, старина! Надо скорее порадовать его светлость донесением о славном деле поимки беженцев со всем их скарбом, припасами и бабьем.
Нина Корсарова и Роза, единственные из всей этой толпы, поняли слова этого немецкого офицера. Обе они инстинктивно рванулись одна к другой. На бледном, прекрасном лице шинкарки Розы, до странности воплотившем в себе черты библейской Рахили, пробежала судорога страха.
– О пани, – в ужасе прошептала девушка, – о пани, что будет с нами теперь?
Миловидная, пухленькая Зося истерически вскрикнула, когда грубый немец, унтер-офицер, схватил ее за руку, и заголосила, трясясь всем телом.
Этот крик, казалось, послужил началом к дальнейшему. Женщины зарыдали в голос, выкрикивая, как кликуши; пронзительным плачем залились дети.
Немецкий офицер негромко скомандовал что-то, и в одну минуту вся партия беглецов была окружена всадниками.
Нина, схватившись за руку Розы холодной, как лед, рукой, подалась назад пред грудью наседавшей на нее лошади. Плачущая Зося очутилась возле них и, горячо дыша в шею Корсаровой, зашептала ей на ухо:
– Пани, голубушка, золотенькая, пригожая!.. Пани, бежим в чащу! Может, успеем… может, удастся. Бежим – вы, я и Роза!
– А прожектор? Или ты забыла? Этот нагонит всюду, – со страдальчески вскинутыми бровями ответила еврейка.
Свет прожектора действительно, как сказочный сыщик, рыскал по всем закоулкам леса, превращая в какую-то волшебную феерию кусты и деревья, канавки и рвы. И в его голубовато-опаловом сиянии зловещего ночного солнца одна часть спешившихся всадников с сосредоточенными хмурыми и жадными лицами производила обыск партии, а другая продолжала напирать верхом на скучившихся, растерявшихся от страха женщин. Офицер при помощи молоденького юнкера сам направлял снопы света.
Вот чудовищно-яркие лучи прожектора упали в ту часть лесной поляны, где, прижимаясь к стволу облысевшей по-зимнему липы, стояли три бледные женщины.
– Ба, черт возьми, какой приятный сюрприз! Смотрите, Кноринг, картина, достойная кисти величайшего художника. Три грации!.. И откуда у этих грязных литвинок может встретиться такая красота? – произнес он, вскидывая в глаз стеклышко монокля.
Юный Кноринг, упитанный и свежий, как хорошо откормленный йоркширский боров, давно уже заметил трех сбившихся в тесную группу женщин и только не решался первым в присутствии своего ближайшего начальника заговорить о них.
Теперь он заржал от удовольствия, оттопыривая лоснящиеся щеки, и затараторил на отвратительном баварском наречии:
– Но ведь, бог мой, это находка, господин лейтенант. Воображаю, как будет доволен его светлость! Первое выступление нашего высокопоставленного покровителя отличается таким колоссальным успехом. Нет, положительно в вашу голову пришла гениальнейшая мысль, господин лейтенант, отпроситься у его светлости в эту ночную экскурсию. Одних поросят и кур сколько отберут к завтрашнему обеду наши люди!
И юнкер заржал снова, хотя ржать не было никакой причины.
– Не отберут, а реквизируют. Я попросил бы вас выражаться точнее, милейший Кноринг, – деланной строгостью произнес лейтенант и вдруг, не выдержав тона, разразился сам коротким, бессмысленным, самодовольным смехом. – Ну, да, кур, поросят, не говоря уже о больших двуногих свиньях и об этих красотках, что трясутся там в уголке, окруженные нашими доблестными солдатами. Взгляните вон на ту, Кноринг… налево!
– Но она – еврейка, а я имею с пеленок какое-то предубеждение против этой нации, – как-то брезгливо оттопыривая нижнюю губу, отозвался Кноринг.
– Я не говорю о еврейке, милейший, хотя и еврейка хороша, как древняя Ревекка. Но та, что обняла толстушку. Где вы видели такие глаза и такой рот, Кноринг? Сто дьяволов, это сфинкс! Я убежден, к тому же, что это не простая литвинка.
– Вы правы, девчонка удивительно мила.
– Настолько мила, что ее и эту евреечку мы доставим нынче же в качестве первого триумфального подарка его светлости.
– А… а… толстушку вы оставите для себя, господин лейтенант Фиш? – заикаясь и противно причмокивая, осведомился Кноринг.
– Я подарю ее вам, Кноринг. Вы заслужили это, мой мальчик, – с величественным жестом произнес офицер.
Юнкер снова заржал от удовольствия.
Вслед за тем они оба направились к женщинам.
– Вы говорите по-немецки? – услышала Нина Корсарова специально ей заданный вопрос, в то время как наглые, по-рачьи выпученные, точно вследствие базедовой болезни, глаза офицера разглядывали до мельчайших подробностей всю ее фигуру, делая явную и наглую оценку.
Щеки Нины вспыхнули румянцем негодования.
– Как вы смеете? – неосторожно сорвалось с ее губ по-немецки.
И в тот же миг она поняла, что сделала непоправимую ошибку.
Рачьи глаза немецкого офицера выразили торжествующую радость, в то время как на бледном, без кровинки, лице Розы отпечатался смертельный ужас.
– Что сделала пани! Пани погубила и себя, и нас! – прошептала она белыми, как мел, губами.
Увы, было уже слишком поздно что-либо исправить, вернуть. Рачьи глаза приблизились к лицу Корсаровой, и из противных, пахнувших коньяком и сигарою, мясистых губ вырвалось самодовольно:
– Так вы еще и шпионка, переодетая в крестьянское платье русская шпионка! Это не подлежит никакому сомнению и уже значительно облегчает нашу задачу.
Вслед за тем уже совершенно новым тоном, придав бесстрастное, деревянное выражение своему толстому лицу заурядного бюргера в адъютантском мундире, лейтенант Фиш скомандовал ближайшей группе солдат:
– Взять этих троих и доставить в ставку его светлости! Если вздумают бежать – пулю в лоб! Остальных отправить обратно! Запасы отобрать и сделать немедленно точнейшую ревизию населения села!
V
Маленькая, похожая на пеструю коробку, комната, сплошь завешанная коврами и тряпьем, очевидно, снесенным сюда из разграбленных соседних фольварков[6], освещенная электрическим фонарем, повешенным посредине, со столом, совсем некстати приткнутым у одной стены и сплошь заваленным планами, с картами, развешанными поверх ковров, производила странное впечатление.
Когда немецкий лейтенант ввел сюда Нину Сергеевну, грубо оторвав от ее плеча рыдавшую Зосю, Корсаровой казалось, что она спит и видит эту странную комнату во сне, что стоит только сделать усилие над собой и она откроет глаза, проснется. Но глаза ее были открыты, а явственный, уже чересчур реальный сон не исчезал. Смутное, больное предчувствие неотступно сверлило мозг. Пред мысленным взором стояло трагическое лицо Розы, неподвижно застывшее, как маска, с той минуты, когда их привели на «пост его светлости», как торжественно и высокопарно выразился офицер.
– О пани, это наша гибель! Клянусь Богом Авраама, Исаака и Иакова, нас всех ждет гибель впереди! – шепнула Роза совершенно бледными губами и с трагического цвета – белой, как известь, – маской вместо лица.
Потом Розу повели куда-то вместе с Зосей, а толстый, как упитанный боров, лейтенант привел Нину Сергеевну в эту пеструю, завешанную цветным тряпьем, коробку.
– Я более нежели уверен, – произнес он на этот раз по-польски, – что вы – переодетая аристократка, и не сомневаюсь ни на секунду, что маскарад затеян вами не иначе, как в целях шпионажа.
Нина, мало понимавшая польский язык, вскинула на него недоумевающий взор.
Тогда лейтенант, криво усмехнувшись, добавил по-немецки:
– А впрочем, теперь это меня уже не касается. Его светлость самолично разберет, в чем дело. У его светлости прекрасное чутье на этот счет, – и после короткой паузы добавил с циничным смехом: – И не менее прекрасный вкус, должен сознаться. Надеюсь, это-то вы поняли, моя красотка?
Подлая уловка офицера удалась как нельзя лучше. Нина Сергеевна вздрогнула, и легкий румянец негодования окрасил ее белые, как бумага, щеки.
– Ага, – уже совершенно не сдерживаясь, загоготал немец, – десяток чертей! Не был ли я прав? Ну, разумеется, мы знаем язык не хуже прирожденной немки. И под этим невзрачным нарядом мужички течет если не голубая кровь, то… во всяком случае… – тут он внезапно сделался серьезным, оборвав себя на полуфразе. – Черт побери меня, Юлия Фиша, если я ошибаюсь. Вы – русская шпионка, и это вне всяких сомнений, мадам.
Шаги за дверью заставили немца внезапно буквально окаменеть у двери.
Он заглянул в щелочку и поманил проходящего солдата.
– Тсс! Тсс! Сюда. Кто там? Вы, Шмерц? Войдите и станьте на караул. До самого прихода его светлости не спускайте глаз с этой женщины. Понимаете? За нее вы отвечаете собственной головой. Если же шпионка вздумает дать тягу – можете не церемониться. Надеюсь, вы хорошо меня поняли?
– Слушаю-с, господин лейтенант, все будет исполнено, – ответила окаменевшая в тот же миг у двери фигура в форме немецкого кавалериста.
Лейтенант скрылся, бросив в сторону Нины Сергеевны еще один многообещающий, полный отвратительного значения взгляд.
Теперь она осталась наедине с солдатом. Измученная до последней степени, с притупленными нервами, находясь в том состоянии, когда уже самый отчаянный страх пережит и в душе остались одно тупое, усталое равнодушие и покорная неизбежность, Нина вяло представляла себе ближайшее будущее, подстерегающее ее. Личность «его светлости» вырисовывалась пред нею не иначе, как бравым, чисто немецким солдафоном, какими кажутся все германские военные – принцы и унтеры, генералы и рядовые, без особенных, слишком ярких черт различия между собой. Представлялась красная, упитанная, лоснящаяся от самодовольства и жира физиономия со специфически вздернутыми иглами вильгельмовских усов и неизбежным глупейшим моноклем в бессмысленно округлившемся и наглом глазу. О том, что последует за предстоящим свиданием, Нина старалась не думать, пытаясь отделаться от подсказываемых ей ее воображением картин.
Хотелось упасть на эту жесткую койку, зарыться головою в походную подушку в шелковой наволочке и так замереть, замереть навеки.
Вдруг она вздрогнула. Ясно послышались шаги и звон шпор за дверью халупы. Встрепенулся и насторожился у порога солдат.
С широко раскрытыми глазами и мертвенно-бледным лицом Нина повернулась к двери.
Нежный, хрупкий и белокурый, с надменно приподнятыми бровями и породистым носом с горбинкой, вошел, скорее, стремительно вбежал в горницу юноша лет 23–24. Затянутый в блестящий мундир одного из лучших полков кайзера, со знаками отличия на груди, он тем не менее очень мало походил на солдата, бойца, воина со своим точеным, породистым лицом настоящего принца и небольшой, изящной, немного женственной фигурой. Только надменно приподнятые брови, говорящие о власти, и холодные, странные, словно прозрачные, из голубого стекла или темного аквамарина глаза придавали что-то отталкивающее, жуткое, этой своеобразной, совершенно не мужской красоте. Полное отсутствие растительности на лице делало вошедшего незнакомца похожим на молодого актера.
Довольно было взглянуть на юношу, чтобы сразу определить его общественное положение.
Изысканным поклоном приветствовал он Нину Сергеевну, причем его «стеклянные» глаза незаметно ощупали ее одежду бедной литвинки.
– Мадемуазель, – произнес он по-французски, сделав незаметное движение рукой в сторону солдата, после чего тот сразу же исчез, точно сквозь землю провалился, – мадемуазель, мой адъютант передал мне, что мои люди нашли шпионку и привели ко мне. Но я не хочу этому верить. С такою гордой, полной достоинства внешностью, как ваша, я не хочу., и не могу предположить, поверить…
– И не верьте, ради Бога, не верьте, ваша светлость! – непроизвольно вырвалось у Нины, и она рванулась к нему с протянутыми, как за помощью, руками.
О, кто же, как не он, этот изящный юноша с изысканными манерами, с безупречным французским произношением, выручит ее из беды? Откуда он, этот «выродок», среди грубых пруссаков с их лоснящимися от пива, насквозь пропитанными сигарным дымом физиономиями? В этом белокуром юноше ей почудилась ее надежда, ее спасение.
Принц улыбнулся, но как-то странно – одними губами, в то время как жесткий, колючий взгляд его странных глаз продолжал с убийственным, холодным любопытством разглядывать молодую женщину.
Новый красивый жест маленькой, почти по-женски красивой руки со стороны «его светлости», и Нина опустилась в складное кресло.
Теперь «его светлость» стоял близко от нее, настолько близко, что она чувствовала тяжеловатый и пряный запах мускуса, тонкой, одуряющей струей исходящий от его одежды.
Два больших аквамарина в оправе золотистых ресниц смотрели на нее теперь не отрываясь, безучастно и холодно по-прежнему, в то время как мягкий, вкрадчивый голос говорил с подкупающей искренностью слова утешения, внезапно перейдя на свой родной немецкий язык:
– О, не беспокойтесь, прелестная фрейлейн, тут, по-видимому, кроется какое-то недоразумение! Вас тотчас же освободят. Этот добрейший Фиш, конечно, перестарался. Уж эта горячая молодость! Как будто в нынешнюю кампанию мало случаев отличиться и без подобных дел!.. Да… конечно, вас отпустят тотчас же, прелестная фрейлейн. Хотя не скрою, мне было бы приятно, если бы вы не отказались выпить со мною бокал шампанского и скушать что-нибудь. Со мною здесь старый Михель, удивительный кулинар. Что? Нет? Вы отказываетесь? Не хотите? О, какая досада! Но ведь немножко вина можно? Это же подкрепит вас для дальнейшего пути. Ведь вас никто не посмеет задержать здесь, я распоряжусь дать пропуск.
– Благодарю вас, – холодно сказала Нина.
– Ни слова благодарности. Вы прекрасны, и ваша благодарность заключается уже в том, что вы разрешите боевому, огрубевшему во время этой военной страды солдату полюбоваться немного вашими бесподобными глазами и выпить с ним один-другой стаканчик вина.
Разве могла отказать своему спасителю Нина? Он был так предупредителен, этот маленький изящный офицер с не по летам высоким чином и еще более важным положением. Он показался ей рыцарем, посланным для ее спасения, и, перестав даже смущаться его неприятных, как бы ощупывающих глаз, она слепо доверилась ему.
5
Стой! (нем.).
6
Фольварк – хутор, небольшая усадьба.