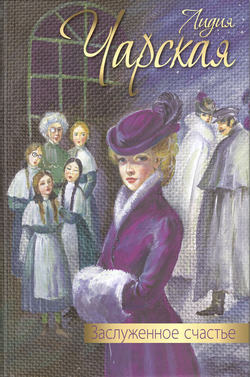Читать книгу Заслуженное счастье (сборник) - Лидия Чарская, Лидия Алексеевна Чарская - Страница 10
Ради семьи
Глава VIII
ОглавлениеВеселый, улыбающийся, с быстрой речью и круглыми щеками, похожими своим цветом на два румяные яблока, Herr Lowe производил на окружающих самое отрадное впечатление.
Начать с того, что он никогда не ставил ученицам дурных отметок.
Вызовет девочку, проверит заданный урок – отвечает ему воспитанница из рук вон плохо, а после урока, глядишь, против фамилии отвечавшей красуется вместо пресловутой единицы семь с минусом, низшая отметка, которую можно было получить у учителя немецкого языка. И уж если воспитанница совсем ни в зуб толкнуть, как говорится, по части знания урока, вовсе рта не раскроет на все вопросы учителя, то и тогда Herr Lowe ограничивается одним только nota bene[19], обещая переспросить провинившуюся девочку в следующий раз.
Зато уроки немца проходили весело и интересно. Этот румяный маленький человечек, похожий больше на какого-нибудь немецкого фермера, нежели на учителя, имел к тому же приятную склонность к декламированию стихов. И нужно сознаться, декламировал он их в совершенстве. При этом его румяное лицо улыбалось и сияло, а маленькие голубые глазки принимали самое сентиментальное выражение.
При виде Ии Herr Lowe очень удивился.
– Как, фрейлейн Вершинина уже уехал? О как шаль! Как шаль! – закачал он своей круглой, как шар, с большой лысиной головой. И, как бы спохватившись, что это нелюбезно по адресу новой классной наставницы, Herr Lowe тотчас же предупредительно обратился к ней с самой любезной улыбкой:
– Но ви тоше, фрейлейн, будет дофольны своими детками. Детки будут любить вас, как и ваш предшественниц! – залепетал он, кивая головой и сияя голубыми глазками.
Увы! Ия предчувствовала нечто обратное тому, что говорил учитель, но должна была ответить добряку немцу несколькими любезными фразами.
Пару насмешливых улыбок успела она все-таки перехватить по своему адресу в то время, как учитель выражал уверенность, что милые детки будут любить ее не менее Магдалины Осиповны.
О, эти милые детки!
Сердце Ии сжималось теперь самыми злейшими предчувствиями. Ее служба здесь только начиналась, а уже первые впечатления, пережитые ею, были исполнены всевозможной горечи и неприятностей.
За утренними уроками следовал завтрак. Затем воспитанницы шли на общую прогулку. Они гуляли попарно или по нескольку человек, взявшись за руки, по большому, похожему на парк саду, густо разросшемуся дубами, липами и кленами и окружавшему с трех сторон здание пансиона.
Посреди этого сада находился пруд. Вода в нем подернулась зеленью, похожей на плесень. Ева Ларская, взявшая на себя роль проводника новой наставницы во время прогулки по большому саду и не отходившая от Ии во все время этой прогулки, перехватила взгляд последней, устремленный на зеленоватую поверхность маленького озерка.
– Вы не смотри́те на то, что он такой крошечный, этот пруд, и похож на лужу, – говорила Ие бледная худенькая девочка с голубыми жилками на висках, – здесь есть опасный омут. Из-за него-то Лидия Павловна и запрещает нам близко подходить к пруду с тех пор, как в нем утонула одна пансионерка. А зимой здесь устраивается каток, и мы катаемся на коньках вместо прогулок во время большой перемены после завтрака.
– Утонула пансионерка? – сорвалось тревожно из уст Ии. – Утонула здесь? В этой луже? – переспросила удивленно молодая девушка.
– Но я же говорю вам, что в этой горсточке воды находится глубокий омут, m-lle Басланова, а Анна Левина в начале мая вздумала купаться в один из жарких весенних дней, пока в саду никого не было. И ее затянуло в этот ужасный омут. Через два часа догадались только, где она, и нащупали баграми ее уже закоченевшее в воде тело. Впрочем, это было еще до моего поступления сюда. Я еще училась тогда в казенной[20] гимназии. Но Надя Копорьева, вы знаете Надю, дочь нашего инспектора классов, вот, высокую девочку в очках, она мне рассказывала о бедной погибшей Анне.
И без всякой последовательности Ева закончила свою речь вопросом:
– А знаете, Ия Аркадьевна, что наши девочки ненавидят вас?
– За что? – не могла не улыбнуться Ия.
– За то только, вообразите, что они слишком любили Магдалину Осиповну. Я одна ее не очень-то долюбливала, представьте.
– Почему же?
– Да потому, что она была чересчур мягкая, слабая и позволяла садиться себе на шею. При ней мы все делали, что нам вздумается. Она никогда не повышала голоса, не сердилась. За это они ее любили. Но и был наш класс вследствие этой ее бесхарактерности на самом дурном счету. Каждый делал, что хотел, и учились мы все, надо сказать правду, отвратительно. Конечно, девочки встретили вас «на рогатину» потому только, что почувствовали над собой силу. И любить вас они все-таки не будут ни за что…
– Мне и не надо их любви, – спокойно проговорила Ия, – я требую от них не чувства ко мне, а сознания долга к исполнению… наложенных на них школой обязанностей.
– Ах, как вы хорошо это сказали, m-lle! – вырвалось непроизвольно у Евы, и из-за болезненных черт ее старообразного лица выглянули черты и улыбка милого непосредственного ребенка.
Ие неожиданно захотелось приласкать этого ребенка. Но, верная себе, она сдержалась.
– А меня именно и привлекает к вам эта ваша сила, – помолчав немного, снова заговорила задушевно Ева, – вы подумайте только, Ия Аркадьевна, как хорошо представлять из себя единицу, личность, с мнением которой люди считаются, кого они уважают даже помимо их собственного желания. Ведь если бы меня держали строже, если бы я видела вокруг себя людей с сильным характером и твердой волей, разве мне пришло бы в голову вести себя так, как я вела себя в тех прежних учебных заведениях и за что меня исключали уже два раза. А то мама ввиду моей болезненности позволяла мне делать все, что мне вздумается: и не учить уроков, и не посещать классов. Мне безнаказанно спускались все те дерзости, которые я позволяла себе по отношению к старшим, и Магдалина Осиповна, уж конечно, не имела никакого влияния на меня. Она была такая обыкновенная, маленькая… А вы…
Ева Ларская не договорила. Восторженно-радостный крик пронесся в эту минуту по саду. И воспитанницы заметались по его бесконечным дорожкам и тропинкам, устремляясь в ту сторону, откуда слышался этот призывный радостный крик.
Ия в сопровождении не отстававшей от нее ни на шаг Евы поспешила туда же. На крыльце здания, выходящем широкими каменными ступенями в сад, стояла Зюнгейка Карач, вся красная от радостного волнения, и размахивала небольшим белым конвертиком, который держала высоко над головой.
– От Магдалиночки! Магдалиночки, звездочки нашей, солнышка нашего! Ангела нашего, – кричала, то и дело сопровождая слова свои неприятными, режущими ухо взвизгиваниями, Зюнгейка. – Сюда, ко мне идите! Слушайте, что пишет нам наша чудная Магдалиночка!
Привлеченный этими криками, весь пансион в несколько секунд собрался у крыльца вокруг находившейся здесь Зюнгейки, и десятки рук протянулись к башкирке.
– Читай письмо, читай же скорее, Карач! – нетерпеливо звучали молодые голоса.
– Mesdames! He смейте вырывать письмо, а то не узнаете ни строчки! Оно мне написано, мне и принадлежит! – сверкая глазами, вопила башкирка в ответ на все поползновения ее одноклассниц завладеть письмом.
Это письмо было прислано только что Магдалиной Осиповной с посыльным из дома ее матери, куда больная наставница переехала на время из пансиона.
«Милые мои деточки! Не удалось мне как следует проститься с вами, – стояло в письме. – Судьбе было угодно лишить меня и этой последней радости. Бог знает, увижу ли я вас еще когда-нибудь, а между тем обстоятельства сложились так, что я не могла даже прижать вас в последний раз к моему любящему сердцу и расцеловать ваши бесконечно дорогие мне мордочки, которые неотступно стоят все время передо мной…»
Все последующие строки письма были написаны в том же духе.
Ни одним словом не упоминалось в нем о Ие, но она фигурировала в письме без названия, то под видом обстоятельств, то под личиной судьбы.
Когда бледные от волнения пансионерки познакомились с содержанием письма, такого нежного и ласкового, но таившего, может быть, помимо воли писавшей его, яд обвинения против Ии, все головы повернулись к этой последней. Снова заблестели угрозой и недоброжелательством юные глаза пансионерок, но молодая девушка, стараясь не замечать этих недоброжелательных взглядов, как ни в чем не бывало позвала детей в класс…
Следующий урок был уроком истории.
Еще молодой, недавно сошедший с университетской скамьи учитель Петр Петрович Гирсов, умевший захватить красочной речью свою юную аудиторию, образно и красиво рассказывал воспитанницам о значении искусств в общественной жизни древних греков.
Но мало кто слушал его сегодня. Воспитанницы все еще находились под влиянием полученного письма. Постоянное шуршание и легкий шорох на последних скамьях привлекали внимание Ии. Она прошла по классу и заметила нечто, совершенно не согласовавшееся с уроком древней истории, происходившее сейчас у нее в отделении. И причиной этому было все то же злополучное письмо.
Каждой из воспитанниц хотелось приобрести на память хотя бы копию его. Нечего и говорить, что оригиналом деспотично завладела Зюнгейка, на имя которой оно и было прислано. И вот, одна за другой, девочки переписывали его в свои записные книжки на память.
– Mesdemoiselles! He время и не место заниматься посторонним делом на уроке, – произнесла Ия, неожиданно появляясь перед партой Мани Струевой, переписывавшей в эту минуту последнюю страницу письма. Ия взяла злополучный документ и унесла его на свой столик.
Едва закончился урок истории, как перед ней словно из-под земли выросла красная, пылающая злобой Зюнгейка.
– Нельзя брать чужое. Надо отдавать чужое. Так закон учил. Так Аллах велел, – нервно жестикулируя чуть ли не у самого лица Ии, выходила из себя башкирка, наступая на молодую девушку.
С бледным лицом и спокойной улыбкой Ия взяла ее за обе руки и несколько секунд продержала эти смуглые, отчаянно рвавшиеся у нее в руках пальцы в своих.
– Так не разговаривают со старшими, Карач, – произнесла она твердо и спокойно.
– А старшие не должны показывать дурного примера младшим. Если бы мы взяли у вас чужое письмо, что бы вы сказали на это? – и Шура Августова, очутившись подле Зюнгейки, дерзко уставилась обычным своим вызывающим взглядом в лицо Ии.
Молодая наставница смерила ее глазами с головы до ног.
– Это письмо останется у вас. Его никто не возьмет. Но, пока идут уроки, я не могу разрешить вам переписывать его, – послышался сдержанный ответ Ии.
– А вы его не прочтете?
Синие дерзкие глаза снова блеснули явной насмешкой по адресу Ии. Как под ударом хлыста, вздрогнула молодая девушка. Эти слова жестоко оскорбили ее. Но и тут, стараясь совладать с охватившим ее волнением, она с ледяным спокойствием отвечала Шуре:
– Я не имею привычки читать чужих писем, запомните это раз и навсегда, Августова, и по окончании уроков, повторяю еще раз, вы получите ваше письмо обратно.
– Бессовестная! – крикнула Ева Ларская, выбегая вперед… – Как ты смеешь оскорблять Ию Аркадьевну? Ведь если бы Лидия Павловна узнала все… то… то…
Ева не могла договорить. Она дрожала, как лист. Девочка была очень нервна от природы, и часто малейшее волнение у нее заканчивалось обмороком.
Маня Струева, зная это и уступая влечению своего доброго сердечка, бросилась к Еве:
– Не ссорьтесь, дети мои, ради Бога… Шурочка, Ева! Что это, в самом деле, право!
– Пусть отдаст письмо… Аллаха нашего… Магдалиночки нашей! – твердила между тем в полном забвении чувств Зюнгейка.
Шум и волнение росли с каждой минутой. За этим шумом не было слышно приближения учителя, и только когда преподаватель математики, добродушнейший толстяк со странной фамилией Полдень, вошел на кафедру и послал оттуда свое обычное: «Здравствуйте, девицы», пансионерки, как вспуганная стая птиц, разлетелись по своим местам.
Урок математики, к счастью, прошел благополучно. Но зато обед принес Ие новые непредвиденные волнения.
– Mesdames, во имя Магдалины Осиповны и в память ее я объявляю голодовку! – произнесла Зюнгейка Карач, решительным жестом отодвигая от себя за столом тарелку с супом. – Кто любит алмаз наш, Магдалиночку, тот не прикоснется ни к супу, ни к жаркому день, другой, третий!.. Целую неделю, если это возможно. Словом, до тех пор, пока не станут от голода подкашиваться ноги и не закружится голова, – объявила она своим громким шепотом, отчаянно жестикулируя по привычке.
– Удивительно остроумное решение, нечего и говорить! Пошлость, достойная ее творца, – заговорила возмущенным тоном Ева Ларская, – и глупее глупого будет, mesdames, если вы последуете примеру этой дикой девчонки.
– Отчего же не последовать? Надо же хотя чем-нибудь отметить уход Магдалиночки, раз ее так бессовестно выкурили от нас, – так громко проговорила Августова, что сидевшая за этим же столом вместе с пансионерками Ия услышала ее слова. Но она сделала вид, что не слыхала Августовой. Между тем к объявившей голодовку башкирке и последовавшей ее примеру Шуре примкнуло еще несколько человек. Маня Струева хотела было избавиться от неприятной обязанности идти по стопам «голодающих», но Шура так строго взглянула на бедняжку, что той оставалось только отодвинуть от себя прибор и, вооружившись терпением, смотреть, глотая слюни, как с аппетитом уничтожались сидевшими за столом более благоразумными воспитанницами бараньи котлеты с горошком и куски песочного торта, поданного на третье блюдо.
А вечером, когда пансионерки пришли после чая и молитвы в дортуар, у них произошло новое столкновение с Ией. Ровно в десять часов Ия вышла из-за ширм и громко объявила во всеуслышание:
– Mesdemoiselles! Тушите свечи и бросайте ваши занятия. Я гашу электричество, пора спать.
Поднялись «ахи» и «охи», громкий ропот неудовольствия и негодования.
– Как так? Ведь еще десять часов только! Детский час. При Магдалиночке мы сидели со своими «собственными свечами» до двенадцати! – послышались со всех сторон протестующие голоса.
Стараясь владеть собою и не выходя из обычного спокойствия, Ия отвечала:
– Мне нет дела до того, что было при моей предшественнице. У меня есть свои собственные правила, соблюдения которых я буду требовать от вас. Во всяком случае, раз вы встаете в половине восьмого утра, вы должны засыпать до двенадцати ночи, чтобы иметь свежую голову и бодрое настроение на следующий день.
– Ага! Вот оно что! И тут притеснение! Ну хорошо же! – прозвучал чей-то шепотом произнесенный многозначительный ответ.
И в тот же миг потухло электричество. В абсолютной темноте, натыкаясь на табуретки, попадавшиеся ей по пути, Ия с трудом добралась до своего уголка за ширмами.
Когда она подходила к крайней постели, до слуха молодой девушки долетел тихий, дробный, явственный стук, повторенный несколько раз.
Было слышно, очевидно, что кто-то из воспитанниц отстукивает косточками пальцев по доске ночного шкафчика. Ия остановилась.
– Кто это стучит? – крикнула она громким голосом в темноту…
– Должно быть, мыши! – со сдержанным фырканьем отвечал смеющийся голос.
Тогда не спеша Ия повернула назад. Стук повторился уже в другом месте, рядом, около соседней кровати.
– Тук! Тук! Тук!
Теперь уже стучали подле каждой постели, с которой равнялась в тот момент ее высокая, слабо намеченная лунным светом фигура.
– Тише, mesdemoiselles, прошу не шалить, – сдержанно уговаривала расходившихся воспитанниц молодая девушка.
И словно в ответ на эти слова, стук участился. По мере медленного путешествия Ии по длинному темному дортуару он разрастался с каждой минутой. Мимо чьей бы постели ни проходила девушка, при сдержанном хихиканье неслось оттуда четкое и раздельное постукивание пальцев о доски ночных шкафчиков.
Наконец, потеряв всякое терпение, Ия остановилась посреди комнаты.
– Будет ли конец вашим шалостям, mesdemoiselles? – произнесла она дрогнувшим голосом. И в тот же миг дружное, в несколько рук, массовое выстукивание наполнило своим нудным, неприятным шумом дортуар.
Теперь стучали долго и оглушительно громко.
Ия стояла растерянная и смущенная едва ли не в первый раз в жизни.
Останавливать девочек она не решалась. Да это было бы сейчас бесполезно; чтобы не дать понять своего раздражения, она спокойно направилась дальше. Массовое постукивание прекратилось, но зато прежнее, единичное, преследовало ее настойчиво и неумолчно.
И вот, покрывая сонным голосом весь этот шум, Ева Ларская закричала громко:
– Что за безобразие, спать не дают! Свинство, mesdames! Нашли тоже время, когда сводить счеты!
Но никто не обратил внимания на эти слова.
Девочки продолжали стучать. Стучали еще и тогда, когда совершенно измученная этим стуком Ия прошла в свой уголок за ширмой и, заткнув уши пальцами, повалилась ничком, обессиленная, на кровать.
* * *
– Нет, нет, я не останусь у вас! Не могу остаться! – говорила на другой же день Ия, сидя против Лидии Павловны в рабочем кабинете последней. – Я не из тех, которые жалуются на каждую мелочь, придираются по пустякам, сводят мелкие счеты. Но и изводить себя таким обращением я тоже не позволю. Не по моей вине заболела любимая пансионерками их прежняя наставница, и мне пришлось заступить на ее место. И меня крайне тревожит эта явная вражда, которую ни за что ни про что проявляют дети, – взволнованным голосом заключила свою речь молодая девушка.
Лидия Павловна заметно встревожилась. По ее всегда сдержанному лицу пробежало выражение беспокойства.
– Дитя мое, – проговорила она, притрагиваясь унизанной кольцами рукой к руке Ии, – вы напрасно так волнуетесь. Вы – такая умница, такая тактичная, с этой врожденной способностью обходиться с детьми! Я кое-что успела подметить в вас, Ия Аркадьевна. То именно, что так ценно в воспитательнице, – врожденный такт и умение владеть собою. И наставницы, обладающие такими драгоценными качествами, нам крайне желательны. Я не отпущу вас ни за что. Скажите, эта невозможная Августова извинилась перед вами? Если нет, то я уволю ее тотчас же безо всяких разговоров.
Ия вспыхнула, как зарево, при последних словах начальницы. Она знала, что судьба этой «невозможной» Августовой теперь зависела только от нее. По одному ее слову госпожа Кубанская исключит из пансиона Шуру или же оставит ее здесь.
И не привыкшая лгать, опуская свои строгие, правдивые глаза под упорным, настойчивым взглядом начальницы, Ия, решив во что бы то ни стало отстоять Августову, проговорила:
– Да, извинение мне было принесено.
Это была чуть ли не первая ложь, сказанная девушкой. Но эта ложь спасла Шуру. Ответ молодой девушки, казалось, вполне удовлетворил начальницу. По ее холодному сдержанному лицу пробежала тень подобия улыбки.
– Ну, вот и отлично, – поверив словам своей собеседницы, проговорила Лидия Павловна, – вот и отлично! Теперь вы должны непременно остаться помогать мне в трудном деле воспитания детей. Нет-нет, не отнекивайтесь, не покачивайте вашей благоразумной головкой… В силу долга, из одного человеколюбия вы должны остаться у нас, должны помочь мне исправить то невольно причиненное Магдалиной Осиповной зло, которое посеяла ее чрезвычайная мягкость к детям…
– Но…
– Без «но», моя дорогая… Помогите мне, я же помогу вам. Я кое-что уже для вас сделала, и вас, милая Ия Аркадьевна, ждет в недалеком будущем очень приятный сюрприз. Не думайте, что я хочу подкупить вас этим. Вы, насколько я успела заметить за этот короткий срок нашего знакомства с вами, – неподкупны, и я более чем уверена, безо всяких новых просьб с моей стороны останетесь там, где принесете такую существенную пользу людям.
И, быстро поднявшись со своего места, Лидия Павловна протянула Ие руку, как бы давая ей понять этим, что их деловое свидание окончено.
Смущенная неясными намеками на какой-то сюрприз, молодая девушка прошла к себе. Очевидно, сами обстоятельства складывались так, что ей необходимо было остаться и тянуть лямку наставницы, в которую запрягла ее судьба.
19
«Обрати внимание» (лат.); в старой школе – отметка, означавшая предупреждение при неуспеваемости или при плохом поведении.
20
Казённый – государственный, не частный.