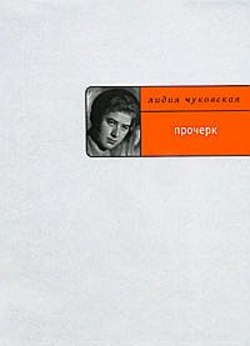Читать книгу Прочерк - Лидия Чуковская - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ПРОЧЕРК
Из архива. Незавершенное
ПРЕДЫСТОРИЯ
Оглавление1
Моей встрече с Бронштейном предшествовал смутный гул его начинающейся известности. Встретились мы впервые весной 1931 года. О Матвее Петровиче тогда много говорили кругом, и чего только не говорили! Каких только россказней об этом восходящем Бронштейне я не наслушалась! Он и ученый, он и литератор, он и физик-теоретик, он и знаток истории науки, он и лектор. Среднюю школу окончил экстерном и каждый год сдавал экзамены за два или за три класса. Вундеркинд! Университет тоже окончил быстрей, чем положено. Публиковать свои научные статьи в советских и иностранных журналах начал чуть не семнадцатилетним. Языки изучает, что ни месяц-то новый язык: изучил самостоятельно четыре, а захочет – в течение месяца и пятый, и шестой. Память изумительная. Теперь уже Матвей Петрович не студент, а сотрудник Физико-технического института, полноправный участник тамошних знаменитых семинаров. Кроме чисто научной работы в Институте Иоффе пишет популярные статьи в природоведческих журналах. Словом, не человек, а феномен. «Седьмое чудо света».
Толки шли о создании новой школы теоретической физики… Рядом с именем Бронштейна градом сыпались другие имена молодых – Гамов, Ландау, Иваненко, Амбарцумян, перемежаясь с именами старших, заслуженных – Иоффе, Френкель, Фок, Тамм. Литераторы в точных науках – профаны, они плохо понимали, кто – кто и что – что, и в чем, собственно, дело, но посудачить о науке любили. В их пересказах молодые физики то ли учились у старших, то ли ниспровергали их, то ли находились во вражде с ними, то ли в нежнейшей дружбе. Как бы там ни было, открытия ожидались великие.
Нильс Бор, Резерфорд, Дирак… Атомное ядро, возраст и эволюция звезд, расщепление атома, позитроны, нейтроны, черт, дьявол… И уж конечно – Эйнштейн.
Сама я вращалась в то время исключительно в литературном кругу. Дочь литератора, служащая одной из редакций.
Муж мой, литературовед Цезарь Самойлович Вольпе, хоть приблизительно понимал, о чем речь, я же и не пыталась. «Музыкальный кретин» – такой термин применяет к некоторым слушателям в своей книге пианист Генрих Нейгауз, – я же, по справедливости, должна быть причислена к «кретинам математическим». С детства обливала слезами задачи на поезда, на водоемы и краны, на пешеходов, шагающих из пункта А в пункт Б. По милости этих пешеходов оставили меня на второй год в первом классе. По милости синусов, косинусов и равнобедренных треугольников чуть не исключили из Тенишевского училища. Интереса ни к новому направлению в науке, ни к Институту Иоффе, ни к Ландау и Бронштейну, ни к атомам у меня не было и быть не могло. А самое главное: не испытывала я никакого интереса к новым знакомствам. Какой бы он там ни был, этот ваш Бронштейн, а меня, пожалуйста, оставьте в покое.
В ту пору, в 30-м, в 31-м году, была я больна физически и угнетена душевно. Не до научных новостей и новооткрытых талантов. Жизнь моя казалась мне изувеченной навсегда и непоправимо.
Я не жила, я ожидала писем из Крыма, от родителей. Мурочка, моя маленькая сестра, умирала от туберкулеза в Крыму, в Алупке, безо всякой надежды на спасение. Мне бы туда, к ним и к ней, но ехать – сил нет: в августе я ожидала ребенка, да и хворала, вероятнее всего, туберкулезом. Семь месяцев ни единого дня без повышенной температуры (37,5—38). Болезнь заставила меня бросить работу и лежать почти не вставая, выслушивая упреки врачей: «мы же вам говорили…» Говорили, говорили: порок сердца, щитовидная железа увеличена, подозрение на туберкулез. Рожать не следует. Один терапевт еще полгода назад сказал мне: «я бы вас для продолжения рода человеческого ни в коем случае не выбрал». Но… с тринадцати лет я мечтала о ребенке, втемяшила себе в голову: мечтаемый младенец у меня будет непременно, и непременно – девочка.
Кроме черных вестей из Крыма, кроме опасения, что в родах я умру или ребенок явится на свет слабенький, нежизнеспособный, угнетало меня сознание, что брак мой с Цезарем Самойловичем Вольпе – ошибка, что нам необходимо расстаться, расстаться, расстаться.
А как расстанешься, если, во-первых, еле стоишь на ногах, во-вторых – уходить тебе, да еще с грядущим младенцем, некуда и, в-третьих, муж и слышать не хочет ни о каком разрыве? «Ты просто больна. Фанаберия. Блажь».
Он продолжал утверждать, что мы безусловно созданы друг для друга, с нетерпением ожидал отцовства и слышать не хотел ни о каком расставании.
Мы ссорились, изнуряя и попусту оскорбляя друг друга.
Вот в это-то тревожное время – ранней весною 1931 года – и познакомилась я с «без пяти минут академиком» Матвеем Петровичем Бронштейном.
2
Было мне в тот день, помнится, легче, и я вышла пройтись. Обычная моя прогулка – обойти три раза вокруг Спасо-Преображенского собора, вокруг скверика, опоясанного чугунными цепями и турецкими пушками. В этом скверике под нашими окнами я одно лето целые дни напролет гуляла с Мурочкой, полуторагодовалой тогда или двухлетней. Теперь, осенью, буду сидеть со своей дочкой – если не умру, если она родится живая. Где бы раздобыть коляску – у кого-нибудь по наследству? Хотя бы и потертую, старую?
Мысли о Мурочке терзали меня. Каждое дерево в сквере, каждый детский голос напоминали мне о ней. А вдруг случится чудо и она чудом поправится? Тогда она будет помогать мне нянчить мою маленькую дочку.
Воротившись, я застала у нас гостя. Он забежал на минутку за какой-то книгой и уже уходил. Стоял в узком коридорчике, отделявшем наши две комнаты, нашу «квартиру в квартире» Корнея Ивановича от остальных комнат. Он уже простился – пальто надето, книга под мышкой, кепка в руке – но что-то договаривал или, точнее, о чем-то доспоривал с Цезарем.
– Бронштейн, – сказал он, слегка поклонившись, когда я протянула ему руку.
Я предложила гостю раздеться и выпить с нами чаю. Это будет приятно Цезарю: он гордился знакомством с «Митей» – как все они называли Матвея Петровича тогда. Но Митя спешил. Однако минут десять мы простояли втроем в коридорчике – Матвей Петрович, прислонившись к одной стене, а мы с Цезарем – напротив. Содержание разговора память утратила, а свое первое впечатление помню ясно. Невысокого роста, легкий, стройный, в очках, существующих не отдельно, а словно сросшихся с чертами лица, словно они – тоже черта лица. Взгляд сквозь стекла живой, быстрый. Лоб под черными волосами крут и смугл. Пока он говорил или молча слушал, лицо было сосредоточенное, взрослое, умное и даже красивое. Но стоило ему рассмеяться – а смеялся он часто, – как четкие черты расплывались, таяли и сам он становился чуть смешным, казался ниже ростом, беспомощнее. Когда он молчал или, с короткой запинкой, отчетливо и уверенно выговаривал слова, он казался старше своих двадцати пяти, дать ему можно было и все тридцать. Когда же смеялся – моложе, гораздо моложе, что-то проступало мальчишеское. Не только не «без пяти минут академик», но даже и не студент, а скорее школьник.
– Ну, как тебе Митя? Понравился? – спросил Цезарь.
– Да, я думаю, он славный, – сказала я. – Не задается. И, знаешь, кажется, очень добрый. Немного смешной… Говорит – назидательно, будто лекцию читает, а смеется – мальчик.
– Добрый? Вот уж нет. Он отчаянный спорщик, драчун, забияка. У них на семинарах он…
Мне было все равно. Пусть драчун. Очень хотелось лечь.
Потом я раза два слышала уверенный голос и растерянный смех из соседней комнаты, но не вставала и к гостю не выходила. Болезнь все круче забирала меня. На посторонних нет сил. Цезарь сам поил Митю чаем, а потом пытался мне пересказывать что-то насчет Эйнштейна, квантовой механики и волновой теории. Я не слушала.
В июле меня доконала жара. Я уж совсем не вставала. Тянуло за город. Но снять комнату на даче было нам не по карману. Я работать бросила. Цезарь выручал за свое литературоведение – за рецензии, за лекции – сущие гроши, и притом нерегулярно, от случая к случаю. Корней Иванович ничем не в силах был помочь нам: лечение Мурочки, жизнь в Крыму требовали денег. И немалых.
В это лето, слышала я, Митя Бронштейн уехал на Кавказ, в один из горных санаториев КСУ («ксучий санаторий» – именовали такие учреждения в просторечии). Оттуда он прислал нам веселое письмецо. Оно пропало, как пропали впоследствии все его письма, но кое-что из этого санаторного я помню дословно, точно. Митя сообщал нам интересную новость: в санатории «третьеклассие господствует удручающее». Третьеклассие! О разделении женщин на разряды, на классы я уже слышала. Ландау и друзья его стремились подходить научно ко всему на свете, всё на свете классифицировать, анализировать, синтезировать, обобщать и потому, пустивши в ход термин «эротехника», делили мужчин на два класса: одни ищут в женщинах душу – «душисты», другие красоту – «красивисты». Красивисты, в свою очередь, делят «особ женского пола» или попросту «особ» на три категории: первый класс, естественно, высший, а третий – низший… Так вот, Митя Бронштейн извещал нас о неудаче: в санатории, где он отдыхал в это лето, «третьеклассие господствовало удручающее». Удрученный Митя на досуге прочитал роман Пруста в подлиннике (мы читали только в переводе) и убедился, что синтаксис оригинала гораздо проще, предложения короче и нет бесконечно длинных периодов, характерных для Пруста по-русски. Затем от анализа стиля – переход к мастерству санаторного повара: очень удается шефу крем со взбитыми сливками. Кончалось же письмо расспросами о моем здоровье и восклицанием: «Лида! Желаю Вам благополучно окотиться».
Признаюсь, эта шутка сильно не понравилась мне. «Мальчишество, – сказала я Цезарю. – Твой „без пяти минут академик“ сортирует дам по классам, а сам состоит в приготовительном. Гимназист!»
Болезнь лишила меня юмора. Мне было совсем не до шуток.
3
4 августа 31-го года Цезарь Самойлович отвез меня в больницу. 6-го я родила дочку. Когда я вернулась домой, в наш Манежный переулок, в мою комнату, обшарпанную, с драными обоями и облупленной печкой, на полу стояли три пышные корзины цветов. В каждой – нарядная поздравительная карточка, и на карточке подпись: М. Бронштейн. Сам он еще не вернулся, но перед отъездом дал кому-то из друзей поручение отправить мне, в случае благополучного возвращения домой, три корзины цветов.
«Какая, однако, галантность, – подумала я. – Вот тебе и „окотиться“!»
Приехав, Митя сразу пришел к нам, и я от души поблагодарила его. Встреча была минутная. В первый год жизни младенца виделись мы с Митей по-прежнему редко и всегда на спеху. Мне по-прежнему было не до гостей, я вечно хотела спать. Я, правда, более или менее выздоровела, температура упала, но с новорожденной я была одна-одинешенька, а это значит – круглосуточный труд. Случалось, когда я совсем сбивалась с ног, приходила мне помочь какая-нибудь женщина и вместо меня отстирывала пеленки и мыла пол. Но такие счастливые деньки выдавались не часто, а в обычные дни купала, выносила девочку на воздух, стирала, развешивала пеленки в большой опустелой квартире моих родителей, стряпала что попало на примусе для себя и для Цезаря – я сама. Няня нам не по карману – да и где ее найдешь, надежную няню? Цезарь? Цезарь ни к какой постоянной заботе ни о себе, ни о других приспособлен решительно не был. Добродушный нрав, нежная любовь ко мне и дочке сочетались в нем с беспечностью, если не сказать точнее и грубее – с полной безответственностью. Специалист по русской поэзии XIX и XX столетия, знаток Батюшкова и Белого, Жуковского и символистов, он ни единой рукописи не мог сдать в редакцию к назначенному сроку и ни единой лекции прочесть в назначенный день и час. Со сдачей рукописей опаздывал на месяцы, с чтением лекций – на часы. Моя болезнь, а потом новорожденная разлучили меня со всякой возможностью заработка. Цезарь же зарабатывал мало, а помощи от него в уходе за младенцем никакой…
Появление на свет долгожданной дочки не только не сблизило, но оттолкнуло нас друг от друга еще дальше.
Следуя советам опытного врача, я придерживалась строжайшего режима: кормила, укладывала спать, купала, выносила на воздух по часам. В уходе за младенцем вынуждена я была соблюдать особую стерильную чистоту: девочка родилась здоровая, но в больнице ее заразили «пемфигусом». По маленькому розовому телу крупные желтые гнойники. Врач объяснил мне: спасение одно – антисептика. Он требовал, чтобы пеленки были чисто-начисто выстираны, прокипячены и выглажены, чтобы, прежде чем подойти к девочке, я надевала чистейший халат и мыла руки особым раствором. Цезарь, хотя и был он сыном врача, все эти педантические предписания почитал чепухой, а самая мысль о каком-либо режиме раздражала его. В собственной своей жизни он никогда не придерживался никакого распорядка: вставал, ложился, ел, работал когда вздумается – а тут строжайший режим! да еще антисептика! каждую минуту руки мыть! вздор. Спасая девочку от смерти (ей грозило общее заражение крови), я дезинфицировала пеленки, ванночку, полотенце, халат, матрас – Цезарь же хватал дочку на руки, войдя с улицы и не утруждая себя умыванием. Я кормила минута в минуту, добиваясь непрерывности ночного сна, а он требовал, чтобы я затыкала ей рот, чуть только она запищит. Хоть и был он человек безусловно образованный, хоть и окончил Бакинский университет, хоть и совершенствовал свои познания в семинаре знаменитого европейца Вячеслава Иванова – но в быту оставался верен своей истинной матери: Азии. Отец его некогда ведал карантином на границе России с Персией. Младший из троих сыновей, торжественно поименованный в метрике и во всех официальных документах Цезарем – а в нежном материнском прозвании попросту Чижиком, – Цезарь-Чижик был и младшим и любимейшим. «Я делал что хотел, – рассказывал он мне о своем детстве. – Папа и мама, прежде чем послать кухарку на рынок, допытывались: что меня больше порадует – жареный гусь или индейка, орехи или курага?» Любимый сын был избалован до одурения – и отнюдь не роскошеством, не индейкой и гусем, а поощряемым своеволием. Этакий повелитель семейства с трехлетнего возраста, уже не эгоцентрик даже, но «центропуп». Дети, лишенные родительской заботы и ласки, вырастают обычно изнервленными, истерическими, а то и злобными, черствыми, но те, кого с малых лет приучают к сознанию, будто сами они, дети, – центр вселенной – ничего никому не должны, а им, детям, – все и всё, – неизбежно превращаются в особей, «невозможных для совместного обитания».
В Ленинграде, возвращаясь домой с улицы, Цезарь бросал зимою шубу и шапку, а летом куртку и шляпу прямо на пол, посреди комнаты. «Что с тобою? – спрашивала я в удивлении. – Почему бы тебе не повесить шубу в передней?» После его рассказа о детстве и отрочестве я поняла: на то любящая мама или любящий папа. «Не беспокойся, солнышко, я повешу сама». Это мама. «Наш Чижик с прогулки проголодался… Пора обедать. Катя, почему же вы не подаете на стол?» Это любящий папа.
– А в котором часу вы обыкновенно обедали? – спрашивала я с интересом.
– Не знаю. В котором я проголодаюсь, в том и обедали, – отвечал Цезарь.
«Ребенок был резов, но мил». И правда, Цезарь Самойлович был человек беззлобный, мягкий и далеко не бездарный.
Беззаботный. Беспечный. В быту – безответственный.
Впрочем, вправе ли я, вспоминая о Цезаре, похвалиться объективностью? Вряд ли. Попросту не он был любим мною, и мне ни в коем случае не следовало выходить за него замуж. Я вышла за него «по расчету»: чтобы нерушимо, навсегда возвести стену между собою и человеком, которого любила. Стену возвела (и гордилась своей прямотой: ни минуты не скрывала горестной правды от Цезаря), но жизнь испортила всем троим: Цезарю, себе и тому, кого любила, – нелюбовь его ко мне была мнимая, кажущаяся.
Во всех бедах своего замужества кругом виновата была я сама. Чем сильнее крепло сознание собственной вины, тем настойчивее стучало в висках: «расстаться! расстаться!»
…Как я уже рассказала, Митя Бронштейн с весны 1931 года стал частенько заглядывать к нам. Однако и гораздо позднее, когда Люша и я уже выздоровели, с Митей я почти не встречалась. Изредка, правда, заходил он ко мне в комнату минут на десять – посмотреть, как я купаю Люшу. Думаю, Люша – первый в Митиной жизни младенец, которого он видел вблизи. Невидаль эту рассматривал он с интересом начинающего естествоиспытателя. Замечания и вопросы выдавали младенческое невежество. Один раз он сказал мне: «Вы не обижайтесь, Лида, но я с огорчением замечаю: ребенок ваш родился без шеи»… Когда Люше исполнилось четыре месяца, Митя принес ей в подарок резиновую козу. И очень удивился, что девочка не тянется к игрушке руками, не узнает ее и не говорит «мэ». Может быть, она родилась умственно неполноценной? Митя такой мысли вслух не высказывал, но я читала соболезнование у него на лице. В каком возрасте и в какой последовательности дети научаются держать голову, сидеть, узнавать людей и предметы, ходить – он не имел представления.
Вскоре и эти беглые наши встречи прекратились: поздней осенью 31-го года я заболела скарлатиной. В детстве, когда оба мои брата болели, я не заболела, а вот теперь заразилась невесть где. Врач уверял меня, что трехмесячные дети этой инфекции не подвержены, я продолжала кормить, но, в виде исключения, трехмесячная Люша тоже заболела скарлатиной. Цезарь был в отчаянии, но он не умел даже градусник мне поставить, даже температуру записать, а уж перепеленать дочку – об этом и не мечтай. Вы' ходила меня и Люшу старинная приятельница моих родителей Агата Андреевна Охотина. Она переехала к нам на Манежный и не покинула до тех пор, пока я, с сильно подорванным сердцем, все-таки не поднялась. И пока Люша не поправилась тоже.
Было это в ноябре 31-го года. Однажды, когда болезнь уже осталась позади, мне внезапно почудился из пустых комнат голос моей матери. Сначала я подумала, что снова впадаю в бред. Держась за стены, я отправилась в трудное путешествие: на другую, дальнюю половину квартиры. Мария Борисовна молча, деловито и сосредоточенно распаковывала чемодан. Она похудела, осунулась, постарела, и какая-то чувствовалась в ней отчужденность. Моего появления она почти не заметила.
– Где папа? – спросила я, холодея.
– В Москве, по издательским делам, – ответила она. Следующего вопроса я не задала. Осмотрелась, Мурочки нет. Ни в одной комнате. И голоса ее нет.
Пока я хворала, Мурочка умерла. Похоронили ее там, в Алупке. Как я узнала впоследствии, Корней Иванович писал из Крыма друзьям: «Одна моя дочь у меня на глазах умирает в Крыму, другая далеко – в Ленинграде».
Я осталась жива. Мурочка умерла.
Я Мурку очень любила. Именно она внушила мне непреодолимое желание родить. Чтобы у меня была собственная, своя Мурочка… Мурка явилась на свет в голодном двадцатом году, хилая, слабенькая. Мне минуло тогда 13, и я много нянчилась с ней. Удивительно умное, светлое, благородное и талантливое существо.
Мурочка с самых ранних лет знала и любила стихи. И писала их. За свою короткую – одиннадцатилетнюю! – жизнь она вынесла много страданий. Туберкулез сначала уничтожил сустав стопы и колено одной ноги, потом колено второй, потом уничтожил глаз («таких случаев бывает один на миллион», – говорили врачи), потом почки, потом легкие. Когда кто-то из друзей послал ей в Крым большую нарядную куклу, она написала стихи, обращенные к этой златовласой красавице:
Новая кукла, новая кукла,
Я в Ленинграде раньше жила.
Новая кукла, новая кукла,
Там я счастливая была.
Рыдание об утраченном счастье в одиннадцать лет.
Крым не помог ей. Слабый организм не оказывал никакого сопротивления болезни. Да ведь никаких лекарств против туберкулеза, кроме теплого климата, тогда еще и не знали.
…Мурочки больше нет. Мои родители уехали с нею, а вернулись без нее. Оставили ее там, у моря, в могиле.
– Я слышала, у вас умерла дочь, – сказала через несколько дней моей матери забежавшая за солью соседка. – Какое несчастье!
И добавила:
– Зато у вас теперь внучка растет.
– Один человек не может заменить другого, – резонно ответила Мария Борисовна.
Скоро я поняла, что моей матери, только что потерявшей дочку, тяжело видеть Люшу.
4
Оправившись после скарлатины, Люша росла здоровым ребенком веселого и спокойного нрава. Вот она уже пускается бродить по кровати, вот уж и зубов у нее сколько положено, вот уже и по полу без чужой помощи ходит от окна до самого дальнего угла нашей комнаты, до нашей железной печи, вот уже и по улице за ручку… вот уже и заговорила… А все-таки жизнь мне не в жизнь. Мои давние товарищи по редакции Детиздата добывают иной раз для меня редакторскую работу на дом. Это как-никак деньги, да и работа любимая, но все же не то, не то! я рвусь из дому, хоть на несколько бы часов в день! в редакцию, где я до болезни проработала около двух лет, к старым друзьям, к новым рукописям, к новооткрытым писателям, к общему азартному труду, к литературным побоищам. Главное – из дому, из дому! отношения с Цезарем все беспощадней, все жесточе – мы ежеминутно отравляем друг другу существование.
Тогда, в молодости, собственную свою вину перед ним я ощущала не слишком остро, а теперь, оглядываясь назад, вижу, что я несомненно мешала ему жить и работать ничуть не в меньшей степени, чем он мне. Видно это хотя бы из оставленного им литературного наследия… Книга «Судьба Блока», не утратившая своего значении, своей ценности, своего интереса и по сей день, составлена им еще до женитьбы; историко-литературные статьи (Жуковский, Подолинский, Козлов), критические статьи (Зощенко, Житков) – после разрыва. Мы и любимую нами обоими литературу любили по-разному: «литературоведение» было мне чуждо, и такое наше несходство тоже не могло доставлять ему удовольствия. Правота моя была лишь в том, что я ранее его осознала необходимость расстаться – он же упорно не желал осознать эту необходимость.
Когда Люша чуть подросла и выдавались уже мне часы посвободнее, участились мои встречи с друзьями и с Митей Бронштейном. Мне – да, я думаю, и ему – и в голову не приходило в ту пору, что наши участившиеся встречи – начало чего-то большего, чем привычное общение между знакомыми. Даже Цезарь, ревновавший меня ко всему и ко всем (а также и к Люше), даже он не относился к Мите с подозрением. Так естественно, непринужденно и нелицемерно вел себя Митя. Цезарю он втолковывал теорию относительности. Мне цветов более не дарил. Да и виделись мы обычно втроем. В Митином присутствии, как и вообще при посторонних, мы с Цезарем не ссорились, но я чувствовала без ошибки, что Митя угадывает мою беду и жалеет меня. Досадно возбуждать жалость, но и светлело у меня на душе от его доброты. Сочувственным, понимающим, жалостливым, а не строгим и не насмешливым взглядом смотрел он на меня из-под очков. Он часто дарил нам книги: иногда нам с Цезарем вместе, чаще – одной мне. Это был его способ утешить.
Точкой сближения между нами оказались стихи. И я, и все друзья мои по школе, а потом по Высшим курсам при Государственном институте истории искусства, а потом товарищи мои по редакции, – все мы с детства знали русскую поэзию от Державина до Блока и Маяковского наизусть. Мы были в своем роде стихоманы, как существуют, например, меломаны или балетоманы. Мы любили открывать друг другу какое-нибудь ранее не замеченное или недооцененное чудо – Баратынского или Тютчева, Дельвига или Ахматовой. Такова была наша наркомания, сильно поддерживаемая в моем детстве Корнеем Ивановичем (на море и на суше, в лесу и дома он читал нам стихи), а в моей молодости – Маршаком. Самуил Яковлевич по любому поводу, да и безо всякого повода, постоянно во время работы тоже читал нам стихи – чаще всего Пушкина. Читал «просто так», в виде отдыха, «чтоб освежиться», а иногда в споре над рукописью, чтобы пушкинскими строками доказать правоту своих требований… Однажды я спросила у Мити Бронштейна, любит ли он Блока? Цезарь Самойлович и Блока, и Белого, и поэтов начала нашего столетия, а также предпушкинской поры знал отлично. Знал-то знал, но любил ли? Любя, легко запоминаешь стихи наизусть, а не запомнишь сразу – не выпустишь книгу из рук, пока полюбившиеся строки не улягутся в памяти, и уже не расстанешься с ними никогда и нигде: ни возле примуса, ни над корытом, ни на улице, ни в трамвае, ни в тюремной камере, – все будешь бормотать или шептать их. Цезарь же запоминал: что, когда, где, по какому поводу написано, где напечатано и каковы были отзывы критиков, он с удовольствием обсуждал вопрос: принадлежит ли М. Кузмин к поздним символистам или к ранним акмеистам, – но самих стихов он не помнил и, случалось, путал голоса вовсе не похожих друг на друга поэтов. И ни единого-то стихотворения, раньше не замеченного мной, он не открыл мне! Никогда вместе мы не читали стихи! Литературоведом высокого уровня он был, стихоманом – отнюдь.
Сидели мы однажды возле печки втроем: Цезарь, Митя и я. Поздно. Люша спит.
Заговорили о Блоке. Я рассказала Мите о последнем вечере Блока, в апреле 21 года, – вечере, устроенном «Домом Искусств» в Большом драматическом театре. Там я слышала и видела Блока в последний раз.
Я постаралась объяснить, показать, воспроизвести, как читал он свои стихи.
– А вы его любите? – спросила я у Мити.
Он ответил, что сначала не воспринимал совсем, но потом воспринял и полюбил одно стихотворение – «и тогда словно калиточка отворилась, – объяснил он. – Только первый том не люблю до сих пор».
– Ну, первый и я не люблю… А какая же калиточка? Доверчиво и твердо глядя на меня, Митя прочел:
Ты проходишь без улыбки,
Опустившая ресницы,
И во мраке над собором
Золотятся купола.
Как лицо твое похоже
На вечерних Богородиц,
Опускающих ресницы,
Пропадающих во мгле…
Но с тобой идет кудрявый
Кроткий мальчик в белой шапке,
Ты ведешь его за ручку,
Не даешь ему упасть.
Я стою в тени портала,
Там, где дует резкий ветер,
Застилающий слезами
Напряженные глаза.
Я хочу внезапно выйти
И воскликнуть: «Богоматерь!
Для чего в мой черный город
Ты Младенца привела?»
Но язык бессилен крикнуть.
Ты проходишь. За тобою
Над священными следами
Почивает синий мрак.
И смотрю я, вспоминая,
Как опущены ресницы,
Как твой мальчик в белой шапке
Улыбнулся на тебя.
Читал он уверенно, хотя и с легкой запинкой перед согласными. Уверенно и робко (как сказано у Блока по другому поводу в других стихах: «смущенно и дерзко…»). Да, уверенно и робко.
Из озорства мне хотелось спросить: а к какому классу «особ» принадлежит, по его мнению, та прохожая дама с лицом Богоматери? Но я удержалась.
– А как вы думаете, – спросила я, – почему именно это стихотворение полюбилось вам и отворило калитку? Ведь у Блока столько гениальных стихов.
– Н-не знаю, – ответил Митя, помолчав, – может быть, «мальчик в белой шапке»?
Как твой мальчик в белой шапке
Улыбнулся на тебя?
Он улыбнулся сам.
– Я это вдруг ясно увидел. «Ты ведешь его за ручку, / Не даешь ему упасть». Мальчик идет, глядит по сторонам и спотыкается. Не иконный младенец Христос, а просто мальчик в белой шапке. Но он тоже маленький Иисус… Не могу ответить. Не понимаю.
– Блоковские чары объяснить нелегко, – сказала я. – Сомневаюсь, чтобы когда-нибудь кто-нибудь объяснил. Помните «Утро в Москве»?
Упоительно встать в ранний час,
Легкий след на песке увидать.
Упоительно вспомнить тебя,
Что со мною ты, прелесть моя.
Я люблю тебя, панна моя,
Беззаботная юность моя,
И прозрачная нежность Кремля
В это утро, как прелесть твоя.
Создано это стихотворение словно из ничего. А из чего? Ни марксистским подходом, классовым, ни «конвергенцией приемов» тут не возьмешь. Рифмы-то, рифмы до чего уж убогие – курам на смех! – тебя, моя, твоя – черт знает что! Сплошные банальности: беззаботная юность, упоительно… прелесть, нежность, юность… А ведь и в самом деле упоительно!.. В чем же тут секрет? «С научной точки зрения»?
Я люблю тебя, панна моя,
Беззаботная юность моя…
Конечно, – фонема, фонетика, звукопись: «ранний час» в первом четверостишии созвучен «панне» во втором; и звуками м и н пронизано все стихотворение: «Беззаботная юность моя» и т. д. Ну и подсчитали, а дальше что? Чем объяснить чары?..
И прозрачная нежность Кремля
В это утро, как прелесть твоя.
В чем прелесть – не Кремля, а стихов?
– Ну, поздравляю, – вмешался Цезарь, – теперь Лида обоих нас до смерти заговорит стихами.
Я и в самом деле была стихоопасна. Знала наизусть весь третий том Блока и любила читать его вслух. И чтобы мне читали.
Не обратив внимание на Цезарево неудовольствие, я продолжала читать. Помнится, из цикла «О чем поет ветер». Тоже «сделанные из ничего».
Было то в темных Карпатах,
Было в Богемии дальней…
А Митя в ответ прочел «Авиатор», «Антверпен», «Ты помнишь, в нашей бухте сонной».
Цезарь, громко двинув стулом, ушел к себе. Мы двое, сидя у печки, продолжали обмениваться стихами.
5
Через несколько десятилетий я рассказала о печке, о Блоке, о «начале начал» Митиному давнему другу, математику Гершу Исааковичу Егудину. Он познакомился с Митей раньше, чем я, лет на пять раньше, и хотя оба они занимались точными науками, но свела их и на всю жизнь подружила литература.
«– Представляешь себе коридор Университета? – говорит Герш Исаакович. – Коридор длинный, как улица, с одного конца еле виден другой. Я расхаживал по коридору – никаких лекций еще не было, учащиеся слонялись зря. Я заметил странную фигуру: молодой человек, ростом, худобой и растерянностью более похожий на школьника, чем на студента. Он прижимает к груди какие-то тощие тетрадки. Увидев меня, он подошел и о чем-то спросил – кажется, не знаю ли, когда начнутся занятия? При ближайшем рассмотрении оказалось, прижимал он к груди не школьные тетрадки, а оттиски своей статьи, напечатанной в „Zeitschrift für Physik“. То ли он принес их, чтобы кому-то подарить, то ли сам только что получил в университетской канцелярии и не знал, что с ними полагается делать… Впрочем, это была уже не первая статья и не первые оттиски. Когда мы разговорились, показался он мне гораздо старше, чем издали, старше – манерой говорить, наставительной и педантичной, старше – насмешливостью и, главное, содержанием речи. Сам я в ту пору воображал себя весьма начитанным и, приехав из Иркутска в Ленинград, беспокоился, где я найду еще таких же начитанных, как я сам.
И вот, в первом же моем разговоре с Митей, выяснилось, что он успел „начитать“ в своем Киеве ничуть не меньше, чем я в своем Иркутске. Коридор длинный, времени – непочатый край, мы часа три ходили взад-вперед и разговаривали. Не о квантовой механике (т. е. не о той области, в которой Митя тогда уже самостоятельно работал, и не о математике, которую я тогда еще только начинал изучать), – а о литературе. Стоило мне в разговоре процитировать, например, „это то же, что плотник супротив столяра“, как Митя немедленно узнавал Чехова и, если понадобилось, продолжал цитату. Стоило мне произнести „толкуй больной с подлекарем“ – Митя узнавал и продолжал Короленко… Оба мы увлекались Гумилевым. Стоило мне произнести: „Вот девушка с газельими глазами / Выходит замуж за американца“, – как Митя со смехом выкрикивал: „Зачем Колумб Америку открыл!“ Общих знакомых у нас тогда в Ленинграде еще не было (впоследствии Митя привел ко мне Ландау, но это уже гораздо позднее), а тогда – единственными нашими общими знакомыми были книги. О них мы и толковали.
Не знаю, когда началась Митина приязнь ко мне, а у меня к нему сразу с той первой встречи. С литературы».
…Я так ясно увидела, слушая этот рассказ, так ясно увидела провинциального очкастого мальчика в мятых брюках, прижимающего к груди оттиски научной статьи, что память моя присвоила чужое воспоминание.
Я вижу Митю в университетском коридоре! Вижу с не меньшей ясностью, чем возле нашей печки.
Чужое воспоминание сделалось собственным.
6
Вскоре я убедилась, что Митя прекрасно знает литературу – и поэзию и прозу, притом, в отличие от меня, не только русскую. Но в особенности русскую: Толстой, Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Достоевский, Некрасов, Баратынский, Тютчев, Лесков, Тургенев, Гончаров, Державин, да и писатели XX века – Короленко, Андреев, Горький, Куприн. Я убедилась, что очки его устремлены отнюдь не на одни лишь формулы… Мы постоянно читали друг другу стихи: у Мити были пробелы, пропуски, которые я пыталась восполнить: Алексей Толстой, Полонский, Фет, Случевский, а из новых – Пастернак, Цветаева. Помню пастернаковский день: Митя в самое сердце был поражен «Отплытием». «Когда я читаю:
Тихо взявши гавань за плечи,
Мы отходим за пакгаузы, —
говорил он с удивлением, – у меня начинает кружиться голова».
Он же, в свою очередь, приносил мне англичан – Байрона, Джона Донна, Браунинга, Блейка. Английский я знала еле-еле, а Митя отлично – и мне помогал. Мы вместе читали Байрона: мои любимые «Стансы к Августе», и не очень понятного «Чайльд Гарольда». Митя подарил мне однотомник Гете, и мы вместе читали «Коринфскую невесту»: он в подлиннике, а я в гениальном переводе Алексея Толстого:
Из Афин в Коринф многоколонный
Юный гость приходит незнаком…
Я эти строки помнила наизусть с детства.
Цезарь Самойлович иногда принимал участие в наших чтениях, чаще – нет. Они ему скучны были. Ему больше нравилось встречаться с Митей как прежде, один на один, и расспрашивать о новостях теоретической физики. Тогда и я по-прежнему слышала Митин голос только из соседней комнаты – лекционный и наставительный, – укладывая Люшу спать. Уложу, она уснет, и я сваливаюсь в постель. Труд над корытом и у примуса, прогулки с Люшей сильно изнуряли меня.
Мите я о своем твердом намерении уйти от Цезаря Самойловича не говорила, но растущий в нашем семействе разлад он замечал и безрадостность моей жизни чувствовал живо. Пытался скрасить ее чем мог. Однажды ему удалось исполнить общую – Люшину, Цезареву и мою – мечту: принести Люше воздушный шар. Гуляя с Цезарем Самойловичем в нашем тихом переулке, в один прекрасный или злосчастный день Люша увидела в руках у неказистого паренька целую связку разноцветных шаров. «Шар, шар, папа, шар!» – закричала она. Цезарь тотчас высыпал из кармана на ладонь мелочь. Парень, получив деньги, уже отвязывал синий, но в эту счастливую минуту покупатель, продавец и Люша были настигнуты на месте преступления бдительным милиционером. Парень дал стречка, а Люша заревела в голос. С тех пор и Цезарь и я всячески пытались раздобыть ей шар; Люша ни на минуту не забывала о волшебном видении и, с кем бы ни ходила гулять, тащила в тот переулок, на то место, где впервые увидела переливающееся зеленым, красным, синим обольстительное чудо. Однако нам не везло, и мы более ни разу преступного этого продавца не встречали. Митя же случайно нос к носу столкнулся с ним где-то на Петроградской. Милиция дремала, парень спокойно собирал с населения незаконный оброк, и Митя принес Люше синий шар.
Цезаря Самойловича не было дома. Я сидела за своим письменным столиком, Митя – на широком подоконнике, а Люша бегала по комнате с шаром на веревочке, задрав голову и так упорно не спуская с него глаз, что натыкалась на стулья. Каждую минуту она шлепалась на пол. Но боли не замечала, оглушенная счастьем.
Митя смотрел в окно – на низкие ржавые крыши манежных строений, на чугунные цепи вокруг собора.
– Я давно хочу поблагодарить вас, – сказала я. – Без вашей доброты моя жизнь была бы гораздо бедней и трудней.
Митя помолчал.
– А я, не узнав вас, и совсем не жил бы, – ответил он.
Потом соскочил с подоконника, подошел к нашей облупленной печке и принялся кочергой разбивать большие, черные, еле тлеющие угли.
Он, видно, сам испугался своих слов. Угли сыпались на пол, на железный лист перед печью.
Митя поспешно стал объяснять мне то, что я и без него знала: когда Люша уснет, шар надо непременно выпустить за окно, привязав снаружи к форточке, иначе шар поникнет, съежится. И что-то о водороде, которым наполнен шар. И о глупом притеснении частной торговли. И еще о каких-то новооткрытых газах.
Скоро он ушел, а я взяла в руки книгу, подаренную мне им в прошлом году ко дню рождения.
Тогда он подарил мне две книги: Goethe по-немецки, пообещав читать его вместе со мной, и еще одну, о которой давно говорил, что, чуть она выйдет по-русски, я непременно должна прочитать ее. Это была «Вселенная вокруг нас» Джеймса Джинса. Я его уверяла, что все равно ничего не пойму в научной, даже и популярно написанной, книжке, он же уверял, что это самовнушение и ничего там непонятного нет.
На книге Джинса его рукою было написано:
«Лиде – совокупности всех совершенств и лучшему моему другу на этой планетке from a gentleman in distress».
Прочитав тогда эту надпись, я поблагодарила дарителя и рассмеялась – над «совокупностью» совершенств, над «планеткой». Что же касается подписи «gentleman in distress», я поняла ее так: городские сплетники поговаривали, будто Бронштейн безответно влюблен в одну милую барышню из одной ученой семьи. Любовь без взаимности – вот, думала я, он и пребывает «in distress». (То есть в тоске, в огорчении, в печали.)
После Митиных слов с подоконника я иначе расшифровала надпись на книге Джинса.
7
В заключение каждой очередной ссоры моей с Цезарем я уговаривала его обдумать наши квартирные дела и разойтись мирно. Я обещала в любом случае не мешать ему видеться с Люшей. Но он и слышать не желал о разрыве. Ему нужны были мы обе – и Люша, и я. А мне нужно было одно: вырваться на волю, расстаться, уйти, уйти, уйти – если не уходит он.
Я хотела уйти к себе. К труду и к Люше.
Мне казалось, чуть только кончится состояние непрерывной войны, чуть только будет разрублен узел нашей совместной мучительной жизни, все другие узлы: жилье, няня, заработок – распутаются сами собой.
Главное – расстаться, не дышать отравленным воздухом враждебности и ни в коем случае чтобы не дышала им Люша.
Цезарь Самойлович покидать наш дом не желал. Решила покинуть я.
– Ты что, замуж собираешься, что ли? – спросил у меня Цезарь после очередного «выяснения отношений».
– Нет, замуж не собираюсь, – ответила я (тогда это была сущая правда). – Я, наоборот, собираюсь из замужества вон. Я тебе не жена, я возьму Люшу и уйду.
В кармане у меня был ключ от комнаты моих друзей: на две недели они уехали в Царское. А дальше? А дальше тьма неизвестности. Я выбрала для своего ухода время, когда Митя Бронштейн отправился читать лекции то ли в Самарканд, то ли в Харьков. Мне надо было совершить свой решающий шаг в его отсутствие, иначе, опасалась я, увидав мою бездомность, он переселится к кому-нибудь из друзей и будет настаивать, чтобы мы с Люшей – впредь до разрешения жилищного вопроса – переехали в его большую комнату на Петроградской, я же ни за что не хотела стеснять его, ни вообще в какой-либо степени вмешивать в свой семейный разлад.
Одним прекрасным утром, когда Цезарь Самойлович еще спал у себя, а Люша уже проснулась в своей плетеной кровати возле моей тахты, я накормила ее поплотнее, одела потеплее, взяла приготовленный с вечера ручной чемоданчик, взяла из общей семейной кассы самостоятельно заработанные деньги и вышла на улицу.
Легкий морозец, легкий снежок. Освобождение!
Цезарю я оставила записку, и записку отцу.
Цезарю написала, что я сожалею о причиненном ему горе, что я виновата перед ним, потому что вышла за него не любя, но ухожу навсегда и прошу не искать меня и не врываться ко мне, пока я не устроюсь, – а тогда мы наладим его свидания с Люшей.
Корнею Ивановичу написала – беспокоиться не надо, скоро я подам ему весть.
Так началось наше с Люшей кочевье. Люша переносила его спокойно и, я бы сказала, с веселым любопытством; ее занимали новые комнаты, новый вид из окон, разные люди, незнакомые вещи. Мне же было тревожно: вот оно, наступило мое долгожданное освобождение! главный узел разрублен! остальные, однако, не распутываются сами собой. Кочуя по коммунальным квартирам, от подруги к подруге, при милом гостеприимстве радушных хозяев, не могла я не сознавать: всем-то мы с Люшей в тягость, всех стесняем, своего угла у нас нет, оставлять Люшу по-прежнему не на кого – а значит, и о работе, о возвращении в редакцию мечтать нечего. И откуда возьмется для нас новый дом? И когда?
Цезарь Самойлович обнаружил нас довольно быстро (всех моих друзей он знал наперечет) и объявил мне, что он уезжать из квартиры Корнея Ивановича не собирается, что я должна бросить глупости и вернуться домой, что я не имею права держать Люшу в тесноте и неустроенности. Вот, долбила я ему вечно: «режим, режим» – а какой же теперь у Люши режим? Тут он попадал в самую мою болевую точку: в каждом новом пристанище мне приходилось приспосабливать Люшин сон, еду, гулянье к распорядку новых хозяев. Да и теснота непомерная.
Дольше, чем у других, гостили мы тогда с Люшей у Александры Иосифовны Любарской, моей давней приятельницы сначала по институту, потом по редакции, в ее двенадцатиметровой комнате: Люша спала на сдвинутых стульях, я на Шуриной кушетке (к которой ввиду моей длины придвинут был стул), Шура же – на матрасе, на полу. Квартира, кухня коммунальная, жди, покуда освободится чей-нибудь примус – сварить Люше кашу. Какой уж тут режим! Изнурительная неустроенность, надеялся Цезарь, образумит меня и загонит домой, и потому он стойко не покидал Манежный. «Жду, жду, жду», – повторял он, настигая меня в комнате Александры Иосифовны или на улице, когда я гуляла с Люшей.
Но сдаться все-таки пришлось ему, а не мне.
До сознания Цезаря Самойловича дошло постепенно, что я и в самом деле не вернусь. Человек он был для меня чужой, чуждый – ни единый атом общности не роднил нас, – но человек порядочный, и, усвоив наконец, что решение мое бесповоротно, он счел невозможным занимать нашу «квартиру в квартире» Корнея Ивановича. Друзья его на три года завербовались куда-то на Север; ленинградское жилье – просторная комната на Бассейной – оставалась за ними, и они предложили Цезарю переселиться туда. Так он и поступил. Это неожиданно дало возможность обзавестись жильем и мне. С моим и Цезаревым уходом в квартире Корнея Ивановича образовались жилищные излишки. Законы насчет излишков были в ту пору строги, и Корнею Ивановичу необходимо было срочно две комнаты по собственному выбору заселить – иначе власти вселят туда кого угодно. Специалист по шестидесятым годам, Николай Александрович Пыпин, и жена его, Екатерина Николаевна, скромные тихие люди, переехали в Манежный, а мы с Люшей в их две комнаты на Литейном проспекте. (Там они не ладили с управдомом, это чрезвычайно опасно, и они во что бы то ни стало хотели переменить жилье.) Их комнаты были гораздо хуже, чем наши: бессолнечные, холодные, сырые, окнами в колодец второго двора; черная лестница, узкая, темная, этаж не третий, как у нас, а пятый, телефона нет и не будет – но зато наконец моя, моя квартира – отдельная, отдельная! Я никому не мешаю, я ни у кого не живу, я сама себе хозяйка – остальное несущественно. Мы с Люшей один на один, вдвоем, своею семьей, я да Люша. Ну не рай ли? Теперь только бы работа. Сущий рай.
И в этом раю – няня. Я нашла няню! Надежная, славная женщина, финка, Ида. Она сразу пришлась мне по душе – быть может, напомнила мне мое финляндское куоккальское детство. Что-то чудилось мне в ней привычное, возвращающее меня в заваленный снегом сад, к темно-хвойным соснам. К оледенелому заливу зимою. К мелкому, как мука, горячему песку летом. К трудной рыбачьей лодке, к натирающему тяжелые трудовые мозоли веслу.
Я проверила и убедилась: оставлять Люшу на попечение Иды – можно. Ида, молчаливая и мрачноватая, но надежная, будет исполнять мои требования. И главное – они привязались друг к другу, Ида и Люша. А я… я буду работать! Снова стану вслушиваться в чужое. Писать свое.
8
Месяца через полтора я воротилась на службу – туда, откуда ушла в 30-м году: я вернулась в Ленинградское отделение Детиздата. Возглавлял его, как и прежде, Самуил Яковлевич Маршак.
Сказать по правде, меня не столько влекла педагогика да и собственно «литература для маленьких», сколько работа у Маршака, с Маршаком и с учениками его – прежними моими товарищами.
Наверное, потому, что это была работа в искусстве.
Да, писатель С. Маршак и художник В. Лебедев подняли издание детских книг на высоту искусства. Разумеется, в рамках «выполнения плана» и «в рамках цензуры», то есть господствующей идеологии. Однако в этих рамках или, точнее, тисках Маршак, Лебедев, друзья, ученики, сотрудники, работая в Государственном издательстве, умудрились работать в искусстве. Факт удивительный, но – факт. Выпущенные в тогдашнем Ленинградском Детиздате книги для детей выдержали испытание временем, и лучшая проза Пантелеева и Житкова, лучшие стихи Д. Хармса и А. Введенского, лучшие переводы английских народных песенок сейчас – то есть через полстолетия – могут почитаться классическими не только в какой-то специально детской, но и в русской литературе вообще. Утверждаю: новеллы Пантелеева или Житкова – произведения русской классики. Стихи А. Введенского и Д. Хармса принадлежат не «стихотворству для детишек», а русской поэзии. Создавались они в пору непосредственного общения с Маршаком, а иногда позднее, но всегда как результат рабочих литературных навыков, привитых им, полученных от него. Ради необходимой «научности» предлагаю исследователям впредь сопоставлять рассказы Житкова и Пантелеева не с рассказами и повестями Гайдара или Осеевой, но с рассказами Бабеля, Зощенко, Олеши, а поэзию Хармса и Введенского не с бойко-услужливой версификацией Барто, а с поэзией Заболоцкого или чьей им будет угодно. Да и пусть назовут мне такого мастера прозы или стиха «для детей», мастера перевода «для детей», живописца или графика «для детей», который не был бы писателем, живописцем или графиком «вообще». Владимир Лебедев? Владимир Конашевич? Недаром знаменитый «детский писатель» Борис Житков, автор «Пуди», «Про слона», «Дяденьки», создал для взрослых «Слово» и роман «Виктор Вавич»; детский писатель Евгений Шварц, начинавший в Детиздате веселым пустяком «Рассказы старой балалайки», – автор всемирно известной пьесы «Дракон»; Л. Пантелеев, прославившийся повестями для подростков «Часы» и «Пакет» или, для маленьких, сказкой «Две лягушки» и сказкой-игрой «Буква „ты“» создал впоследствии шедевры мемуаристики, правдивейшие записи о Ленинградской блокаде, рассказы «Маринка», «Долорес» или рассказ, ведущий свое происхождение непосредственно от некрасовского «мужичка с ноготок», – «На ялике». Недаром – через годы! – Пастернак радостно и щедро удивился виртуозным переводам реплик из шекспировской трагедии, выполненным «детским писателем» С. Маршаком! Удивился потому, что привык рассматривать детских писателей лишь в одном «аспекте», а именно: пишут для детишек. И вдруг «Король Лир» Шекспира! Реплики шута!
Меня неудержимо привлекал к себе этот крошечный остров словесной, художнической, литографской и типографской культуры. Студенткой-практиканткой попала я в редакцию Детиздата летом 1928 года. Тут, за два месяца работы с Маршаком, я больше узнала о природе и возрасте слова, об оттенках смысла, о совпадении ритма со смыслом, об интонациях и паузах, научилась глубже понимать литературу, чем за годы обучения на специальном литературном факультете высших курсов при Государственном институте истории искусств.
Окончив в 1924 году среднюю «15-ю единую трудовую школу» (бывшее Тенишевское училище), я поступила в два учебные заведения сразу: на курсы стенографии (для заработка) и на высшие курсы при Институте истории искусств. Стенографистка из меня, пожалуй, вышла толковая, а вот насчет научного литературоведения… тут похвалиться мне решительно нечем… Аккуратно посещая лекции образованнейших профессоров, работавших в ту пору в Институте: Тынянова, Томашевского, Эйхенбаума, Энгельгардта, Бернштейна, Щербы, да еще иногда Виктора Шкловского в придачу, я, в сущности, не училась, а «так»… «Сдавала зачеты». «Получала высшее образование». Учителя на мою долю выпали редкостные, завидные, да я-то, в отличие от многих моих сверстников, в ученицы им не годилась.
Подлинным университетом суждено было стать для меня Ленинградскому отделению редакции Детиздата. Тут, в редакции, литература, «литературный процесс», то есть самый предмет институтского изучения, совершался на наших глазах и даже, как нам мерещилось, при нашем посильном участии. Не зачеты сдавали мы профессорам, а рукописи в типографию.
Отвлеченное мышление всегда было несвойственно и даже противопоказано бедной моей голове, художественная же проза, поэзия, литература во всех ее видах и жанрах – близка, любима, родима. В редакции не изучать нам приходилось закономерности в развитии таинственного процесса, именуемого «имманентный ряд», в котором одна литературная форма, устарев, сама из себя будто бы производит новую (ну, не фантастика ли, читатель, хотя бы и научная?) – а, изощряя слух, глаз, постигать стиль произведения, соответствие этого стиля авторскому замыслу, глубине его познаний и, самое существенное, – угадывать личность автора, его художнические склонности – осознанные, а иногда еще и не осознанные им.
«Восприятие – дело творческое», – внушал нам Маршак. От редакционных наших предложений требовал он точности, но не гелертерской, школярской, педантской, а той, что дается обостренным чутьем к языку и стилю, угадкой: в повести ли, в новелле, в поэзии ярче всего проявится дар этого человека? Да и одарен ли он вообще? И если да – то в чем истинное его призвание? Что он пережил сердцем, жизнью? что знает, что любит в самом деле?.. Родной русский язык обязаны мы были изучать неустанно: литературный и разговорный, давнишний и современный. (Замечу между прочим: обогащать и обострять собственные свои познания в русском языке нежданно-негаданно помогло мне мое ремесло стенографистки.) Учились мы, прикасаясь к рукописи, умению оберегать самобытность писателя (в том случае, если пишущий обладал ею) или требовать от автора, по крайней мере, строгого соблюдения грамматических и общепринятых литературных норм (если самобытности не оказывалось). Штампы, стереотипы, трафареты чиновничьей речи преследовали мы непреклонно. Книга шла к детям, по первым книгам дети усваивают родной язык. Он обязан быть богатым и – чистым.
Родной язык! Тут-то и разыгрывались наиболее ожесточенные, а иногда и комические споры между редакцией Маршака и «вышестоящими организациями».
«Вышестоящие» – ЦК комсомола, ГУС (Государственный ученый совет), работники Московского Детиздата, педологи и методисты обеих столиц не раз объявляли «борьбу за чистоту языка». Казалось бы, в годы повальной его бюрократизации и разнузданной вульгаризации, расхлябанности, да и самой заурядной неграмотности – борьба вполне своевременная. Но под чистотой начальнички наши понимали, на беду, очищение от жизни, безличие, скудость, пресность, стерильность, дистиллированность, выхолощенность – гладкопись. Мы же вели борьбу за выразительность, за словесное изобилие и разнообразие, за естественность внутреннего жеста, рождающего разнообразие интонаций, за живую разговорную речь – это с одной стороны; и за классическую литературную, проверенную, отборную, унаследованную от поэзии и прозы XIX века – с другой. Потому и отстаивали книги таких работавших у нас мастеров, как Пантелеев, Будогоская, Житков, Зощенко, Чарушин, – полнокровную, а не пустопорожнюю, не газетную (смесь неряшества с канцелярскими штампами). Но где уж было нам встретить сочувствие инстанций, если самые понятия «искусство», «художество» в применении к литературе для детей раздражали их до бешенства? При чем тут искусство и кто смеет брать на себя смелость отличать талантливое от бездарного? Оба определения – ненаучны. Было бы «идейно-правильно» и для деток «в занимательной форме». (А что искусство вообще не есть «идея в форме», что оно вообще не делится на содержание и форму, – об этом вышестоящие не слыхивали.)
Вторым предметом раздора между нами и вышестоящими оказалась игра. Третьим – сказка.
Отстаивая чистоту языка так, как мы понимали ее; ратуя за народную и литературную сказку, за былину и балладу, за народную колыбельную песенку; пытаясь решить, какими должны быть предисловия, объяснения к изданиям Пушкина, Гоголя, Герцена, Диккенса, какими средствами добиваться влюбленности в классическую поэзию и прозу вместо отвращения и скуки, – мы, естественно, вырабатывали – исходя из опыта – собственные принципы отбора и собственные навыки редактирования.
Здесь, однако, я излагать их не стану. Драматические истории борьбы за сказку подробно изложил К. Чуковский в своей книге «От двух до пяти». Глава так и называется «Борьба за сказку».[1]
Я же через несколько десятилетий после гибели «ленинградской редакции» написала книгу «В лаборатории редактора». Две главы посвящены там редакторскому искусству Маршака. Там и рассказано, каким литературным традициям пытались мы следовать, а от каких отбивались. К соответствующим главам моей книги я и отсылаю читателя. А также к некоторым статьям и воспоминаниям на ту же тему.[2]
Конечно, кроме благородных традиций и смелых экспериментов исполняла «ленинградская редакция» и «указания», то есть приказания «вышестоящих». Выпускали книги «идеологически выдержанные». Были мы и сами в известной мере заражены правительствующей идеологией. Это мы выпустили «Рассказ о великом плане» М. Ильина – рассказ весьма умелый – и великолепную поэму Маршака о Днепрострое:
Человек сказал Днепру:
Я стеной тебя запру.
И дело было не в одном лишь «высоком художественном качестве» этих произведений.
Самые темы их были для нас в ту пору не только навязанными сверху: в благотворность централизованного планового хозяйства, срочной индустриализации, механизации мы и сами тогда верили свято. («Вот в литературе план и спешка – безусловная помеха», – говорили мы друг другу. А в сельском хозяйстве? А в промышленности?) Скучающими пассажирами глядели мы на неоглядные поля, пробегающие мимо вагонных окон; экскурсантами – на станки в заводском цехе. А главное – мы спешили. Мы вечно спешили – не куда-нибудь, а на работу. Прочитать очередную рукопись. Срочно прочесть корректуру. Сверхсрочно съездить в типографию, на другой конец города (хотя бы и ночью), внести новую поправку в уже сверстанные листы. Обсудить вместе с художниками расположение картинок над четверостишиями. Съездить в две-три школы, чтобы проверить, как слушают дети новый рассказ Пантелеева.
Недосуг было думать. Нам казалось – мы заняты важнейшим делом на свете. Хорошо или плохо, справедливо или несправедливо управляет огромной страною послереволюционная власть – а детей наших в любых обстоятельствах надлежит учить русской грамоте. В этом наш долг, долг интеллигенции. Не так ли, дорогой читатель?..
К более сложному пониманию окружающей нас сложнейшей действительности мы оказались не подготовленными. Учились, учили других – а сами встретили беду неучами.
9
Маршак – один из наиболее энергичных, настойчивых и трудолюбивых людей, каких я видела в жизни. Когда входил он, бывало, в редакцию, – навстречу начинали, чудилось мне, шевелиться страницы всех рукописей на всех столах! Такую мощную излучал он энергию! Уставать рядом с Маршаком было неприлично, потому что сам он, казалось, не уставал никогда. В пятом часу утра, после целодневной и вечерней непрерывной работы, он мог попросить кого-нибудь перечесть вслух страниц десять рукописи, чтобы еще, и еще, и еще раз проверить, в самом ли деле шутливый диалог удался смешным, не затянуто ли описание природы на третьей странице, должно ли при переходе от одной мысли к другой стоять «но» или «однако», всюду ли ритмическое ударение совпадает с логическим, что больше соответствует речи героя, его социальной принадлежности, его душевному складу – если он ответит на вопрос собеседника «нет» или «нету»? Пустяков для Самуила Яковлевича не существовало: в книге все важно: каждое слово, каждый печатный знак, ширина пробела между строчками.
Среди чиновничьих отмелей, идеологических бурь, под окрики непрерывно сменяющихся высоких начальников, в которых неизменным оставалось одно: абсолютная чуждость порученному им делу, вел он наш корабль, как и положено капитану, маневрируя, пользуясь стратегией и тактикой. На официальных совещаниях, съездах и пленумах – хитрил, лукавил, лавировал, лишь изредка давая волю правому, но пагубному для защищаемого дела, гневу; в редакции же, перед нами, учениками, взрывчатость и нетерпеливость характера сдерживал далеко не всегда. Нам, его помощникам, беспощадно от него доставалось. Работая по 12–14 часов в сутки, требовал он того же от нас и не особенно-то учитывал такие мелочи быта, как маленькие дети, болезни, разводы, браки, коммунальные квартиры, теснота и пр. О выходных днях мы и понятия не имели. От каждого из нас ожидал он полноты самоотдачи, и хотя в издательстве, разумеется, были и художественный редактор, и техред, и корректоры, отвечали перед Маршаком за каждую книгу – и за ее макет, и за иллюстрации, и за опечатки – старшие редакторы, мы. Самуил Яковлевич учил, что черной работы в литературе не существует, что даже нумеровать страницы нельзя механически. Название ли, подпись ли под фотографией, разбивки ли на главы, любой подзаголовок – все требует напряженного внимания, изобретательности, слуха, вкуса, меткости – не менее, чем стихотворная строчка. В каждую корректуру каждой книги (а корректур нам давалось три) он вникал так, словно читает текст впервые, хотя читал его еще в рукописи десятки раз, а иногда страницами знал наизусть. А потому, случалось, и уходили мы из Дома Книги на Невском или из кабинета Маршака на углу Литейного и Пантелеймоновской лишь с первым робко-дребезжащим звоночком утреннего трамвая. Синтаксическая оплошность или даже простая опечатка воспринималась им как катастрофа, количество же рабочих часов в счет не шло. Маршак утверждал, что в детской книге недопустима ни одна опечатка, и имел прескверную способность открывать новоизданную книжку именно на той единственной странице, где эта единственная опечатка наличествовала.
Иногда, оборачиваясь назад, вспоминая груды машинописных, а то и рукописных страниц, полосы гранок, кипы версток и сверок, эти дни и ночи, эти месяцы и годы труда, да еще раздражительность, вспыльчивость, а подчас и несправедливость пере-переутомленного учителя нашего, вспоминая постоянное неудовольствие паразитического начальства, я понять не могу, как мы выносили всё вместе: труд, бытовую неустроенность, вечную спешку, маршаковскую придирчивость, тычки и пинки московских хозяев? И не только выносили – вопреки всему – любили нашу несносную жизнь. Наверное, любили оттого, что ощущали свой труд плодотворным, и еще оттого, что были тесно, неразрывно дружны. Не знаю, как на войне, в окопах, но «в тылу» такая дружба возникает только в совместной работе – когда приходится и выручать друг друга, и щедро помогать, когда формально отвечает за работу один, но не одинок он в добровольных помощниках. К тому же в редакции было весело. Да, придира Маршак иногда до слез доводил нас своими ненасытными требованиями, но какие что ни день он сочинял эпиграммы! одну виртуозней и смешней другой! И один ли Маршак! Каждый день, по несколько раз в день, в комнатушки нашей книжной редакции заявлялись из соседних комнат, из редакций журналов «Чиж» и «Еж» такие мастера эпиграмм, шуточных стихов, пародий и фарсов, как Ираклий Андроников, Олейников, Хармс, Шварц, Заболоцкий, Мирон Левин. Их издевательским объяснениям в любви (каждой из нас по очереди, но при всех!), их лирико-комическому стихотворству, их нравоучительным – навыворот! – басням, их словесным и актерским дурачествам не было конца – и слезы смеха легко смывали с наших душ и щек горечь обид и усталость. Андроников изображал Владимира Васильевича Лебедева, Маршака, Чуковского, знаменитого дирижера Штидри, Алексея Толстого, Эйхенбаума, или Качалова, или нашего курьера – гениально; иного слова не подберу. «Оды» Олейникова были злы, но неотразимо пленительны. Смех до упаду возвращал нам силы. Унынию в редакции не было места. Неудачи, радости, ссоры, огорчения случались, а вот уныния – не помню. Маршак:
Берегись Николая Олейникова,
Чей девиз: никогда не жалей никого!
Олейников:
Маршаку позвонивши,
Я однажды устал,
И не евши, не пивши
Семь я суток стоял.
Очень было не мило
Слушать речи вождя.
С меня капало мыло
Наподобье дождя…
Маршак:
Недавно случился великий сюрприз:
Редакторша Габбе явилась в Детгиз.
Сюрприз объясняют историки так:
Намедни скончался писатель Маршак.
Олейников:
Я влюблен в Генриетту Давыдовну,
А она в меня, кажется, нет.
Ею Шварцу квитанция выдана,
Мне квитанции, кажется, нет.
Заболоцкий:
Наталья, милая Наталья,
Скажу ли просто – «Натали»?
У ваших ног сидит каналья
С глазами, полными любви!
…Иногда, по дороге домой, я вспоминала какие-нибудь строки Заболоцкого, Олейникова, Мирона Левина или Евгения Шварца, останавливалась посреди тротуара и снова начинала смеяться. Прохожие глазели на меня как на помешанную. Мне же ни с того ни с сего припомнилось четверостишие Левина, записанное в нашей «буфетной книге»:
Никто от классика Крылова
Не услыхал худого слова.
Крылов, как истинный поэт,
Всегда боготворил буфет.
Маршак, только что расставшись с тобою и надавав тебе при разлуке 17 или 27 срочнейших поручений, через полчаса начинает без устали звонить в редакцию или домой, чтобы проверить, выполнены ли уже все 27. Если же позвонишь сама, тебя вновь настигнет град поручений. Стихи о телефонных беседах с Самуилом Яковлевичем Олейников оканчивал так:
А фальшивая Лида
Обняла телефон.
Наподобье болида
Завертелась кругом.
Она кисей юлила,
Улещая вождя.
С ней не капало мыло,
Не стекало дождя.
…Однако плакали мы, смеялись ли, а при чем здесь сотрудник Физико-технического института Матвей Петрович Бронштейн? При том, что одним из любимейших мечтаний Маршака было: вытеснить научно-популярную книгу для подростков – книгой научно-художественной. На пути к осуществлению мечты и состоялась встреча Маршака с Бронштейном. Самуил Яковлевич полагал, что создавать научно-художественные книги должны люди не «промежуточные», а те самые, которые создают науку. Только тогда, думал он, наука будет преподноситься читателю научно – то есть во всем драматическом величии неудач и побед. Только тогда не ограничится научная книга изложением результатов, перечнем готовых сведений, но разбудит в читателе самостоятельность мышления и критическую способность. Не кроется ли в Митином таланте, загадывала я, соединение, которое ищет Маршак: дар ученого и дар художника? Ученый, способный обращаться не к одной лишь логике, но и к чувствам и к воображению читателя?
Были уже у нас попытки рассказать детям об истории письменности («Черным по белому» М. Ильина); о том, как люди учились и научились измерять время («Который час?», «Как автомобиль учился ходить» того же Ильина…); «Про эту книгу» Бориса Житкова – о типографии, о книгопечатании. Или «Китайский секрет» Елены Данько – история фарфора.
Физик-теоретик М. П. Бронштейн мог, казалось мне, поведать о вещах более сложных, чем история фарфора или книгопечатания. Более сложно познаваемых, более отвлеченных.
Я не ошиблась. Содружество Мити с Маршаком дало свои плоды: «Солнечное вещество», «Лучи Икс», «Изобретатели радиотелеграфа». Научно-художественные книги М. Бронштейна.
Но – не дало ли оно еще один плод? Не плодом ли сближения Матвея Петровича с «ленинградской редакцией», разгромленной в тридцать седьмом, явилась и Митина гибель? Не познакомь я Митю с Самуилом Яковлевичем, не сведи его так тесно с редакцией, научно-художественные его книги, быть может, остались бы ненаписанными, но сам он остался бы жив? И совершил бы те открытия в науке, которых от него с такою уверенностью ожидали люди науки: наставники, коллеги, аспиранты?
Вопрос праздный. Работа в науке не в большей степени защищала человека от гибели, чем работа в литературе. Или в здравоохранении. Или в промышленности. Или на почте. Или где угодно. Или нигде.
В тысяча девятьсот тридцать седьмом опасности подвергалась каждая человеческая жизнь – вне зависимости от профессии, возраста, пола, социальной, национальной или политической принадлежности.
Опасно было – жить.