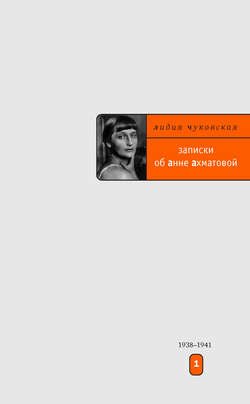Читать книгу Записки об Анне Ахматовой. Том 1. 1938-1941 - Лидия Чуковская - Страница 3
1939
Оглавление22 февраля 39[8].• Пришла – в старом пальто, в вылинявшей, расплющенной шляпе, в грубых чулках.
Сидит у меня на диване и курит. Статная, прекрасная, как всегда.
– Я не могу видеть этих глаз. Вы заметили? Они как бы отдельно существуют, отдельно от лиц[9].
– Мальчика своего моя соседка не любит[10]. Бьет его. Когда она берет веревку и принимается за него, я ухожу в ванную. Попробовала я один раз с ней говорить – она меня оттолкнула.
– Прошлую зиму я читала «Улисса». Прочла четыре раза, прежде чем одолела. Очень замечательная книга. Правда, на мой вкус там слишком много порнографии.
– Лева уже писал собственные научные работы, овладел языками. Он спросил однажды у своего профессора: верно ли то-то и то-то? Профессор ответил: раз вы так думаете, значит верно… Он очень вынослив, потому что всегда привык жить в плохих условиях, не избалован. Привык спать на полу, мало есть.
Потом она оглядела мои книги – то есть Митины английские[11] – выбрала E. Browning, и я отправилась ее провожать. Сухо, бесснежно, холодно. Ветер. Она идет легкой, быстрой походкой, но улицу переходить боится и на середине Невского вцепляется мне в рукав.
Долго стоит посреди, не позволяя мне идти дальше, пугаясь моих попыток. Стоим посреди улицы, она все сильнее и сильнее вцепляется пальцами мне в плечо. Говорит:
– Я не умею переводить. Осип[12] однажды мне так жалобно сказал: «Меня все заставляют переводить. Все говорят: переводите, переводите! А я не умею». Вот и я не умею.
Мы долго стояли посреди улицы. Я ее уверяла тихонько: уже можно, уже можно.
– Нет, нет, еще нельзя!
26 февраля 39. • Была у Анны Андреевны – заносила билет[13]. Сидит на диване, повязанная розовым линючим платком, поджав ноги в стоптанных туфлях.
– Знаете, я перечла m-me Browning. Что-то не понравилась она мне. Муж всегда тянул одну-единственную ноту, но виртуозно… А она… может быть, тем она и плоха, что очень уж на него похожа.
Сняла откуда-то с верхней полки, став ногами на диван, зеленую тетрадь. Я хотела помочь – «Что вы, я прыгаю, как коза!»
Перелистала ее.
– Много он сделал, особенно после 28 года[14].
Прочитала мне два стихотворения: одно о могучей нищете, которое я уже слышала раньше, а другое, неизвестное мне, о Киеве-Вие3.
– Прочтите ваши.
– У меня нет ничего нового.
Вдруг показала мне на свой лоб – там какая-то с краю темно-коричневая ранка.
– Это – рак, – сказала она. – Очень хорошо, что я скоро умру4.
3 марта 39, Москва. • – Что у вас? – спросила Анна Андреевна, вскочив с дивана и приблизив к моему лицу расширенные глаза.
Это в крошечной комнате Харджиева, где-то у черта на куличках, я ехала туда часа два5. Анна Андреевна любит и знает Москву, а я только раздражаюсь нескладицей. Ленинград своею стройностью приводит и душу в строй, а Москва выводит из равновесия.
У Николая Ивановича холодно. Анна Андреевна сидит на диване, накинув пальто на плечи. Пьем из каких-то кружек чай, а потом из них же вино. Николай Иванович, небритый, желтый, прислушивается к шагам за стеной – к шагам соседей.
Анна Андреевна говорит о литераторах, которые боятся с ней видеться.
– Сегодня Зина уже не пустила его ко мне, – говорит она о Борисе Леонидовиче[15].
Разговор о Герцене. Я долго и глупо ломлюсь в открытую дверь, доказывая, что Герцен – великий писатель, великий художник. Анна Андреевна горячо соглашается.
– Конечно, он гораздо крупнее, чем Тургенев, например. Но в «Былом и Думах» не люблю тех глав, где откровенности о Наташе.
Я пытаюсь спорить. Я понимаю так: в обращении Герцена к мировой демократии «по семейному делу» сказалась прекрасная наивность революционера, ощущавшего единство революции, морали, эстетики.
– Нет, не в единстве и не в наивности тут дело, – сказала Анна Андреевна. – Это время было тогда такое. В пушкинское время ничего о себе не рассказывали, а они выговаривали все, до дна.
2 мая 39, Ленинград. • Утром, гуляя с Люшей, я зашла к Анне Андреевне и уговорила ее выйти погулять[16].
Она слегка хромает: сломан каблук.
Идем по Фонтанке, мимо цирка, мимо Инженерного замка.
– Вам не приелся Петербург? – спрашивает она после долгого молчания.
– Мне? Нет.
– А мне очень. Даль, дома – образы застывшего страдания. И я так долго, слишком долго отсюда не уезжала.
Проходя мимо цирка:
– Тут, несколько лет назад, белыми ночами кричал тюлень…
Мимо Инженерного:
– Видите два окна с другими – цветными – стеклами? В этой комнате убили Павла.
Присели ненадолго в садике. Она говорила – восторженно – о фресках в Софийском соборе. (Видела фотографии.) И добавила:
– Новгородская София тоже очень хороша.
Мы пошли ее провожать.
– Я всю Фонтанку обжила, – сказала Анна Андреевна. – Тут жила, в доме капитула, с Олей.
(Это дом с колоннами недалеко от Симеоньевского моста6.)
– Вам надо почаще ходить гулять, – сказала я, прощаясь.
Она махнула на меня ручкой.
– Что вы! Разве сейчас можно гулять!
18 мая 39. • Вечером телефонный звонок: Анна Андреевна просит прийти. Но я не могла – у Люшеньки грипп, надо быть дома.
Она пришла сама.
Сидит у меня на диване, – великолепная, профиль, как на медали, и курит.
Пришла посоветоваться. В каждом слове – удивительное сочетание твердости, достоинства и детской беспомощности.
– Вот получила письмо. Мне говорят: посоветуйтесь с Михаилом Леонидовичем[17]. А я решила лучше с вами. Вы вскормлены Госиздатом.
(И выгнана им же!)
Текст письма: «Мы охотно напечатаем… Но пришлите больше, чтобы облегчить отбор».
– Вот уже двадцать лет так. Они ничего не помнят и не знают. «Облегчить отбор»! Каждый раз опять и опять удивляются моим новым стихам: они надеялись, что на этот раз, наконец, у меня окажется про колхозы. Однажды здесь, в Ленинграде, меня попросили принести стихи. Я принесла. Потом попросили зайти поговорить. Я пришла: «Отчего же стихи такие грустные? Ведь это уже после…» Я ответила: по-видимому, такая несуразица объясняется особенностями моей биографии.
Мы начинаем вместе, по памяти, перебирать стихи. Я кое-как пытаюсь слепить цикл. Она, хоть и пришла «посоветоваться», слушает меня вяло, без всякого интереса.
– Не хочу я искать, рыться… Бог с ними… Дам «Мне от бабушки-татарки», и будет с них. Да и остались одни безумно-любовные[18].
Прячет издательское письмо и, увидев у меня на столе томики маленького оксмановского Пушкина, начинает говорить о Пушкине[19]:
– Как «Пиковая дама» сложна! Слой на слое. Я это поняла впервые, когда читал Журавлев. Он изумительно читает. Своим чтением он открыл мне эту сложность8.
Обе мы дружно ругаем Яхонтова.
– Просто неинтересно, – говорит Анна Андреевна. Разговор о прозе Пушкина приводит нас к Толстому.
Анна Андреевна отзывается о нем несколько иронически. А потом произносит грозную речь против «Анны Карениной»:
– Неужели вы не заметили, что главная мысль этого великого произведения такова: если женщина разошлась с законным мужем и сошлась с другим мужчиной, она неизбежно становится проституткой. Не спорьте! Именно так! И подумайте только: кого же «мусорный старик» избрал орудием Бога? Кто же совершает обещанное в эпиграфе отмщение? Высший свет: графиня Лидия Ивановна и шарлатан-проповедник. Ведь именно они доводят Анну до самоубийства.
А как сам он гнусно относится к Анне! Сначала он просто в нее влюблен, любуется ею, черными завитками на затылке… А потом начинает ненавидеть – даже над мертвым телом издевается… Помните: «бесстыдно растянутое»?[20]
Я не спорю. Мне слишком интересно слушать, чтобы говорить самой. Ну да, она женофилка. Когда она умолкает, я говорю только: какие великолепные страницы перед самоубийством.
– Да, да, конечно, множество гениальных страниц. Бормотание мужичка под колесами – великолепная заумь.
А в общем не любит она, видно, Толстого.
– Я очень дружна с его внучкой Соней. Она дала мне альбом, чтобы я написала. В этом альбоме спертый дух – ханжеский дух Ясной Поляны.
Лозинский принес ей «Ад».
– Перевод замечательный, – говорит она. – Я читаю с наслаждением. Есть места натянутые, но их мало. Я сижу и сверяю.
Я, со свойственной мне способностью ляпать не подумавши, осведомляюсь, знает ли она итальянский.
Она, величаво и скромно:
– Я всю жизнь читаю Данта.
Мельком жалуется:
– Шумят у нас. У Пуниных пиршества, патефон до поздней ночи… Николай Николаевич очень настаивает, чтобы я выехала.
– Обменяли бы комнату?
– Нет, просто выехала… Знаете, за последние два года я стала дурно думать о мужчинах. Вы заметили, там их почти нет…[21]
И, не принимая моих попыток объяснить это[22], выпуская дым в сторону, цитирует чьи-то слова:
– «Низшая раса»…9
Поздно. Люшенька спит, но сильно кашляет во сне. Прошу Иду лечь не на кухне, а в детской, и иду провожать Анну Андреевну. На улице теплый вечер, глубокое небо. В этой глубине – колокольня Владимирской церкви.
По дороге Анна Андреевна рассказывает мне о черепе Ярослава, привезенном сюда для исследования («все зубы целы»), и о Киеве («испорчен ХIХ веком»).
Кругом множество пьяных. Кажется, что вся мужская часть улицы не стоит на ногах. Анна Андреевна рассказывает, как недавно вечером к ней по очереди пристали трое мужчин, и когда она прикрикнула на одного, он ответил:
– Я тебе не муж, ты на меня не ори!
Идем по ее темному двору. Споткнувшись, она говорит: «Не правда ли, какой занимательный двор?» Потом по лестнице, в полной тьме: ни одной лампочки. Она идет легко, легче меня, не задыхаясь, но слегка прихрамывая: каблук. У своей двери, прощаясь, она говорит мне:
– Вы знаете, что такое пытка надеждой? После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума.
29 мая 39. • Вчера вечером Анна Андреевна позвонила и вызвала меня. Я выбралась поздно. Застала ее лежащей.
– Ничего не случилось. Это я после ванны. Я здорова.
Толстое одеяло без простыни. Грубая рубаха. Мокрые волосы на подушке. Лицо маленькое, сухое, темное. Рот запал. «Вот такой она будет в гробу», – подумала я.
Но впечатление это скоро рассеялось. Она вскочила, накинула черный шелковый халат с драконом («китайское мужское пальто», – пояснила она) и принесла из кухни чай. К чаю был черный хлеб и какие-то соевые конфеты. Выпив чашку, она снова легла под одеяло и заговорила. У нее какая-то новая беда, и позвала она меня, видно, чтобы не быть одной. О беде не говорила, а обо всем на свете.
– Перечитываю Салтыкова. Замечательный писатель. «Современная идиллия» – перечтите. Вот, говорят, бедняга, вынужден был эзоповым языком писать. А ему эзопов язык шел на пользу, создавая его стиль.
И опять о Герцене:
– Да, вот это писатель… Вы не помните, между прочим, где он называл Николая – Дадоном? Мне для работы надо.
– А бывают и дутые репутации, например Тургенев.
(Я в восторге от такого совпадения нелюбви.)
– Как он плохо писал! Как плохо! Помните «Стук, стук!..» Прав был! Достоевский: сплошное mersi! И как по-барски он людей описывал: внешне, пренебрежительно.
Я сказала, что понятие «русский литературный язык» совершенно условное, что у каждого свой: у Гоголя, у Лермонтова, у Пушкина, у Толстого, у Герцена. Каждый из них писал на своем, а не на русском литературном. Вспомнила, что Корней Иванович, прочитав лермонтовское «Меж тем как Франция среди рукоплесканий», воскликнул: «Разве это по-русски? Это на каком-то другом, может быть и прекрасном, но на другом, особом языке. Звук другой».
– Корней Иванович ошибается, – сказала Анна Андреевна. – Это ни на каком особенном, а все дело в том, что в XVI и XVII веке во Франции существовал для начал и концов прочный канон. Например, оды должны были начинаться со слова «aussi». Пушкин часто переводил этот зачин. То же и «меж тем как». Это было просто нечто обязательное для торжественного начала. Уже Вольтер пародировал подобные зачины и использовал их в сатирических стихах. У меня об этом много написано – вон, все в тех ящиках лежит. Я уже и вообразить себе не могу, как воспринимается Пушкин без этого фона[23].
Я – о «Полтаве».
Она на минуту прижала руки к лицу.
– Откуда он знал? Откуда он все знал?
Потом:
– Никогда больше не буду это читать![24]
В коридоре топал и быстрым говорком тараторил Николай Николаевич.
Чтобы отвлечь Анну Андреевну от «Полтавы», я рассказала ей, как видела ее впервые на вечере памяти Блока в лазурной шали.
– Это мне Марина подарила, – сказала Анна Андреевна. – И шкатулку[25].
Я спросила о Мережковских.
– Недоброжелательные были люди, злые. И ничего не делали спроста. Мне в 17 году Зинаида Николаевна вдруг начала звонить, звала к себе, но я не пошла. Зачем-то я ей нужна была…
– А Розанов? – спросила я. – Я так его люблю, кроме…
– Кроме антисемитизма и половой проблемы, – закончила Анна Андреевна.
31 мая 39 • Вечером у меня сидел Геша11. Вдруг, без предупреждения, пришла Анна Андреевна. Ей позвонили, оказывается, из «Московского альманаха», просят стихи. Значит, все сомнения были напрасны. Она хочет, чтобы я отвезла[26]. Я обещала перед отъездом непременно к ней забежать. Она выпила чаю и быстро ушла, – по-видимому, Геша стеснял ее.
1 июня 39 • Сегодня я зашла к Анне Андреевне за стихами. Она лежит, лицо сухое, желтое, руки закинуты за голову. Я принесла ей котлеты, вареные яйца, торт и сирень. Да, и сирень, чтобы больше было похоже на подарок…
Скоро пришел Владимир Георгиевич[27].
Она попросила его переписать стихи:
– Вы ведь знаете, где.
Он долго перелистывал тетрадь, искал, не находил. Она объясняла, где и что, очень терпеливо, стараясь не раздражаться, и все-таки где-то в глубине голоса жило раздражение.
Владимир Георгиевич переписывал медленно. Я подала ей в постель котлету на хлебе и чашку чаю. Она ела и пила лежа, не поднимаясь.
Он спрашивал ее о знаках.
ОНА: Это совершенно все равно.
Я: Вы к знакам равнодушны?..
ОНА: В стихах – вполне. Такова футуристическая традиция12.
ОН: Нужно тут многоточие?
ОНА (не глядя): Как хотите. (Мне): К. Г.[28] говорил, что у меня каждая вторая строка завершается многоточием.
Владимир Георгиевич кончил переписывать и просил ее посмотреть, но она отмахнулась:
– Все равно… Не важно…
Взяв в руки тетрадь и взглянув на оригинал, я спросила:
– Тут что? Черточка? или пробел?
– Нет, но там, к сожалению, строфа… Всю жизнь я мечтала писать без строф, сплошь. Не удается[29].
4 июля 39. • Вчера я с утра позвонила Анне Андреевне. «Можно прийти вечером?» – «Можно, только приходите раньше, я хочу скорее увидеть вас».
Я пришла раньше.
Лежит – опять лежит, закинув руки за голову. Отворено окно в сад. Тихо и пусто. Около окна на полу стоит картина: портрет Анны Андреевны в белом платье.
– Хорошо написал меня Осмеркин. Он 29-го кончил. По-моему, лицо очень похоже.
Я не разглядела лица в темноте угла.
После того, как я рассказала ей, а она мне[30], она взяла в руки и прочитала вслух какое-то совершенно дурацкое читательское письмо.
«Вы не увлекаетесь формой, вы пишете просто. А Пастернак увлекается формальными исканиями, создает комбинации слов…»
– Просто! – с сердцем сказала Анна Андреевна. – Они воображают, что и Пушкин писал просто и что они все понимают в его стихах.
А я подумала о Пастернаке. Сам он лучше всех сказал о своих судьях и о своей поэзии: «…развращенные пустотою шаблонов, мы именно неслыханную содержательность, являющуюся к нам после долгой отвычки, принимаем за претензии формы»13.
Так обстоит дело со сложностью. Что же касается простоты, то она тоже только тогда прекрасна, когда содержательна – то есть сложна. И я не верю, что человек, не понимающий Пастернака, действительно понимает Ахматову. А уж о Пушкине и речи быть не может.
6 июля 39. • Пришла и прочитала:
И легких рифм сигнальные звоночки…[31]
14 июля 39. • Днем сегодня я была у Анны Андреевны. Она куда-то торопилась, так что я даже не поняла, почему по телефону она позволила мне прийти. Впрочем, она боится улиц и любит, чтобы кто-нибудь ее провожал.
Чуть я пришла, мы отправились.
– Пунины взяли мой чайник, – сказала мне Анна Андреевна, – ушли и заперли свои комнаты. Так я чаю и не пила. Ну Бог с ними.
Мы вышли в коридорчик, и она начала запирать свои двери. Это оказалось длинной, сложной процедурой. Замкнув дверь своей комнаты, она, когда мы уже вышли в переднюю, вернулась и дополнительно заперла кухню.
Мы шли через Занимательный вход.
– Посмотрите на эту дверь, – сказала мне Анна Андреевна и прикрыла ее. Там оказалась надпись: «Мужская уборная». – Вечером, когда эта дверь прикрыта так, что надпись видна, – к нам никто не приходит.
По Невскому я проводила ее до угла Садовой. Мы молчали – жара мешала говорить. Улицу Анна Андреевна перешла, держась за мой рукав, вздрагивая и озираясь, хотя было пустовато. Подошел ее трамвай. Я стояла и смотрела, как она поднялась по ступенькам, вошла, схватилась за ремень, открыла сумку… В старом макинтоше, в нелепой старой шляпе, похожей на детский колпачок, в стоптанных туфлях – статная, с прекрасным лицом и спутанной серой челкой.
Трамвай как трамвай. Люди как люди. И никто не видит, что это она.
20 июля 39. • Вчера весь вечер я провела у Анны Андреевны.
Она лежит. Но уверяет, что здорова.
Меня уговорила сесть в кресло, куда до сих пор садиться я остерегалась.
– У него, правда, ножки нет, – сказала Анна Андреевна, – но вы не обращайте внимания, это не беда, стоит только подставить вон тот сундучок.
Я подставила сундучок, села, и после обычных – «что у вас?» – «а у вас что?» – началась, как всегда, «1001 ночь».
Я призналась, что не люблю Мопассана. И была осчастливлена ответом, что и она его терпеть не может.
– Особенно мерзки большие вещи. Да и рассказы. Я только один рассказ люблю – тот, где человек сходит с ума14. Противно, что он на всех портретах подает себя мускулистым, а сам издавна паралитик. Так и в рассказах.
Потом мы заговорили о Прусте, и она час целый излагала мне содержание романа «Альбертина скрылась».
Покончив с Альбертиной, Анна Андреевна вскочила и накинула черный халат. (Он порван по шву, от подмышки до колена, но это ей, видимо, не мешает.) Пили крепкий чай с хлебом – больше нет ничего, даже сахару, и я обругала себя, что не принесла его.
На серебряных чайных ложечках выгравировано маленькое перечеркнутое а. «Это я так пишу», – объяснила Анна Андреевна.
Мне захотелось поближе рассмотреть шкатулку, которая издали меня всегда занимала. Она сняла ее с этажерки. Шкатулка дорожная, серебряная, ручка входит внутрь крышки. Рядом со шкатулкой стоит маленькая трехстворчатая иконка, а рядом с иконкой – камень и колокольчик. Под колокольчиком оказалась чернильница, очаровательная, тридцатых годов прошлого века. (Колокольчик – это ее крышка.) Тут же пустой флакон из-под духов.
– Понюхайте, правда, нежный запах? Это – «Идеал», духи моей молодости.
Посмотрев на Анну Андреевну сбоку, я спросила:
– Вас никто не лепил?
– Есть статуэтка работы Данько, но она не у меня. Один скульптор собирался было лепить меня, но потом не пожелал: «Неинтересно. Природа уже все сделала»15.
Она снова легла. Начала рассказывать всякие истории, перескакивая с предмета на предмет, с имени на имя. Спросила, слышала ли я о Палладе?
– Нет.
– Даже не слышали? Это можно объяснить только вашей сверхъестественной молодостью. Она была знаменита. Браслеты на ногах, гомерический блуд. Один раз при мне она сказала своей приятельнице: «У меня была дивная квартира на Моховой. Ты не помнишь, с кем я тогда жила?»16
Я ее стала расспрашивать о Ларисе Рейснер – правда ли, что она была замечательная?
– Нет, о нет! Она была слабая, смутная. Однажды я пришла к ней в Адмиралтейство – она жила там, когда была замужем за Раскольниковым. Матрос с ружьем загородил мне дорогу. Я послала сказать ей. Она выбежала очень сконфуженная… Поразительно она умерла: ведь одновременно умерли ее мать и брат, тоже от брюшного тифа. Мне кажется, тут что-то неладное в этих смертях.
Я спросила: была ли Лариса так красива, как о ней вспоминают?
Анна Андреевна ответила с аккуратной методической бесстрастностью, словно делала канцелярскую опись:
– Она была очень большая, плечи широкие, бока широкие. Похожа на подавальщицу в немецком кабачке. Лицо припухшее, серое, большие глаза и крашеные волосы. Все.
Почему-то разговор коснулся Ольги Берггольц.
– Она раньше часто ко мне бегала. Очаровательно хорошенькая была. Джокондовская безбровость ей очень шла. А потом она вдруг изменилась. Наклеила брови. И стала жандармом в юбке. И сразу подурнела – вы заметили?
Я упомянула о хорошей фотографии с альтмановского ее портрета, которую я видела у одной своей знакомой.
Она об Альтмане не подхватила, но, помолчав, произнесла:
– У меня всегда была мечта, чтобы муж повесил над столом мой портрет. Но никто не повесил – ни Коля, ни Володя, ни Николай Николаевич. Он только теперь повесил, когда мы разошлись. То есть положил на стол под стекло мою карточку и дочери[32].
Ушла я поздно. Анна Андреевна попросила меня непременно прийти завтра с утра. Глаза умоляющие.
Я приду*.
21 июля 39. • Я пришла с утра, как обещала.
Анна Андреевна сидит на диване, молчаливая и прямая. Молчит – тяжело, внятно. Мы ждали какую-то даму, с которой должны отправиться вместе[33].
Напряжение передалось и мне. Я тоже смолкла. Не зная, чем заняться, я начала перелистывать Байрона, лежавшего сверху, – толстый, растрепанный английский том.
– Не смотрите, пожалуйста, картинки, – с раздражением сказала мне Анна Андреевна. – Они ужасные. Одну я даже выдрала, видите?
– Да, они сильно оглупляют текст, – согласилась я.
– А у Байрона и без того ума не слишком много.
Пришла ожидаемая дама. Тоненькая, старенькая, все лицо в мелких морщинках. Углы узкого рта опущены. Не поздоровавшись со мною и даже, видимо, не заметив меня, она сразу сообщила Анне Андреевне о Г[34].
Анна Андреевна закрыла лицо ладонями. Маленькие детские ладони.
Нам пора было идти.
– Познакомьтесь: Ольга Николаевна – Лидия Корнеевна, – вдруг сказала Анна Андреевна на лестнице18.
Как только мы ступили на крыльцо, мы едва не были убиты досками, которые кто-то вышвыривал из окна лестницы. Они пролетели мимо наших голов и с грохотом упали у ног. Мы вернулись внутрь и долго там стояли. Грохочущая гора досок перед дверью росла.
Наконец швырянье кончилось. Мы перешли через гору, помогая друг другу. Вышли на Фонтанку.
А дальше все такое знакомое, как узор на обоях. С той только разницей, что с каждым разом «змея» все короче[35].
И вот уже все позади. Но мы еще там. Мы сидим с Анной Андреевной на скамейке, более похожей на жердочку. Ольга Николаевна встретила знакомую и отошла. И Анна Андреевна вдруг зашептала, наклоняясь ко мне:
– Ее сын – Левин брат… Он только на год моложе Левы. У него совсем Колины руки19.
29 июля 39. • Вчера днем я забегала к Анне Андреевне, у нее Владимир Георгиевич и Ольга Николаевна. Пьют чай с хлебом. Я не раздевалась, присела на минутку. Они стали меня расспрашивать – и я рассказала[36]. Если я не говорю, если я одна, я плачу редко. Но говорить мне нельзя: голос обрывается в плач.
Все сделали вид, что ничего не заметили. Но Анна Андреевна, провожая меня до дверей и прощаясь, спросила:
– Когда можно к вам прийти? Можно, я приду завтра?
(Я до сих пор не знаю: она непосредственно, от природы добра или это благородный ум, высокоразвитый эстетический вкус заставляют ее совершать добрые поступки?)
Сегодня она пришла вечером. У меня была Зоечка[37]. Мы пили чай. Анна Андреевна разговаривала легко, свободно, светски. Я спросила у нее, где и как она училась.
– В гимназии в Царском, потом несколько месяцев в Смольном, потом в Киеве… Нет, гимназию я не любила и институт тоже. И меня не очень-то любили.
– В гимназии, в Царском, был со мной случай, который я запомнила на всю жизнь. Тамошняя начальница меня терпеть не могла – кажется, за то, что я однажды на катке интриговала ее сына. Если она заходила к нам в класс, я уж знала – мне будет выговор: не так сижу или платье не так застегнуто. Мне это было неприятно, а впрочем, я не думала об этом много, «мы ленивы и нелюбопытны». И вот настало расставание: начальница покидала гимназию, ее куда-то переводили. Прощальный вечер, цветы, речи, слезы. И я была. Вечер кончился, и я уже бежала вниз по лестнице. Вдруг меня окликнули. Я поднялась, вижу – это начальница меня зовет. Я не сомневалась, что опять получу выговор. И вдруг она говорит:
– Прости меня, Горенко, я всегда была к тебе несправедлива.
Скоро Зоечка ушла; Анна Андреевна, вскочив со стула, рассказала о Коле. Она была ужасно возбуждена[38].
Я начала ей рассказывать о нашей детгизовской эпопее, о провокациях Мишкевича, о его штуках с моим Маяковским.
Она замахала на меня рукой:
– Не надо, не надо, не терзайте меня21.
Потом предложила почитать мне стихи. Прочитала «И упало каменное слово» и «Годовщину веселую празднуй»[39]. Спросила: какое мне больше нравится?
Я не была в состоянии ответить на этот вопрос: я была слишком счастлива. Что я дожила до этого. Что я это слышу. И слишком несчастна.
Не добившись от меня никакого толку, Анна Андреевна сказала:
– Про свои старые я знаю все сама, словно они чужие, а про новые никогда ничего, пока и они не станут старыми.
Потом все было, как повелось: я иду ее провожать, на улице пьяные, при переходе она вцепляется мне в рукав и боится сделать шаг. Занимательный вход и кромешная тьма на лестнице.
– Ем я теперь только тогда, когда меня кормит Ольга Николаевна, – сказала Анна Андреевна. – Она как-то меня заставляет.
9 августа 39. • Сегодня, когда я была у Анны Андреевны, я заметила на стене маленькую картинку. Очаровательный рисунок карандашом – ее портрет. Она позволила мне снять его со стены и рассмотреть.
Модильяни.
– Вы понимаете, его не интересовало сходство. Его занимала поза. Он раз двадцать рисовал меня.
Он был итальянский еврей, маленького роста, с золотыми глазами, очень бедный. Я сразу поняла, что ему предстоит большое. Это было в Париже. Потом, уже в России, я спрашивала о нем у всех приезжих – они даже и фамилии такой никогда не слыхали. Но потом появились монографии, статьи. И теперь уже все у меня спрашивают: неужели вы его видели?
Об Олдингтоне:
– Он какой-то первый ученик.
Я призналась, что меня раздражает фрейдизм, что я во Фрейда не верю.
– Не скажите. Я многого не понимала бы и до сих пор в Николае Николаевиче, если бы не Фрейд. Николай Николаевич всегда стремится воспроизвести ту же сексуальную обстановку, какая была в его детстве: мачеха, угнетающая ребенка. Я должна была угнетать Иру. Но я ее не угнетала. Я научила ее французскому языку. Все было не то – при ней была обожающая мать, вообще все было не то. Но он полагал, что я ее угнетала. «Вы никуда не ходили с ней». Но я и сама никуда не ходила… Какие нежные письма девочка писала мне!
Я осведомилась, как обстоят дела с ее переездом.
– Вы думаете, они мне мешают? Нисколько.
Я спросила о хозяйстве.
– Домработница иногда приходит. Раз в пять дней. Варит мне курицу. А когда ее нет, я варю себе картошку. Если Владимир Георгиевич должен зайти ко мне после работы – тогда я стряпаю что-нибудь основательное, бифштекс например.
Анна Андреевна взяла из кучи книг, лежавших в кресле, толстую тетрадь, переплетенную в черное, и протянула мне, пояснив:
– Это то, что мне вернули. Друзья отдали ее в переплет. И я теперь пишу на пустых страницах[40].
Я раскрыла. Два перечеркнутых штампа: один – 1928, другой – 1931 (кажется). Стихи переписаны на машинке. Чьи-то пометки красным и черным карандашом. Подчеркнуто: «закрыв лицо, я умоляла Бога». Подчеркнуто слово «поминальный». Перечеркнуты стихотворения: «Чем хуже этот век предшествующих», «Все расхищено, предано, продано», «Ты – отступник: за остров зеленый»[41]. Пока я перелистывала тетрадь, Анна Андреевна стояла у меня за стулом. Мне это было неприятно, я смотрела кое-как. Успела увидеть мне неизвестное стихотворение, кончающееся строкой:
Бессмертного любовника Тамары[42] —
но тут Анна Андреевна захлопнула тетрадь и снова сунула ее в кучу книг в кресле.
Не помню как, разговор коснулся стихов Николая Степановича.
– Самая лучшая его книга – «Огненный Столп». Славы он не дождался. Она была у порога, вот-вот. Но он не успел узнать ее. Блок знал ее. Целых десять лет знал.
– Кстати, из дневников Блока сделалось ясно, что он очень холодно, недоброжелательно относился к людям. Там еще многое вычеркнуто – о Менделеевых, о Любе.
На прощание она сказала:
– Я прочитала книжку вашего мужа. Какая благородная книга. Я таких вещей не читаю, а тут прочла, не отрываясь. Прекрасная книга…22 Можно, я дам ее Владимиру Георгиевичу?
10 августа 39. • В 11 часов утра я пришла к ней, как обещала. Она была готова и ждала меня[43]. Я взяла чемодан с бельем, она – сумку с башмаками. Я спросила, почему она не сошьет мешок.
– Я не умею шить.
Мы пошли к цирку. На залитой солнцем площади ждали трамвая. Лошадь везла дрова.
– Дрова, которых у меня нет, – сказала Анна Андреевна. – Их некуда положить. Весь сарай доверху занят дровами Николая Николаевича.
Я спросила, как она думает, нарочно ли Николай Николаевич делает ей неприятности.
– Нет, не нарочно. Он даже был сконфужен, когда сообщил мне, что для моих дров места нет. «Понимаете, Аня, оказывается, наши дрова занимают сарай до самого верха!»
Подошел наш трамвай. Повезло: мы обе сидели, пристроив вещи на коленях.
– Я уверена, что плавать нельзя разучиться, – сказала Анна Андреевна. (Я не сразу поняла, почему она заговорила о плаванье, но скоро догадалась.) – Я однажды приехала в Разлив и заплыла далеко-далеко. Николай Николаевич испугался, звал меня, а потом сказал мне: «Вы плаваете, как птица».
Мы в эту минуту ехали по Жуковской.
– Вот там, напротив, была лепная конская головка, – указала мне подбородком в окно Анна Андреевна. – Это единственный памятник Ленинграда, воспетый Маяковским. Тут он расхаживал, ожидал и страдал. В день его смерти я пришла сюда. На моих глазах скалывали лепную головку23.
Чем ближе подъезжали мы к месту нашего назначения, тем она становилась мрачнее и молчаливее. Выйдя из трамвая, сразу вцепилась мне в рукав.
Все было, как всегда.
28 августа 39. • В последние десять дней многое надо было записать, но в спешке я не записывала. Постараюсь припомнить теперь.
Кажется, это было 14-го, днем – раздался телефонный звонок. Пока Анна Андреевна не назвала себя, я не понимала, кто говорит – так у нее изменился голос. – «Приходите». – Я пошла сразу. Анна Андреевна объявила мне свою новость еще в передней. «Хорошо, что я так и думала», – добавила она[44].
Мы побыли минутку у нее в комнате. Я соображала, куда и кому звонить. Анна Андреевна была такая, как всегда, только все разыскивала в сумочке чей-то адрес, и видно было, что она все равно не найдет его. По телефону мне удалось довольно быстро условиться о шапке, шарфе, свитере. Все, кому я звонила, сразу, без расспросов, понимали все. «Шапка? Шапки нет, но не нужны ли рукавицы?» Сапоги, сказала Анна Андреевна, в сущности, есть: они гостят у кого-то из друзей. Мы отправились за сапогами вместе (Анна Андреевна не могла объяснить мне, куда ехать). Долго ехали в троллейбусе. Разговоров по дороге я не помню. Дверь открыл нам высокий носатый молодой человек[45]; она сообщила ему свою новость; он кинулся куда-то вглубь по коридору, и оттуда раздался женский вскрик: «Что ты говоришь!» Маленькая женщина провела нас в комнату, мещански убранную, потом в столовую. Анна Андреевна пыталась выпить чаю, но не могла. Оказалось – сапоги в починке. Молодой человек – Коля – обещал «выбить их из сапожника мигом», потом объявил мне, что завтра зайдет за мной в 8 часов утра.
Я увела Анну Андреевну. По дороге я читала ей стихи Мирона Павловича. Они ей понравились24.
Судьба послала нам троллейбус мгновенно. Мы сошли у цирка. На мосту Анна Андреевна сказала мне:
– Август у меня всегда страшный месяц… Всю жизнь…
Я проводила ее до дому. Обычно, прощаясь, она говорит, наклоняя голову: «Спасибо вам», а тут сказала:
– Я вас не благодарю. За это не благодарят.
Вечером того же дня, забежав в разные места, я снова приехала к ней – и не одна, а с Шурой[46]. Мы привезли все-все! так счастливо! И сапоги уже тоже стояли на месте. У окна шила какая-то мне незнакомая дама. Шура тоже принялась шить. Анна Андреевна была тихая, отсутствующая, уже погруженная в свое завтра. Делать она ничего не делала и плохо слышала то, что мы ей толковали. Вопросы задавала по нескольку раз одни и те же. Я скоро ушла – торопилась к Люше, а Шура осталась. (Я же все равно шить не умею.) Провожая меня, Анна Андреевна сказала у двери:
– А завтра мне еще надо хорошо выглядеть.
– Вы это можете?
– Я всю жизнь могла выглядеть по желанию: от красавицы до урода.
На следующее утро, ровно в восемь, ко мне вбежал запыхавшийся Коля. Мы решили по дороге зайти к Анне Андреевне, чтобы сговориться точнее. Коля шагал так быстро, что я задыхалась. У Анны Андреевны был Владимир Георгиевич. Мы условились с ней о встрече там, во дворе пересылки, и отправились. Началась жара. Коля тащил мешок. С трамваем повезло, мы добрались быстро. Во дворе, где в прошлый раз были только я да Анна Андреевна, сейчас толпою клубилась очередь. Главный вопрос здесь: что можно? Вещи принимала заляпанная веснушками злая девка с недокрашенными рыжими волосами. Когда пришел наш черед, я спросила: «Нужно ли писать имя и адрес того, кто передает? Или только того, кому передают?» – «Нам нужен адрес, кто передает; адрес “кому” – мы и без вас знаем», – злорадно ответила рыжая.
Получив квитанцию, мы решили пойти на Невский, выпить воды и на всякий случай купить для Анны Андреевны в аптеке какие-нибудь сердечные капли. У выхода со двора мы ее встретили. Она была в аккуратно выглаженном белом платье, с чуть подкрашенными губами.
– Уходите? – спросила она с испугом.
Мы объяснили, что сейчас вернемся, и вложили ей в сумочку квитанцию.
Без конца длился этот окаянно-жаркий день в пыльном дворе. Пытка стоянием. Одному из нас удавалось иногда увести Анну Андреевну из очереди куда-нибудь прочь, посидеть хоть на тумбе; другой в это время стоял на ее месте. Но она из очереди уходила неохотно, боялась: вдруг что-нибудь… Молча стояла. Мы с Колей иногда оставляли ее одну и уходили посидеть на бревнах, сваленных возле самых железнодорожных путей. Коля на моих глазах с ног до головы покрылся сажей. По лицу у него текли черные ручьи; их он оттирал, как прачка, локтем. Наверное, и я сделалась такая же. Он, видно, славный человек, думающий, смелый и немного смешной25. Рассказал мне все о себе, о Леве, а начался наш разговор с таких его слов: «Главное, что я понял: никому нельзя верить и никому ничего нельзя рассказывать». Плохо, значит, понял? Или сразу почувствовал ко мне доверие, как и я к нему? Что поделаешь, мы люди, а тягу людей друг другу верить нельзя, по-видимому, разрушить ничем… Я нашла возле бревен чурбан, и Коля, отдуваясь, притащил его Анне Андреевне. Она согласилась ненадолго присесть. Я смотрела на ее четкий профиль среди неопределенных лиц без фаса и профиля. Рядом с ее лицом все лица кажутся неопределенными.
К четырем часам я непременно должна была спешить домой, к Люше, чтобы отпустить Иду, и я ушла со смятенным сердцем, оставив Анну Андреевну на Колином попечении, утешая себя мыслью, что он, видно, надежный друг[47].
В последующие дни она дважды заходила ко мне без звонка и не заставала дома. (Я была впопыхах, в бегах: тысяча дел перед отъездом в Москву.)
Наконец, накануне отъезда я вырвалась к ней – это было 17.VIII, а может быть, 18-го.
Она лежала. У нее болит спина и омертвели три пальца на левой ноге. (Со мной это случалось – полтора года назад – и не один раз.)
– Сейчас уже ничего, – сказала мне Анна Андреевна, – а когда я вернулась оттуда в тот день, ноги отекли так сильно, что я сняла туфли и по Занимательному двору шла в чулках.
Я осмелилась сказать:
– Надо будет вам собой заняться.
Она поморщилась.
– Только, пожалуйста, сейчас об этом не говорите.
Она поднялась, села за стол между двумя подсвечниками (свечи не горели, был ясный день) и принялась переписывать стихи[48].
– Теперь прочтите, – сказала она, окончив, – и расставьте, пожалуйста, запятые.
Запятые оказались в полном порядке, но в двух местах пропущены слоги.
Желая отрезать от листка лишнюю бумагу, Анна Андреевна принялась искать разрезательный нож. Подняла крышку большой шкатулки, стоящей на столике у окна. Я подошла поближе. В шкатулке лежал гребень – тот, знаменитый, с анненковского портрета, который был на ней, когда она читала стихи памяти Блока и я видела ее в первый раз. И множество фотографий – детских. На одной рядами стоят дети; в первом ряду – девочка в коротких штанишках.
– Это я на гимнастике. В Гунгербурге. Я так хорошо помню этот день.
Потом прелестная десятилетняя наголо остриженная девочка. Удивительные очертания головы, и овал лица уже совершенно ахматовский.
Зато вот ей шестнадцать-семнадцать лет – и ничего ахматовского. Совсем не она. Что-то неопределенно-девическое.
Она развязала розовую марлю. Там лежали яйца, расписанные черной тушью. Три. И четвертое – розовое с какими-то восточными буквами.
– Это мне Володя подарил. Тут нарисованы земля, небо, море. А это Левушка подарил на Пасху.
Она нашла разрезательный нож, снова увязала яйца в марлю и захлопнула шкатулку.
Потом надписала конверт.
18 августа вечером я уехала в Москву.
26-го я вернулась. Времени не было ей позвонить. Но вчера, возвращаясь из библиотеки, я, нос к носу, столкнулась с Колей.
– Анна Андреевна в больнице!
– Что случилось?
– У нее воспаление челюсти.
В какой больнице – он не знал. К счастью, вечером мне позвонил Владимир Георгиевич. Мы условились, что завтра я пойду ее навещать. Но не пришлось: сегодня, пока я была в библиотеке, позвонил кто-то от ее имени и просил передать, что она уже дома.
Днем мы пошли к ней с Люшенькой. Накупили сластей, а еще взяли с собой детские книжки и игры, которыми она уже давно просила меня снабдить Валю и Шакалика[49]. Я покричала под окном – она жаловалась, что звонка иногда не слышит. Из-за Люшеньки мы довольно долго поднимались по лестнице. Она ждала нас на верхней площадке у своих дверей.
– Какие милые гости к нам идут! – сказала она, увидев Люшу.
В черном халате и почему-то с помолодевшим лицом. (Я вспомнила блоковское:
Оно от мук помолодело,
Вернув бывалую красу.)
У нее в комнате – Ольга Николаевна. Какая-то веселая, пополневшая – видно, появилась надежда[50]. Анна Андреевна привела мальчиков, и они, под Люшиным руководством, занялись кубиками, расположившись на стуле у окошка. Анна Андреевна была очень приветлива и ровна, но я видела, что она еле держится. Сидя очень прямо на диване, она рассказывала:
– Когда меня привезли в больницу, я была как из-под грузовика вынутая: подбородок опух, спина не гнется, ноги опухли…
– Мне говорил потом Владимир Георгиевич, что доктор удивлялся моему терпению. А когда же мне было кричать? До – не больно; во время операции – щипцы во рту, не крикнешь; после – уже не сто́ит.
Встала, наклонилась к ребятам. Терпеливо помогла им сложить из кубиков картинку «Князь Гвидон и лебедь» (игра «Сказки Пушкина»). Я опять увидела, с каким напряжением она держится на ногах.
Мы простились, условившись, что на днях она приведет мальчиков к Люше смотреть волшебный фонарь.
У двери она сказала мне своим ровным, душераздирающим голосом:
– Спасибо вам.
5 сентября 39. • Я опять пошла к Анне Андреевне с Люшей, но решила Люшу оставить в саду на скамеечке – пусть подышит! – и подняться одной. У Люши с собою был «Том Сойер». Она обещала спокойно ждать меня ровно полчаса. «А дольше не надо. Ладно, мам? Дольше не надо».
На лестнице я нагнала Ольгу Николаевну с корзиночкой; она несла Анне Андреевне обед.
Мы пошли вместе.
– Вот, несу ей еду. Сама она ничего себе не готовит, а домработница является только в выходной день.
Анна Андреевна лежала на своем дырявом диване, укрытая ватным одеялом.
– Вот так, когда лежу на спине, – сказала она, – чувствую себя хорошо. А чуть повернусь или встану – голова кружится.
Ольга Николаевна налила уже бульон в чашку. Но для рыбок и помидоров нужны были вилки.
– Знаете, Анна Андреевна, я нигде не могу найти вилок.
Анна Андреевна встала, поискала где-то в горке среди ваз и красивых чашек.
– Нет, тут их не может быть, я сама видела их в кухне.
Пошла в кухню, вернулась – нет.
– Пропали! Вот так у нас все, все предметы. Их надо пасти, а чуть перестанешь пасти – сейчас исчезнут. Недавно у нас мыльница пропала. Ее все видели, Анна Евгеньевна видела ее утром до ухода на службу. Я хотела передать ее Левушке, но она исчезла. Вот так у нас все26.
Мои полчаса истекли, и я ушла.
9 сентября 39. • У меня грипп. Вчера меня навестила Анна Андреевна. Нарядная! На руках перстни, на груди брошь, на шее – ожерелье.
Прочитала о смерти[51].
– У меня, кроме каверн во всех легких, еще, наверное, и миньерова болезнь, – сказала Анна Андреевна. – Когда-то специалисты мечтали наблюдать хоть одного больного. Теперь таких больных много. Стоит мне двинуться, повернуть голову – головокружение и тошнота. Когда я иду по лестнице, передо мною бездна.
Я спросила, что она сейчас читает.
– Болотова.
Потом рассказала очень смешно, как чьи-то малыши, которым «Осип»[52] подарил свою детскую книжку, попросили его:
– Дядя Ося, а нельзя ли эту книжечку перерисовать на «Муху-Цокотуху»?
Почему-то, не помню почему, мы заговорили о человеческой бестактности. Анна Андреевна рассказала: на днях пришла телеграмма Анне Евгеньевне от Николая Николаевича. Анны Евгеньевны нет, она в отъезде.
– Я, – говорит Анна Андреевна, – позвонила брату Николая Николаевича. Тот пришел, прочитал телеграмму: Николай Николаевич, через Анну Евгеньевну, просит у брата 200 рублей. А денег у брата нет. Я ему предложила свои. Он взял и послал их от собственного имени. На другой день пришла телеграмма, адресованная мне: «Поблагодарите Сашу».
Она рассказала это, смеясь.
– И со мной переписывается человек, который на прощание сказал мне: «Выдайте мне расписку, что я отдал вам все ваши вещи»[53].
Она поднялась. Я хотела одеться и проводить ее, но она не позволила: «У вас жар».
Остановилась у двери:
– Вы заметили? Я сегодня при всех регалиях. Вот это розовый коралл. А это перстень двадцатых годов прошлого века, его мне Оленька подарила. А это – древний перстень из Индии, тут мужское имя и надпись: «Сохрани его Господь». А это (указала на брошь) – подписной Рикэ, головка Клеопатры.
16 сентября 39. • Вечером я была у Анны Андреевны.
Она лежала на диване, одетая, но под одеялом.
Оказывается, Владимир Георгиевич водил ее к доктору – по поводу пальцев ноги, – и доктор велел ей лежать.
– Это не гангрена, как опасался Владимир Георгиевич, это – травмоневрит.
Возле нее на стуле – томик Бенедиктова, подаренный Лидией Яковлевной Гинзбург27.
– Знаете, у него, оказывается, были и хорошие стихи, под конец, под старость… Безо всяких Матильд.
И она прочла мне вслух «Бессонницу» и еще кусочек из какого-то стихотворения о елке: начало банальнейшее, а потом хорошо.
На электрической плитке кипел суп.
– Ольга Николаевна ушла и поручила мне за ним смотреть, – сказала Анна Андреевна. Встала, долила в суп воды и попробовала включить чайник.
– Он у нас не всегда действует, а только иногда… Ну, включись, включись, ну, пожалуйста, – сказала она шепотом чайнику, наклонившись над ним.
Я тоже очень хотела, чтобы чайник включился, потому что на этот раз, как умная, принесла с собой печенье, сахар, пирожные.
– Теперь вы ведите здесь культурный образ жизни, – сказала мне Анна Андреевна, – а я пойду на кухню хозяйничать.
Пока ее не было, я перелистывала Бенедиктова. За одной стеной женщина рычала на ребенка, ребенок плакал. За другой слышался оживленный голос новой жены Николая Николаевича.
– Ольга Николаевна ушла в гости, и я боюсь, что мы не услышим звонка. Он у нас тоже так: то действует, то не действует.
Мы сели пить чай.
Анну Андреевну позвали к телефону: Ольга Николаевна извещала, что вернулась ночевать к знакомым, потому что, поднявшись к Анне Андреевне, не дозвонилась – звонок не производил никакого звука.
Провожая меня, Анна Андреевна вышла на площадку, чтобы проверить звонок: он звонил вовсю.
– Вот что значит жить в Доме Занимательной Науки, – сказала она.
27 сентября 39. • Я лежу. Чем-то больна – не разбери-пойми.
Анна Андреевна звонила несколько раз, хотела прийти. Я ее все не пускала: еще заразится. Да и сама она не совсем здорова. Но сегодня она все-таки пришла. Плохая, темная, глаза ввалились, морщины вокруг рта обозначились резче.
Николай Николаевич вернулся:
– Ходит раздраженный, злой. Все от безденежья. Он всегда плохо переносил безденежье. Он скуп. Слышно, как кричит в коридоре: «Слишком много людей у нас обедает». А это все родные – его и Анны Евгеньевны. Когда-то за столом он произнес такую фразу: «Масло только для Иры». Это было при моем Левушке. Мальчик не знал куда глаза девать.
– Как же вы все это выдерживали? – спросила я.
– Я все могу выдержать.
(«А хорошо ли это?» – подумала я.)
Пришла Рахиль Ароновна28. Анна Андреевна оживилась и заговорила о другом.
– Меня приглашают на брюсовский юбилей. Выступить с воспоминаниями.
– Но ведь вы – как и я – его не любите, кажется? – спросила я.
– Лично с ним я не была знакома, а стихов его не люблю и прозы тоже29. В стихах и Гелиоглобал, и Дионис – и притом никакого образа, ничего. Ни образа поэта, ни образа героя. Стихи о разном, а все похожи одно на другое. И какое высокое мнение о себе: культуртрегер, европейская образованность… В действительности никакой образованности, перевел эпиграф к пушкинскому «Пажу»: «Это возраст херувима» – вместо Керубино! Писал статьи о теории поэзии и вдруг в письме проговорился: «собираюсь прочесть “Art poétique” Буало»… Да как же смел писать, не прочитав? Образованность! А письма какие скучные. Я читала его письма к Коле в Париж. В них, между прочим, он настойчиво рекомендует Коле не встречаться с Вячеславом Ивановым: хотел, видно, сохранить за собой подающих надежды из молодых. А Вячеслав Иванов умница, великолепно образованный человек, тончайший, мудрейший. Через некоторое время Коля написал Брюсову: «Познакомился с Вячеславом Ивановым и только теперь понимаю, что такое стихи…»30. По дневнику видно, какой дурной был человек. Одна запись: «Под видом массажа крутил руки брату». А брат был болен. Гадость какая! И зачем это записывать? Он полагал, что он гений, и потому личное поведение несущественно. А гениальности не оказалось, и судиться пришлось на общих основаниях31. Административные способности действительно были большие. Но и только. Для русской культуры он человек несомненно вредный, потому что все эти рецепты стихосложения – вредны.
Она произнесла эту речь оживленно, энергично, из вежливости обращаясь главным образом к застенчивой и упорно молчавшей Рахили Ароновне.
Потом рассказала, что отбирает стихи для издательства, но нехотя, медленно…
– Я не в силах. Ставим с Люсей крестики. Пока что я перечеркнула все ранние. Я их терпеть не могу[54].
Я машинально побарабанила рукой по стене. Она сказала:
– Моя мама, когда ей случалось сильно огорчаться, начинала стучать по столу. Стучала упорно, часами. У меня был брат студент. Мы жили на даче. Один раз соседи спрашивают: «Это ваш брат печатает?» – имея в виду прокламации32.
Я рассказала, что читаю Люшеньке «Русских женщин» и она плачет.
– Я в детстве их сама нашла, – отозвалась Анна Андреевна. – Мне никто никогда ничего не читал, не до меня было. Некрасов – единственная в доме книга, больше ни одной.
Заговорили о том, что на улицах сейчас мокро, темно, мрачно.
– Ленинград вообще необыкновенно приспособлен для катастроф, – сказала Анна Андреевна. – Эта холодная река, над которой всегда тяжелые тучи, эти угрожающие закаты, эта оперная, страшная луна… Черная вода с желтыми отблесками света… Все страшно. Я не представляю себе, как выглядят катастрофы и беды в Москве: там ведь нет всего этого.
Я сказала, что Киев – вот веселый, ясный город и старина его не страшная.
– Да, это так. Но я не любила дореволюционного Киева. Город вульгарных женщин. Там ведь много было богачей и сахарозаводчиков. Они тысячи бросали на последние моды, они и их жены… Моя семипудовая кузина, ожидая примерки нового платья в приемной у знаменитого портного Швейцера, целовала образок Николая-угодника: «Сделай, чтоб хорошо сидело»…
Рахиль Ароновна пошла ее провожать.
15 октября 39. • За это время я была у Анны Андреевны раза три, но не записывала. А сейчас уже поздно вспоминать ее речи, того и гляди переврешь что-нибудь.
Впрочем, один эпизод запишу. Вечером на днях она и Ольга Николаевна сговаривались при мне с утра отправиться в очередь[55]. Анна Андреевна просила всех соседей, чтобы ее разбудили ровно в семь – ни минутой позже. «Ольга Николаевна жалеет меня будить». Затем – дружеские препирательства о пальто, кто в чем пойдет: Анна Андреевна настаивала, чтобы Ольга Николаевна надела ее осеннее (у Ольги Николаевны с собою только летнее), а сама она наденет шубу.
– В шубе вам будет тяжело стоять, – говорила Ольга Николаевна, – лучше я надену шубу, а вы осеннее.
Но Анна Андреевна не соглашалась.
– Нет, шубу надену я. Вам с ней не справиться. Она особенная. На ней давно нет пуговиц ни одной. Новые найти и пришить мы уже не успеем. Я ее умею и без пуговиц носить, а вы не умеете. Шубу надену я.
Сегодня днем я зашла к Анне Андреевне, чтобы проводить ее в амбулаторию, к доктору, по назначению Литфонда. Зашла прямо из библиотеки, где достала для нее «Литературный современник» 1937 года с новыми материалами о дуэли Пушкина33. Кроме того, я принесла ей масло.
– Теперь я обеспечена на много дней, – сказала мне Анна Андреевна. – У меня есть четыре селедки, шесть кило картошки, а вы еще и масло принесли. Пир!
Отправились. Минуты две стояли перед совершенно пустым Литейным: она боялась ступить на асфальт.
По дороге заговорили о щитовидной железе, которая у нее увеличена еще сильнее, чем у меня.
– Мне одна докторша сказала: «Все ваши стихи вот тут», – Анна Андреевна похлопала себя ладошкой по шее спереди. – Мне предлагали сделать операцию, но предупредили, что через месяц я буду не менее восьми пудов. Это я-то!
Опять почему-то вернулись к Киеву, и я спросила, любит ли она Шевченко.
– Нет. У меня в Киеве была очень тяжелая жизнь, и я страну ту не полюбила и язык… «Мамо», «ходимо», – она поморщилась, – не люблю.
Меня взорвало это пренебрежение.
– Но Шевченко ведь поэт ростом с Мицкевича! – сказала я.
Она не ответила.
Мы дошли. Разделись. Белоснежный коридор – и очередь. Анна Андреевна назначена на 5 часов 45 минут, но, как разъяснили в очереди, это «ничего не значит». Мы сели. Перед нами пять человек. Очередь движется медленно, по полчаса на человека.
Анна Андреевна начала меня расспрашивать о Николае Ивановиче: что рассказывает о его житье-бытье Цезарь, вернувшийся из Москвы34.
– Странно ко мне относится Николай Иванович, – сказала она вдруг.
– Чем же странно? Вы же знаете, что он к вам замечательно относится.
– Ко мне – да, но не к моим стихам. Ведь Николай Иванович человек фанатический, и мои стихи нравиться ему не могут.
– А вы не спрашивали?
– Ну нет, не мой черед об этом спрашивать!
Наконец Анна Андреевна вошла в кабинет. Я осталась ждать ее. Появилась она скорее других – минут через 15. Мы оделись и вышли на улицу. Тут только я заметила, что она сильно возбуждена.
– Он нашел меня совершенно здоровой. Так я и знала. Я говорила Владимиру Георгиевичу, что так и будет. Теперь на вопрос Литфонда он ответит, что я симулянтка. Уверяю вас, так и будет. Наверное, его разозлило, что я показала ему записки от двух профессоров с очень серьезными диагнозами. Он три раза спросил меня: вы служите? Верно, думал, что я хочу бюллетень получить. Он так понимает свою задачу: осаживать и разоблачать. Назначил мне солено-хвойные ванны, а электризации и ножных ванн, которые рекомендовали Давиденков и Баранов, не назначил: «совершенно лишнее»35.
Мы шли пешком: в гневе Анна Андреевна не пожелала ждать трамвая. Мне было ее до слез жаль: я близко вижу ее жизнь и понимаю, как она больна… И зачем судьбе понадобилось подвергать ее еще и этому унижению?
Мы шли молча. Я не могла изобрести, чем бы ее утешить.
Довела ее до самых дверей ее квартиры – так уж у нас заведено. На прощание она вдруг меня поцеловала.
18 октября 39. • Собираюсь в Долосы[56].
В последние дни сижу над стихами Анны Андреевны. Она просила меня прочесть то, что отобрала вместе с Лидией Яковлевной[57].
Я просидела несколько дней, обложенная разными изданиями книг Анны Андреевны. Вдумывалась в пунктуацию, хронологию, варианты.
Мы условились, что я приду к ней сегодня утром. «Пораньше», – настаивала Анна Андреевна.
Я пришла в двенадцать. Стучу, стучу в ее дверь – нет ответа.
– Анна Андреевна дома? – спросила я на кухне у какой-то растрепанной девочки. – Она не отзывается.
– А вы не так стучите, – ответила мне девочка. И лихо застучала в дверь к Анне Андреевне сначала кулаками, а потом, обернувшись спиною, и каблуками.
– Аня, к вам пришли!
– Войдите.
Анна Андреевна лежала на диване серая, с больным, будто отекшим лицом, с седыми растрепанными волосами. Я была в отчаянии. Оказывается, она не спала всю ночь и только недавно уснула! А растрепанная девочка, объяснила мне Анна Андреевна, это вовсе не девочка, а сама уже мама, Ира Пунина.
Я разложила на столе стихи, книги, свои записи и начала задавать приготовленные вопросы.
Анна Андреевна отвечала, слушала, соглашалась на мои советы, но как-то без интереса. Может быть, попросту сон еще не вполне покинул ее.
Я пожаловалась, что не понимаю одного стихотворения: «Я пришла тебя сменить, сестра».
– И я его не понимаю, – ответила Анна Андреевна. – Вы попали в точку. Это единственное мое стихотворение, которого я и сама никогда не могла понять[58].
Я переворачивала страницы, задавала свои вопросы и мучительно чувствовала, что все это ей в тягость.
– Пожалуйста, запишите все ваши соображения на каком-нибудь отдельном листке, – попросила наконец Анна Андреевна, – а то я все равно все забуду.
Я умолкла, нашла листок, принялась переписывать свои заметки: даты, отделы, варианты, прежние и теперешние циклы.
– Видели ли вы когда-нибудь поэта, который так равнодушно относился бы к своим стихам? – спросила Анна Андреевна. – Да и все равно из этой затеи ничего не выйдет… Никто ничего не напечатает… Да и не до того мне.
Я простилась.
– Возвращайтесь скорее, – сказала она мне на прощание. – Я буду вас очень ждать.
15 ноября 39 • Вчера, впервые после приезда, я была у Анны Андреевны.
Лежит. Опять лежит. По ее словам, не спала уже ночей пятнадцать.
Мечется головой по подушке. Рука горячая.
– У вас жар?
– Я не мерила.
Собирается в Москву. Ей уже достали билет.
Прочитала книгу, которую я принесла ей в прошлый раз, – «Смерть после полудня» Хемингуэя. Я рассказала ей, что Митя случайно раскрыл эту книгу на прилавке у букиниста, зачитался, пришел в восторг и купил, – никогда прежде не слыша даже имени автора.
– Да, большой писатель, – сказала Анна Андреевна. – Я только рыбную ловлю у него ненавижу. Эти крючки, эти рыбы, черви… Нет, спасибо!
Скоро пришла Вера Николаевна, принесла еду36. Анна Андреевна ни до чего не дотронулась.
– Я ничего не ем и раздаю. Бессонница – и не могу есть. Все раздаю, а то портится.
Она начала тяжело дышать. Попросила Веру Николаевну пойти к Пунину за камфарой.
Пунин вошел в комнату, напевая. Начал расспрашивать Анну Андреевну, но петь не перестал. Вопросы вставлял в пение.
– Ти-рам-бум-бум! Что с вами, Аничка? Ти-рам-бум-бум!..
– Дайте, пожалуйста, камфару.
Он принес пузырек – ти-рам-бум-бум! – накапал в воду – ти-рам-бум-бум! – и она приняла.
Оказывается, Вера Николаевна пришла за какой-то картиной Бориса Григорьева, которую Анна Андреевна решила продать. Я вышла с ней вместе, чтобы помочь нести. Картина была тяжелая, даже вдвоем мы еле ее тащили. Какая-то малоприличная баба. Тащить было далеко, по Фурштадтской, по Потемкинской.
Вера Николаевна уже продала для Анны Андреевны несколько рисунков Бориса Григорьева по 75 рублей штука.
4 декабря 39. • Вчера утром забежал ко мне на минутку Владимир Георгиевич, попросил вместо него встретить Анну Андреевну, возвращающуюся из Москвы. Телеграмма: «Выезжаю 10.50». Сам он не может уйти утром с работы.
– Я был у нее на квартире, протопил печку, прибрал немного…
Сегодня с утра, в указанное им время, я отправилась на вокзал. Но – не встретила Анну Андреевну. Нет такого поезда – 10.50 из Москвы… Вернувшись домой, я на всякий случай позвонила ей. Оказалось, она уже дома. Приехала «стрелой». И попросила прийти сейчас же.
Села на диван, рассказала свою эпопею[59].
– Константин Александрович позвонил Александру Николаевичу[60]. Тот пил. Константин Александрович говорит: «Приходи, тут тебя одна дама ждет». Тот обрадовался, думал, дама действительно! А это оказалась я… Но он все-таки был очень любезен.
И дальше – все по порядку. Потом:
– Борису Леонидовичу очень понравились мои стихи. Он так все преувеличивает! Он сказал: «Теперь и умереть не страшно»… Но что за прелестный человек! И более всего ему понравилось то же, что и вы любите: «И упало каменное слово»[61].
Про Николая Ивановича сказала:
– Мы с ним всегда друг другу что-нибудь дарим… этот раз я уж совсем не знала, что ему повезти. Но в альбоме Бориса Григорьева вижу вдруг набросок и подпись: В. Хлебников. Николай Иванович был счастлив. Подарок удался, я рада[62].
Мы начали вместе топить печку. Она долго не разгоралась, но все же в конце концов огонь затрещал.
– А знаете, – грустно сказала Анна Андреевна, – Шакалик не узнал меня, когда я вернулась. За две недели позабыл.
6 декабря 39. • Сегодня Анна Андреевна позвонила мне с утра: «Приходите сейчас». Я пошла. На мой стук в ее дверь она не ответила, как обычно, «войдите!», а сама вышла в коридорчик, ко мне, и тут энергичным шепотом сделала то сообщение, ради которого меня вызвала: насчет Корнея Ивановича и Жабы.
– Предупредите отца, – сказала она[63].
Потом перестала шептать и уже вслух попросила меня зайти. В комнате ожидала ее Лидия Яковлевна. Я села у окошка, а Лидия Яковлевна и Анна Андреевна, ходя друг против друга по комнате, продолжали давно, по-видимому, начавшийся между ними спор о новых гипотезах какой-то Эммы насчет убийства Лермонтова: будто это убийство было подстроено и организовано властью. Анна Андреевна настаивала на исторической и психологической невозможности такого предположения.
– Что за венецианские подосланные убийцы или отравители в России в тридцатых годах прошлого века! – говорила она[64].
Говоря, она ходила по комнате, протягивала руки к огню в печке, а один раз даже опустилась перед печкой на колени и так и осталась. «Оказывается, так очень удобно стоять, а я не думала», – сказала она.
Потом вскочила и расставила на столе обильную, против обыкновения, еду: сыр, консервы и водку в графине. Но, как всегда, без конца искала повсюду вилки, ложки, блюдца и обнаруживала их в самых неподходящих местах… Водку мы пили из каких-то крошечных фарфоровых штучек, похожих на солонки.
Анна Андреевна сказала, что может пить много и никогда не пьянеет.
Потом Анна Андреевна вдруг вытащила откуда-то тетрадку переписанных от руки стихов, очень аккуратную на вид, но первый лист отодран так грубо, что клочья торчат.
– Это я отодрала… – сказала она. – Ко мне явился недавно один молодой человек, белокурый, стройный, красивый, сказал, что хочет прочесть мне свои стихи. Я ему посоветовала обратиться лучше в Союз. Я очень быстро его выгнала… И вот – приезжаю из Москвы, а на столе – тетрадка. И на первой странице надпись: «Великому поэту России». Я кинулась на тетрадь зверем и выдрала страницу.
Я осведомилась, хорошие ли стихи, но Анна Андреевна не пожелала ответить. Она уверена, что это – меценат![65]
Напрасно мы с Лидией Яковлевной пытались ее разуверить. «Он молод, – говорила я, – он может просто быть не осведомлен об особенностях вашего положения…» Анна Андреевна отвергала такую возможность, а Лидия Яковлевна меня поддерживала.
– Да и в надписи я не вижу ничего предосудительного, – рискнула я.
– Но я не желаю рядиться в чужое платье! – сердито ответила Анна Андреевна.
Скоро Лидия Яковлевна ушла, а меня Анна Андреевна удержала: «ну еще полчасика». Она снова стала рассказывать о Жабе, о ее интригах против нее самой, Анны Андреевны. Говорила она возбужденнее и громче обычного; исчезли глубокие, долгие паузы, столь свойственные ее речи; по-видимому, водка все-таки и на нее действует. О Лидии Яковлевне отозвалась она так:
– Человек она внеэмоциональный, холодноватый, но я очень ценю ее голову39.
Я спросила, нет ли новых стихов.
– Нет. С тех пор я ничего не могу.
Я рассказала ей о «Записной книжке» Марка Твена, появившейся в «Интернациональной литературе». Она ее не читала. Но о «Томе Сойере» отозвалась так:
– Бессмертная книга. Вроде «Дон Кихота».
Заплакал Шакалик. Анна Андреевна поспешила к нему: оказывается, родители ушли в кино, и он один.
Я простилась.
14 декабря 39. • Вчера днем, не находя, куда девать себя до вечера, когда должен был прийти К. и назвать словами все, что я знаю и так, я отправилась на набережную[66].
С помощью туч и мостов я привела себя несколько в порядок и зашла к Анне Андреевне.
На кухне мне сказали, что она дома.
Я постучала в ее дверь, – ответа нет.
На кухне объяснили: «Спит, наверное!» – и вызвались разбудить, но я не позволила. И ушла.
Было 5 часов дня. И какого! «Светало, но не рассвело».
Вечером – звонок; Анна Андреевна что-то объясняет мне насчет себя и моего неудачного посещения. Но разговора толком я не помню, потому что это было уже после записки, когда я, Тамара и Шура (они пришли ко мне, они уже знали) молча сидели у меня на постели и даже Тусины попытки – не утешения, конечно, а ласкового прикосновения к боли – не удавались, и даже ее щедрая материнская улыбка не могла отогреть[67]. Из телефонного разговора с Анной Андреевной я запомнила только, что она просила меня зайти, и вот сегодня, вымывшись холодной водой, я машинально, в полном оледенении, пошла к ней.
Болело все: лицо, ноги, сердце, даже кожа на голове.
Комната ее сейчас имеет еще более странный вид, чем обычно: стекло залеплено газетой, а с потолка, с верхней лампы, спускается какой-то скрученный обрывок шали. Рассказала мне свои хорошие новости: многозначительные слова. Потом про управдома: нужно заверить ее подпись на новой пенсионной книжке, и она ходила к управдому 16 раз и все не заставала его… 16 раз!
Я, наверное, очень плохо поддерживала разговор, потому что минут через десять она спросила:
– Вы, кажется, чем-то расстроены?
Я выговорила – не заплакав.
– Боже мой. Боже мой, – повторяла Анна Андреевна, – а я не знала… Боже мой!
Мне было пора за Люшей к учительнице. Я ушла.
15 декабря 39. • Сегодня днем, когда я собиралась в библиотеку, вдруг звонок – и пришла Анна Андреевна.
– Ходила сюда поблизости получать пенсию и вот забрела, – объяснила она. – Сегодня утром я застала наконец управдома. Я ему протягиваю пенсионную книжку и прошу заверить мою подпись, а он мне говорит: «Распишитесь, пожалуйста, сначала на отдельном листке». Почему? Зачем? Что же, он думает, в книжке моя подпись поддельная? Я пришла в бешенство. Я вообще хорошо отношусь к людям, но тут я очень обиделась. Я ему написала свое имя на бумажке и сказала: «Вы, по-видимому, хотите продать мой автограф в Литературный музей? Вы правы: вам дадут за него 15 рублей». Он смутился, разорвал бумагу. Потом спрашивает: «Вы, кажется, были когда-то писательницей?»
Я послала Иду за папиросами, потом Ида подала нам чай. Анна Андреевна много курила, рассказывала про мальчиков Смирновых. Шакалик уже говорит «спасибо». Валя (она называет его «мой Валя») любит слушать, когда ему читают. Она читала ему вслух Вальтера Скотта и, окончив, сказала: «Это был замечательный писатель». Он сразу начал крутить перед собою руками и дудеть: «Значит, у него была машина?»
– А я хочу не Вальтера Скотта, – сказала я. – И не буду крутить руками и дудеть.
Она прочитала мне еще раз о смерти, а потом никогда мною не слыханное «Водою пахнет резеда»[68].
И опять у меня от этого настоя горя ощущение такого счастья, что нету сил перенести. Я понимаю Бориса Леонидовича: если это существует, можно и умереть.