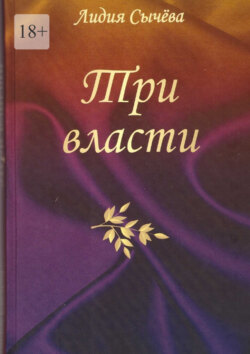Читать книгу Три власти. Рассказы - Лидия Сычева - Страница 5
Звёздные ночи в июле
Муж и жена, обнаженные, перед зеркалом
ОглавлениеМне хотелось остановить время и задержаться в этом милом городе (а для кого-то он был «дырой», «обыденностью»), здесь, где так горько пахло у озера тополиной корой, где тихо трепетали берёзы, нашептывая будущее, где были тёплые скамейки (на каждую из них я садилась, чтобы запомнить увиденное). Этот собачий брёх, петушиные перепевы по утрам, комариные ночи, тёмные срубы старых домов, кирпичные цеха дореволюционных фабрик, блеск ещё теплой, ласковой воды, бегущей на берег мелкими рыжими волнами, эта изнурительно-длинная служба в высоком храме, где по потолку идут Св. Иоаким и Св. Анна – мудрость и молодость… Так я возвращалась к себе, к той жизни, которой я должна была бы жить.
Этот старинный город был озарен моей зрелостью, ушедшей молодостью и моим чувством к тебе. Меня удивляли здешние дома – особо статные, с глазастыми окнами, высокими крышами (на одной из них кудрявым чубом вился хмель). Новые дома уступали старым в статности, дело было в пропорциях, в том невидимом глазу чуть-чуть, что придавало давним постройкам особо горделивый, подтянутый вид.
Здесь были широкие, с высокими деревьями – тополями, клёнами, липами, березами – улицы, которые носили революционные имена: Интернациональная, Октябрьская, Каляевская, Калинина, К. Маркса.
В старом дворе, рядом с оградой храма, у ржавого детского грибка (песок никем не тронут) седой задумчивый мужчина играл в шахматы. Вчера он бился с молодым парнем, сегодня – со своим сверстником. Огромная овчарка лежала на боку, лениво наблюдала за мудрёной игрой. Думала, наверное: до чего же вы глупый народ, люди!
Ехала я сюда на электричке. Три женщины, давно и хорошо знакомые друг с другом, читали газету бесплатных объявлений: требуется встречающий швейцар у ресторана, работа 12 часов (час работы, час отдыха), сутки через двое; форма выдается.
– Зимой будешь стоять в мини-юбке, замёрзнешь, отморозишь бебехи…
– А я под колготки гамаши надену, с начёсом…
– Да кому ты с начёсами нужна, им подавай голые коленки…
– Ха-ха-ха!
Это были красивые, циничные от пережитых бед женщины – с горьким выражением глаз, с морщинками у губ. В них была особенная уверенность, какая бывает у людей, рассчитывающих только на себя…
Солнце светило высоко, ярко, пуста была дорога (праздник), только по просёлочной колее трясся в одноколке мужик – везла его белая лошадка, да рыжая хромая собачонка прибилась ко мне (может быть, ждала подаяния).
Мне было грустно от дум, и солнечно – так высоко и славно светило солнце, так широко и щедро разбрасывало оно свои лучи по всей округе. Я словно возвратилась в юность – и всё вспоминалось мне мелкое, обрывочное, несущественное, будто это была чужая, а не моя жизнь. Как приземист и невысок сосновый лес, насаженный когда-то для укрепления песков, как спокойны вдали меловые горы, обещающие за своими спинами иную, романтическую даль… И ничуть не мешая этому возвышенно-грустному настроению, в кармане затренькал мобильный телефон.
Это звонил ты. Мне было так хорошо, будто ты был рядом, держал меня за руку, и нам не о чем было говорить – всё и так чувствовалось, понималось… Густой звук твоего голоса поил моё сердце любовью, и она, любовь, словно охватывала всю округу – через меня, в сердце которой пела твоя мелодия. Боже мой, подумала я, да есть ли кого такая красота, как есть она у меня?!
…Последняя моя работа называлась «Москвичи». Я увидела эту картину в жизни – всю композицию – не прибавить, не убавить. На автобусной остановке, под железным козырьком сидели два кавказца. Один грузный, небритый, рубашка на животе в том месте, где она заправлялась в брюки, разошлась, так что видно было волосатое тело – смуглое, будто грязное. Второй кавказец был среднего сложения, тоже небрежно одет – стоптанные туфли, «немнущиеся» брюки, дешевая ковбойка. Они грызли семечки – у ног уже была изрядная куча шелухи. Лица их не отражали никакой мысли – только тупую усталость и занятость механической работой лущения семечек. Видно было, что они недавно – вчера, допустим – пили и выпили много, глаза их были в мешках, складках.
Здесь же, на скамейке, на краешке сидел коренной москвич, человек, судя по всему, интеллигентной профессии – изможденное, издуманное лицо, очки; он был предпенсионного возраста и, похоже, сумасшедший – что-то бубнил себе под нос, шевелил бескровными губами. Он был бледен, слаб и хрупок. У его ног стояла хозяйственная сумка на колёсиках – старая, от перестроечных времен, когда возникали перебои с продуктами. А чуть поодаль – огромная урна, доверху набитая мусором – пакеты от чипсов, пивные банки, оберточная бумага, россыпь окурков…
Хромой голубь, «птица мира», пятясь и остерегаясь, пытался подобраться к шелухе от семечек. Но кавказцы не обращали на него внимания. Они вообще ни о чем не думали. Просто сидели в центре скамейки и грызли семечки. А с краю, у мусорного бака, жался сумасшедший москвич. Возможно, подумала я тогда, мысленно усмехнувшись, передо мной – бывший человек искусства…
Но если забыть про то, что было, оставить то, что есть сегодня… Эту сизую дымчатую гладь озера, живописные фабричные развалины с двумя трубами, а вдали – чистый белый пляж (голуби над ним сегодня летали чайками, с морским «замахом»)…
Ну какой я художник? Смешно. Но должна же я быть тебе чем-то интересна.
Улеглась моя былая рана,
Пьяный бред не гложет душу мне…
Две женщины-фифочки, в розовом, обеим за сорок, в просторных одеждах, ребенок при них (чья-то внучка) пили на скамейке «Путинку». Пьяненькие, радостные. Но что-то неженское было в их лицах и сбивчивых разговорах.
Вода спокойная-спокойная, волны совсем нет. Только рябь легчайшая.
Вечером у гостиницы – живая музыка, звон бутылок, пьяное оживление. На открытой веранде гуляет местное купечество – поодаль дорогие автомобили, пузатые иномарки.
«Владимирский централ, этапом из Твери…»
«Детство, детство, ты куда ушло…»
«Как упоительны в России вечера…»
Сжатая в песне история духовной жизни «масс».
На веранде гуляли, а внизу на скамейках молодежь созерцала действо. Огоньки сигарет, пивные бутылки.
А бомж на площадке перед верандой – припрясывал. Здорово у него получалось, с поворотами. Даже лучше, чем у тех, кто на веранде. Танцевал от души, со знанием дела. Во время медленных танцев он руками изображал партнёршу.
Местный бомонд – коротко, почти под ноль стриженные деловые женщины. Видно, что им приходится ломить без всяких скидок на слабый пол. Много мужчин под тридцать с перебитыми носами – молодость прошла в рэкете, на «стрелках», в битвах первоначального накопления. Много пива, хмельного веселья. Музыкант даёт петуха – каждый вечер (кроме понедельника), он напрягает свой молодой (сам немолод), с красивым тембром голос.
Почти никто из них не жил так, как хотел. А я?
Деловые тётки танцевали с сумками под мышкой, а бомж свою клетчатую сумку («дом») отставил в сторону. Бомжу нечего терять… Уже…
И общая безнадёжность жизни… Почему-то.
Депрессивная грусть. «Ямщик, не гони лошадей…» Страшный, если вдуматься, романс.
Мужчина-шахматист меняет газеты на стенде возле своего дома. «За правое дело» – орган КПРФ, «Совроссию», «Правду»…
Как же быстро меняется моё настроение! Ещё вчера я была бодра, вдохновенна, а нынче – робка, пуглива, задумчива.
Почему бы тебе не быть рядом со мной? Тебе, такому красивому, родному, всёпонимающему, нежному? Мужественная нежность. Раньше мне казалось главным рассказать о том, как я люблю тебя. Теперь я поняла: важнее другое – рассказать о том, какой большой, радостно-верной, нежно-мужественной может быть любовь мужчины. Твоя любовь.
Всё пройдет. Не будет ни нас, ни этих ветреных мучительных дней, ни-че-го. Будет только любовь. Свет, сотканный из частичек наших далёких душ.
Как непригляден, сучковат и скучен мелкий сосняк – с тонкими стволами деревьев, зарослями, кустарниками. И как красивы вековые сосны – гордые деревья, чуть покачивающие кронами-«полубоксами», жарко-светло-коричневые, с толстой, потрескавшейся внизу корой. Среди таких деревьев чувствуешь себя особенно красиво, свободно…
Медленно-медленно покачиваются в вышине огромные кроны. Какая мощь, сила, и, кажется, что она питает землю, воздух, меня, всю округу. Я набрасываю этюд, не думая о технике, о качестве – у меня все получится, натура сама всё скажет.
Но неужели пройдёт и это, и постареют сосны, и мы постареем, и не будет у нас этой красоты?!
У нас не могло быть обидах детей (впрочем, наши дети и так были обидами), общей посуды, мебели, дома… Ничего общего. Кроме вот этих воспоминаний, и вот этого отражения – муж и жена, обнаженные, перед зеркалом.
Какой нормальный муж отпустит свою, горячо любимую жену, на свободу, поцеловав прежде – крест-накрест – её в макушку?
«Поезжай», – глаза твои были грустны.
Словно остатки древней цивилизации сразу за стадионом возвышались полуразрушенные арочные ворота.
Футбол: «Ветгехника» против «Мючкявюса» (название компьютерного магазина). Команды – мужики, смешанные со школьниками.
Если бы я была мужчиной, я бы обязательно стала реставратором и восстанавливала бы древние храмы, терема… Мне кажется, что это одна из самых благородных (из ненужных человечеству) профессий.
По лесам я бы взбиралась в самый купол храма и по сантиметру, очень аккуратно открывала древние фрески. («Женя, – звал на лесах друга реставратор, – давай передвинемся за окно…»).
Пахло извёсткой, дождём, тихие женщины выходили из кованых дверей ларца-дворца, на часах – 17.00, конец рабочего дня, а эти бородатые мужики в зелёной спецодежде подправляют лепнину, работают…
Реставратор работает на вечность. Я бы тоже хотела быть сопричастной вечности, нет, не жить вечно, Боже упаси, в этом страшном мире, а принадлежать вечности, которая не боится времени.
Я несла хрустальную люстру «Катерину» в чистых подвесках которой так живо и радостно играл, преломлялся свет; а женщина-бомж тоже была занята «хрусталём» – выбирала из мусорного контейнера пустые бутылки. Это было именно бомжевание, а не рвущая сердце «подработка» к пенсии – благообразную бабушку, которая, стараясь быть незаметной, собирала бутылки на стадионе во время игры «Веттехника» против «Мючкявюса», я видела вчера.
Устремлено шагаю на рынок купить яблок – время уже двигалось к трём, как вдруг мысли мои прервал коричнево-копченого цвета старик – в заношенном пиджаке, грязных спортивных штанах «цыганского» пошива. Он, прислонившись к ограждению, что-то говорил мне.
Я подошла поближе.
– Слушаю.
– Подайте, говорю, пенсионеру на хлеб, – старик обнажил беззубые дёсна.
Ясно было, что это алкаш. Но человек просит… Полезла в сумку за кошельком. Ободрённый моей уступчивостью, старик вдруг со всей силы хватил деревянной палкой о металлическое ограждение.
– Спокойно! Не надо паники! – сварливо заметила я.
– Да, спокойно! – запричитал нищий, – попробуй, проживи на такие деньги! У меня обеих ног нету!
Я торопливо сунула ему в ладонь мелочь (он сразу же занялся подсчётом) и поспешила прочь, размышляя, что означала фраза «нету ног»? Может быть, ревматизм? Артроз? Ноги у старика были, кажется, всё-таки свои, а не протезы.
Спустя несколько минут я возвращалась той же дорогой – его уже и след простыл.
Номер был дёшев, даже для этих мест. «Потому что без телевизора», – извиняющимся голосом заметила девушка Рита у стойки регистрации. «Это даже хорошо. За отсутствие телевизора в номере надо доплачивать», – утешила я её.
Свидание с телевизором проходило на завтрак и в обед, в кафе на втором этаже, куда я заходила перекусить. Тут я и увидела на экране артиста 3., толкующего юнцам, что «в начале было слово», и читающего с актёрскими завываниями ужасные, совершенно графоманские стихи поэта Б-го (кстати, ни один актёр на моей памяти не прочёл путём ни одного стихотворения).
Я помню, как встретила 3. в артистическом кафе в Челябинске, он сидел один. Меня поразило его мертвенное лицо (как раз недавно он сыграл роль ведьмака в нашумевшем фильме), а ведь начинал с идеалистов-революционеров!.. Это был мёртвый человек, живой труп, серо-зелёное лицо его с ужимками фата было ужасно, как маска ада. Кажется, минут через пять я ушла – не смогла быть рядом.
Неужели это всё – ради славы?!
«Муж и жена, обнаженные, перед зеркалом». Эту картину, я, конечно, никогда не напишу. Не хватит мастерства, дерзости. И вдохновения.
С детства у меня было две страсти – любовь и рисование. Впрочем, тогда я и не подозревала, что это – страсть. Это был основной способ моей жизни.
Выгоревшие до серой серебрянности сухостойные стволы деревьев – жутко-печальное зрелище. Преподавательница по античному искусству, такая же сухая, с плохо прокрашенной сединой, сказала мне как-то в минуту раздражения: «Вы будете жить в деревне, у вас будет муж, тракторист-пьяница, дети, и вы забудете свои мечты о «высоком».
Меня это возмутило и смутило: нет, перспективы сельской жизни меня как раз не пугали, я относилась к ним вполне спокойно, но я не могла забыть свою мечту. Даже если рядом будет муж – тракторист-пьяница.
И вот она, нежность…
В нас всё обнажено, но небольшое зеркало в старинной раме, потемневшее, показывает нас целомудренно – только чуть ниже ключиц, по грудь.
У тебя – голова римлянина. Полководца. Воина. Но об этом я вспоминаю сейчас. А тогда я думала о том, что в мире много красоты, но она открывается через любовь, через человека.
Зеркало отражает страдание, любовь и нежность. В наших глазах.
Способ жизни – любовь.
Я хотела бы нарисовать эту картину о счастливой любви, но шли годы, и я поняла, что не бывает ничего постоянного, в том числе и счастья. Что за каждым жизненным поворотом нас ожидают испытания. Боже мой, какая это мучительная штука – жизнь!..
В городе было много уличных котов. Просто нашествие какое-то. Но это днём. А вечерами, в центре, гремящий музыкой монстр – развлекательный комплекс «Вулкан». Девочки-мотыльки вьются возле иномарок, ищут своё счастье. Молодость исчезает, уходит, улетает…
Днём я слушала на рынке разговоры торговок.
– Ой, ну я сегодня такая счастливая!
– Правильно, вчера уехала от нас на «Ауди».
– Да вы что, это мой друг просто, – говорит, оправдываясь, – я его три года знаю…
– Ага, чего ж не радоваться: три года уже на «Ауди» катаешься… А тут и сопливого полюбишь…
Каждый день я отправлялась на озеро, где купалась, плавала, а в первый день – он выдался очень жарким – это было воскресенье, я залезла в воду в одних трусах, потому что вышла просто прогуляться и не взяла купальника; вода была удивительно ласковая, я – блаженствовала, и вдруг я увидела, что к берегу приближается парочка. Они долго целовались на обрыве; я отплыла подальше, решив, что, в конце концов, не сидеть же мне тут до вечера, попрошу парня отвернуться, пока буду выходить из воды. (Этого не потребовалась, парочка, намиловавшись, ушла).
В местной библиотеке я увидела такую страшно-загорелую женщину с сильно подведёнными блестящими розовыми тенями глазами, что невольно хихикнула. Но она, молодец, эту мою бестактность не отнесла на свой счет.
В библиотеке двое рабочих тянули в здании (уж который день!) противопожарную сигнализацию. Это были молодые мужчины, лет двадцати пяти, один более нервный, самоуверенный, некрасивый на лицо; другой – покладистый, добрый, стесняющийся своего грубого товарища (первый в минуты производственных затруднений разговаривал исключительно матом).
Они наметили на потолке линию проводки. Нервный начал сверлить дрелью дырки. Первая же попытка закончилось неудачей.
– Арматура, – обескуражено заметил он.
Они отступили сантиметров на двадцать, разметили потолок, и опять принялись за дело. Первая дырка пошла на «ура». При бурении второй процесс забуксовал.
– Арматура, – забубнил первый и начал ругаться матом.
Это, наверное, действительно была арматура, и не могли же рабочие её «прозреть», но почему-то производственная неудача рассмешила женское общество библиотеки, особенно двух молодых девчонок – заведующих ксероксом и несколькими компьютерами. Они начали хихикать, улыбаться.
– Весь потолок издырявили, испортили, – с хозяйским сожалением заметил покладистый.
– Ничего, им всё равно белить, – жёстко заметил нервный, и они сделали ещё одну разметку, так, что за компьютерами уже невозможно было сидеть. Посетителей попросили выйти, погулять часик.
Я надеялась, что бурение потолка осуществится гораздо быстрее, и по коридору прошла в тупичок здания, где стояли два старых, обтёрханных креслица. Рядом было нечто вроде кладовки, где аккуратно сложенные лежали совершенно ветхие книги советского времени – по-видимому, они дожидались списания. Из кладовки я прихватила с собой две книжки – толстый роман и сборник милицейских рассказов.
Вечер того же дня я посвятила роману; это было захватывающее чтение, жаль, что финальные страницы не сохранились; впрочем, о них можно было догадаться по смыслу, по логике развития событий.
Производственный роман брежневской эпохи рассказывал о мощной стройке – возведении энергокомплекса в Сибири, о возникновении в связи с этим нравственного конфликта в среде высших должностных лиц – между главным инженером стройки Морозом и его отчимом; повествовал о симпатичной, созданной для любви девушке Жанне, которая двадцати лет от роду уехала из Сочи в Краснокаменск, о принципиальном журналисте Грачёве, о мятущемся и хлипком писателе Олеге Свешникове и о двуличном молодом учёном Леоне Колесове.
Это был, конечно, роман-ремесло, написанный в русле «русской партийности», но герои были, в общем, симпатичными, язык – простым, сюжет – держал. А Морозу, принципиальному молодому начальнику, в конце романа достались не только лавры справедливого руководителя и честного инженера, но и любовь утонченной, играющей на фортепиано Грига девушки Жанны. Всё, как положено победителям – руно и женщины.
На следующей день я принуждённо смотрела в кафе очередную «Фабрику звёзд» по телевизору, и комментатор восторженно рассказывала, каков был конкурс, как съехались сюда таланты со всех страны и ближнего зарубежья… А потом воспитатель убеждал таланты: «Ребята, давайте договоримся: мы будем убирать комнаты и зал, где репетируем. Это нужно для нас. Сегодня кто-то из вас должен вымыть полы…»
Гигантская стройка в Сибири, куда устремилась девушка Жанна, и мытьё полов в пансионате – какова разница масштабов! Неужто наши отцы за нас всё построили?!
На улице я встретила молодого парня, с которым мы стояли рядом в храме – он был одет так же – в чёрную рубашку с серебряной ниткой, чёрные брюки. Он тоже меня узнал – ещё бы, четыре часа рядом простоять!.. Но мы не поздоровались – неудобно как-то… А на следующий день я встретила на улице пожилого мужчину. Он вёл велосипед. Мужчина в храме со знанием дела подавал передо мной записки и тоже простоял всю службу. Я хотела сказать ему: «С праздником!» (Так светло и празднично было у меня в тот день на душе!) Но удержалась. С трудом, правда.
Странно, стоишь, служба длинная, устаешь (а как же старушки? они-то основные молельщицы!), чувствуешь свою греховность, ничтожность, ну и вообще, если большая часть жизни прошла наперекосяк, что, ликовать что ли, будешь?! И вдруг на следующий день – так светло, тихо, радостно, спокойно на сердце! Всё отходит в сторону. Далеко-далеко…
«Они сошлись вьюжной, серебристой, многоснежной зимой…» Так я иногда думаю о нас – в третьем лице. Брак без общих детей, соединённый лишь некой общностью интересов, духовных склонностей, всегда казался моей маме греховным, ненормальным. Так между нами пошла трещина. И сейчас я хожу, думаю об этом. Горький запах тополей. Дымно.
К себе и от себя. Эти мои бесконечные, мучительные колебания. Стоит мне оказаться одной, вырваться из притяжения твоей любви, как мне начинает казаться – мама права, права… Мы неправильно, искривлено живём, а когда пытаемся быть «как все», получается ещё жальче, ещё ненормальней. Часто я представляю ещё одну свою не нарисованную работу – «Огонь». В жарком и веселом костре любви быстро сгорят наши жизни. Ярко, красиво и бесплодно. До головёшек.
Но стоит нам приблизиться друг к другу, как всё благоразумное и здравое забывается. И мы летим… В пропасть? В горние выси?
В парке установлен простой, но весьма основательный памятник Акиму Мальцеву – купцу, который и положил начало городу. Это был благообразно-осанистый сосредоточенный мужчина лет 45, в сапогах, поддевке, с шейным платком, с кудрявящейся бородой, с волосами, расчесанными на средний пробор. В руках он держал царскую грамотку, разрешающую ему закладывать город. И надо сказать, устроил он тут всё с толком, компактно – заводы, фабрики, школу, больницу… Всё рядом.
На вокзале у киоска женщина хвалилась и в то же время нецензурно ругала своего сына, который, отучившись на фельдшера, собрался поступать дальше, в мединститут. «Ой-ой!» – поддакивала киоскерша.
На чайнике («в больницу удобно») было написано: Орел, улица Транспортная, дом 20.
– Китайский? – спросила я.
– А какой же, – вздохнула полнотелая продавщица.
– А написано – Орёл, – с надеждой заметила я.
– Ой, ну мы-то знаем, что продаём, а написать можно что угодно.
В парикмахерской в ожидании мастера я рассматривала фотографии – рядом была фотостудия. Местные красавицы (красавцев, увы, не было), снимок Жириновского на фоне строительных руин. Фото поп-знаменитостей, посещавших город. А вот и полосатый кот, который напряженно смотрит в аквариум – охотник!.. Но самое запоминающее фото – контрактник в камуфляже, в БТР или в военной машине (Чечня), мирно спит, а на руках у него маленький собачёнок, грустные умные глаза, чёрные уши… Мне подумалось: зачем же тогда искусство, если простая фотография может сказать больше, чем самая думанная-надуманная картина?!
Зашла в магазин «Товары для дома», в центре стоял лоток с разноцветными бельевыми веревками (ещё всё было хорошо!). И вдруг мелькнула мысль – трезво-унылая, деловито-отчаянная: «Удавиться, что ли?»
Жизнь наполнена таким страданием (и моим личным – тоже), которое я никогда не отважусь описать. В жизни, конечно, и счастье было, и красота. Но если бы мне сейчас сказали: хочешь прожить ещё одну жизнь? (Подразумевается, что более счастливую). Я бы отказалась. Есть, конечно, люди и несчастней меня. Но страдания в моей жизни было много, очень много.
Но кто из окружающих меня, близких мне людей, не страдает? Кто счастлив? Кто не устал безмерно от жизни? Не могу вспомнить.
Потом я бежала, побросав кое-как вещи за пять минут в сумку (как ни странно, ничего не забыла), бежала из этого города, и таксист уловил мою каменную тревогу, жал на газ, а озеро было в тумане, в белой дымке, зеркально-чистое, в сумерках холодного вечера, и я против воли запоминала этот равнодушный и красивый вечер.
Потом мы ехали в тёмном автобусе по тёмному, невысокому страшному лесу, дорога была извилистая, петлистая, всё время возникали крутые повороты, на указателях в свете мятущихся фар всплывали названия селений, все они были зловещими, недобрыми: Кощеево, Мухреево, Веригино, Дом Инвалидов… Сердце моё набухало, билось болезненными толчками, а то вдруг семенило, убыстрялось, как испорченные механические часы перед тем, как им совсем встать… «Удавиться, что ли…» Недолговечность счастья – вот что самое обидное было во всей этой истории, и я думала: зачем жить?! Ну, проживу я ещё год, пять или десять, и всё будет одно и то же: бесконечная пустыня страдания с крошечными островками радости… И чем больше будет страдания, тем в меньших мелочах я буду искать счастье. Неужто для этого мне надо было родиться на свет?!
Во Владимире (город встретил белыми соборами, воздушно светившими в этой кромешной ночи) мы остановились у магазина «Ритуальные услуги» (почему бы уж сразу не у морга, – думала я, беззвучно плача).
Когда я приехала домой, когда случайно посмотрела на себя в зеркало в прихожей, я удивилась, увидев там своё лицо – измученное, жалко-похудевшее, с запавшими глазами. «Жертва насилия».
…Моя мама выздоровела и жила ещё долго и счастливо. Это была моя мечта-грёза, пока я ехала в тёмном автобусе по тёмному, невысокому страшному лесу. Но всё оказалось определённей и хуже – инсульт, похороны, поминки. Я думаю, что умирать не страшно, если ты правильно прожил жизнь. Но кто мне теперь скажет: правильно ли я живу?! Сердце кажется утыканным иголками, и оно болезненно и медленно трепещет в груди.
Я шла, это было дождливое тёплое утро, сентябрь, первые листья на тротуаре, и осенние цветы у торговок в целлофановых плащах – эта пестрота цвета, много оранжевого, подмосковные георгины (я люблю именно георгины, потому что розы или привозные хризантемы есть всегда, а наши георгины – только ранней осенью, до заморозков). Я шла, а душа моя ужасалась – неужели и эта, немногая радость – я шла к тебе – будет у меня когда-нибудь отнята, и круг страдания будет сжиматься, душить моё сердце, пока не померкнет свет, и кто-то Великий скажет мне, наконец, зачем он меня так мучил, зачем всё это… зачем…