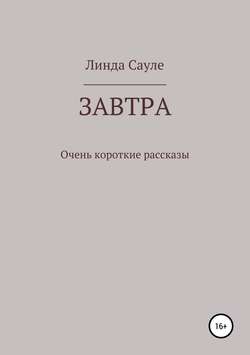Читать книгу Завтра. Сборник коротких рассказов - Линда Сауле - Страница 1
ОглавлениеОдно целое
Она сидит на песке, белоснежном, словно ненастоящем, еще влажном от недавнего прилива. Солнце припекает все сильнее, но девушка не чувствует жара горячего светила, позволяя ему нежно освещать ее загорелую, гармонично сложенную фигуру. Спину она держит ровно, очень уверенно и в то же время свободно. Волосы забраны высоко, глаза закрыты, рот расслаблен. Говорят, даже великим из Богов бывает одиноко, но только не ей. И не сейчас. Вдох-выдох.
Ранним утром на пляже очень тихо, лишь шум волн, но он не мешает. Ничто не тревожит ее ум, и мысли-мартышки в голове умирают, даже не родившись. С каждым вдохом она наполняет легкие ветром океана и освобождает разум для мыслей стоящих. Вдох-выдох.
«Я принимаю великую мудрость всеобщего равенства и ощущаю истинное единение со всеми живыми существами». Вдох-выдох.
«Я принимаю величие каждого создания на Земле и беру на себя его страдания, разделяя их и принимая Правду». Вдох-выдох.
Чуть поодаль, в тени пальм, притаился мальчишка. Он родился здесь, десять лет назад, в хижине, которая стоит далеко от пляжа, густо застроенного гостиницами и сувенирными лавками. Ребенок смотрит на стройную спину девушки и всем сердцем чувствует ее безмятежность. Он хочет разделить это чувство и усаживается также, подражая: ноги – в позу лотоса, руки – по коленям, ладонями кверху. Закрывает глаза, замирает в предвкушении и чувствует, как по телу его разливается боль. Она рождается в животе, кажется, что сотни острокрылых бабочек резвятся внутри. Мальчик открывает глаза. Океан бросает волны на песок. Туда-обратно. Туда-обратно. Он снова прикрывает глаза и пытается заставить себя ощутить блаженство. Но чувствует только изматывающий, до тошноты привычный голод. Он злится. Боль мешает, сбивает с толку. Он открывает глаза, надо идти. Скоро появятся туристы, и он выпросит у них немного денег, чтобы поесть. Не досыта, но это заставит голод хоть ненадолго отступить. Мальчик встает, голова его кружится, перед глазами плывут черные круги. Он часто моргает, заставляя их исчезнуть, и бросает последний взгляд на девушку. Затем уходит, чуть согнувшись, чтобы резь в желудке ослабла. Ветер треплет его спутанные темные волосы, когда он шагает прочь по песку.
На берегу сидит девушка, и ресницы ее трепещут от экстаза, который накрывает ее так часто в этом удивительном месте. Ее губы чуть слышно шевелятся, когда произносят слова, столь милые ее сердцу. Все глубже погружаясь в нирвану, она шепчет: «Я – есть каждое существо на планете. Я чувствую каждого, кто жил, живет и будет жить, и буду нести это понимание всегда». Вдох-выдох. Вдох-выдох.
Ночь
– Пожалуй, я все же позвоню в службу опеки, – седовласая женщина стояла у окна, глядя на улицу. Ее губы были поджаты – знак крайней обеспокоенности.
– Снова Билл? – мужчина с газетой в руках с любопытством оторвался от чтения.
– Нет, его младший. Играет на нашей лужайке. Опять. Видимо, ему здесь спокойнее, – в голосе ирония.
– Да и пусть, не все ли равно.
– Мне не все равно, Джордж! – воскликнула женщина, разворачиваясь к мужу с негодованием. – Сегодня он играет у нас, завтра у Киллсов, а послезавтра он исчезнет, и его не найдет и сотня полицейских! Дети не должны шататься без присмотра.
– Я уверен, Билл за ним следит, – сказал пожилой мужчина, нехотя вставая с кресла и подходя к окну. – Да, я был прав, вон, сидит на пороге.
– О Господи, он снова с ружьем! Вот наказание! У всех соседи как соседи, а у нас!
– Не драматизируй. Держать оружие в нашей стране не запрещается.
– …держать его дома, но не расхаживать с ним средь бела дня! И по ночам, кстати, тоже!
– Да безобидный он. Я в этом уверен, – мужчина попытался успокоить жену.
– Мне не нравится этот человек. И еще я думаю, что он употребляет запрещенные вещества. Посмотри, он заснул сидя!
– Заснул? – мистер Орвел поправил очки, вперив взор в соседний участок. – Точно, и впрямь спит, – удивленно проговорил он.
– Это не в первый раз, между прочим, когда он вот так отключается. Еще и эта форма, будто на войне! Не просто так от него жена сбежала, и четверо детей не помешало.
– Трое, Мэри. Еще был малыш, который умер во сне, – тихо поправил жену мужчина. Она не ответила, продолжая с подозрением смотреть туда, где мужчина, одетый в военную форму, спал, прислонив голову к двуствольному ружью в правой руке. Вдруг голова его поехала вниз, и он резко проснулся, озираясь. Потом, найдя глазами сына, успокоился. Он кликнул ребенка, и вместе они скрылись в деревянном двухэтажном строении.
Билл Кавендиш поставил ружье у входа, а сам прошел на кухню. Через полчаса, когда вернулись старшие, ужин уже был готов. Трое маленьких мужчин и один большой усердно жевали, почти не обмениваясь репликами. Чуть позже Билл уложил детей спать, а сам спустился на кухню. Холодная бутылка пива охладила его ладонь, и на душе стало спокойнее. «Первая бутылка всегда самая приятная», – подумалось ему. Он прошел к выходу и взял в руки ружье. Чутко прислушался. Наверху ни звука, но все-таки он поднялся наверх и вошел в детскую. Медленно подошел к каждому, улавливая мерное дыхание. Дети крепко спали. Билл Кавендиш вышел на улицу, прошелся по периметру дома, проверив все углы и задний двор, затем вернулся и устроился на диване возле телевизора.
Только после третьей бутылки он, наконец, позволил себе поднять глаза и встретиться взглядом с младшеньким. С портрета на полке на него глядел голубоглазый малыш, который никогда не вырастет.
– Я с тобой, мелкий, – сказал он портрету, и глаза его повлажнели, наполняясь решимостью. Ночью спать нельзя. Ночью случаются вещи, которые невозможно контролировать. «Никто больше не заберет моих детей», – привычная мысль успокаивала, как ружье, стоящее рядом. Мужчина сделал звук потише и выбрал несколько фильмов из программы. Их должно хватить до утра.
Завтра
Павел Никанорович подрабатывал на заправке. Он был обычным сельским человеком, с огрубевшей кожей рук и лица. На этом лице морщины будто закостенели бороздками остывшей лавы, чтобы никогда уже больше не разгладиться. Кожа его была коричневой – кожа труженика, с детства привыкшего находиться на открытом воздухе, а глаза были ярко-голубыми, как два самородка, вымытых из земли весенним дождем.
Работа заправщиком ему нравилась, была она непыльная, только «пахучая», но к запаху бензиновых испарений он привык быстро. Работу тяжелой не считал, ведь домашние дела – колка дров или уход за скотиной – требовали гораздо больше усилий. Но будучи человеком физически крепким, он никакого труда не боялся, даже наоборот, любил быть при деле. Павла Никаноровича все в жизни устраивало, и поэтому на лице его почти всегда играла благодушная улыбка.
В тот день, он, как обычно, наполнял баки заезжающим на заправку автомобилям, с благодарностью принимал чаевые: монеты, реже – купюры. Вдруг Павел Николаевич услышал громыхание мощных моторов и, повернувшись, увидел, как подъехали четыре сверкающих на полуденном солнце мотоцикла. Два из них выстроились в ряд возле колонки, остальные остановились чуть поодаль: видно, их баки уже были полные и в заправке не нуждались. Один из мотоциклистов спешился, снял шлем, и Павел Никанорович завел с ним разговор:
– Что за модель у вас? – спросил он.
– Это Харлей Дэвидсон, дедуль, – ответил ездок.
– Американский, значит! – забыв про пистолет, вставленный им в бак, уважительно протянул заправщик. – Дорогой, наверное?
Не дожидаясь ответа, он ухмыльнулся, протянул руку и погладил бак.
– А объем какой?
Мотоциклист чуть свысока ответил, завязался разговор о технических особенностях двухколесной машины.
– А я ведь тоже когда-то хотел стать байкером, – мечтательно произнес Павел Никанорович.
– Так и что ж не стали? – улыбнувшись, спросил мотоциклист.
– Да кто ж его знает, хотел стать, да не стал, жизнь так повернулась, не удалось.
– А что случилось? – поинтересовался парень.
– Да что случилось, купил я его, мотоцикл-то, домой привез. Думаю, завтра прямо с утра поеду кататься. Вот завтра наступило, а утром на рынок надо. Потом жена пилить стала: куда тебе, на старости лет-то! Ну стоял мотоцикл, стоял… Думаю, черт с вами, вот брошу все, возьму рюкзак – у меня зеленый такой рюкзак, для охоты – да и поеду по всей России или еще дальше.
– Не поехали?
– Да вот, не получилось! – сгоряча воскликнул Павел Никанорович, вытаскивая пистолет из бака и разочарованно им помахивая. – Коров у меня аж четыре штуки! – взмах пистолетом. – Пока утром покормишь, почистишь хлев… Ухаживать-то кто за ними будет, коровы это тебе не шутки! Они и молоко, и мясо дают, куда их денешь?
– Это да, – легко согласился байкер.
– Вот и стоял он, мотоцикл, стоял, смотрел я на него, смотрел, да уж больно стало смотреть, а не ездить. Все думал: «Вот завтра. Завтра уж точно поеду!». Потом понял, что не для меня это, не смогу коров своих да хозяйство бросить.
– Ну и что? Стоит еще, мотоцикл-то?
– Да какой там стоит, продал я его давно, – и вдруг Павел Никанорович резко замолчал, переменился в лице и махнул рукой второму байкеру: мол, подъезжай.
Затарахтели моторы, и вся четверка тронулась с места, махнув Павлу Никаноровичу на прощание, а он, прищурившись, смотрел вслед удаляющимся мотоциклам. Шум моторов становился все тише, затем стих совсем, оставив заправщика в знойной августовской тишине, нарушаемой лишь подъезжавшими автомобилями. Всю оставшуюся смену он провел в тихом раздражении, не глядя ни на автомобили, ни на их владельцев, только отходил покурить чаще, чем обычно. Лишь сытный обед вернул ему прежнюю приветливую улыбку, к которой привыкли его напарники.
Вечером после работы Павел Никанорович зашел в хлев, закурил сигарету и долго внимательно разглядывал своих коров, будто видел их впервые. Скользил взглядом по их раздутым пятнистым бокам, смотрел на крупные челюсти, медленно пережевывавшие сено, на большие грустные глаза. Потом бросил сигарету, крепко вдавил ее в грязь и пошел в дом. Жена уже накрыла на стол. Сели ужинать. И был это самый обычный сельский ужин, какой случается каждый вечер в каждом деревенском доме. Такого ужина весь день ждешь, потому что можно с чистой совестью опрокинуть стопку и обдумать дела дневные, и на завтра что-нибудь спланировать. Павел Никанорович сытно поел, а когда жена спросила его, отчего он был так молчалив, не ответил. Лишь глянул на нее и, поморщившись, махнул горькие свои сто грамм да отправился спать. Назавтра было много дел.
Под крылом
Марта умерла в марте. И ничего ироничного в этом не было. Ранней весной все еще случаются холода, и для истощенного зимовкой тела это стало последней каплей. Той самой, что замерзает на кончике клюва, и больше уже не тает.
Дьюли плыл по черной, лазуритно-ромбовой глади Лебединого озера в Гайд-парке, выписывая круги в небольшой заводи подле ракитника. В тени этого кустарника жаркими днями они с Мартой любили почистить перышки, вызывая умиление зевак. Вода мягко подталкивала лебедей навстречу друг другу, и их покрытые плотным белым оперением тела беззвучно соприкасались в бархатной неге.
Марту забрали работники парка. Ее крупное, молодое тело без признаков жизни плавало по поверхности озера, а позже его отнесло на выклеванную, покрытую птичьим пометом и пухом, отмель. Марта пугала отдыхающих, в особенности детей, поэтому вскоре пришли люди в высоких резиновых сапогах. Они деловито осмотрели ее: заглянули по очереди под каждое крыло, приподняли поникшую голову, ощупали клюв. Дьюли плавал под плакучей ивой и выгибал шею, пытаясь увидеть Марту, заслоненную сгорбленными спинами. Потом ее унесли.
Весна разгоралась над озером. Отовсюду неслось воркование, кряканье, хлопанье крыльев. То и дело раздавался эхом резкий треск – это какая-нибудь птица размягчала в воде брошенную ей пищу. В воздухе сновала мошкара. Короткая жизнь миниатюрных созданий в стремительном движении обрывалась так неожиданно, что они не замечали, как замирали и превращались в частицы пыли в пронизывающих лучах теплеющего солнца.
По Серпентайн-роуд, огибающей озеро с трех сторон, чинно прогуливались отдыхающие. Было воскресенье, народ двигался не спеша, не жалея времени на наблюдение за обитавшими здесь пернатыми созданиями. Вот, вжав в плечи полосатую головку, проплыл чирок-трескунок. Переваливаясь на тонких черных лапах, прошлепал по зыбкому берегу канадский гусь. Крикливые черноголовые чайки снуют тут и там, и всюду слышится шелковистое воркование голубей.
Семьи устремлялись поглазеть на больших поганок, чье яркое оперение и вздорный хохолок вызывал у детей неподдельный восторг. Но лишь завидев лебедей, лица людей озарялись тихими, восторженными улыбками. Перед белоснежными птицами они застывали, не в силах оторвать взгляд. Все в этих созданиях было прекрасно: и плотный шелк оперенья, и правильный изгиб шеи, и черный треугольник над оранжевым клювом, будто росчерк художника-минималиста.
Марта и Дьюли никогда не выбирали друг друга. Они просто были вместе настолько давно, сколько могли вспомнить. Плавая по озеру, они не отдалялись друг от друга больше чем на десять ярдов, словно невидимый магнит не позволял им разойтись в разные стороны. Если Марте вдруг вздумалось отправиться к лодкам, баюкавшим своих ездоков посредине озера, то она устремлялась к ним. А Дьюли, пригнув голову к воде, догонял ее, двигая лапами так быстро, что позади него волнами расходилась пена.
Дьюли обогнул кусок хлеба, плюхнувшийся прямо перед ним и медленно теперь размокавший. И тотчас же в еду впились жадные клювы налетевших со всех сторон птиц.
– Мам, почему этот лебедь не кушает хлеб? – закричал мальчик.
– Наверное, он не голоден, мой милый. Корми других.
Мальчик стал ломать хлеб и бросать птицам куски, которые серовато-рыхлыми бомбочками врезались в водную гладь. Кряквы засуетились, заполошно вытягивая шеи, стараясь ухватить кусок побольше, а чайки с криками пикировали к воде, используя преимущество воздушной атаки.
Люди, стоявшие у кромки воды, торжествовали, когда их куски доставались лебедям. Сами того не ведая, они заискивали перед этими гордыми птицами с королевской осанкой, даже в суете кормежки сохранявшими свое природное достоинство.
Дьюли медленно плавал чуть поодаль. Он неторопливо окунал клюв в воду, если видел там кусочек водоросли или насекомое. Начинался брачный сезон, и неподалеку от него сошлась пара лебедей. Самец, распушив крылья, двигался кругами вокруг равнодушной самочки. Он вытягивал шею, издавая гортанные звуки, и вскоре она ему ответила. Приподнимаясь над побежавшей рябью водой, птицы завальсировали, сплетаясь шеями, по-змеиному раскачиваясь в стороны. Этот танец любви отозвался где-то в глубине сознания Дьюли. Сквозь дымку воспоминаний он ощутил нарастающий жар, и его сильная шея вдруг потянулась ввысь, к звенящему чистотой, синему небу. Он вскинул крылья, унимая этот нежданный порыв, отчего по воде побежали круги. Они расходились, ища мягкую преграду белого крыла, способную остановить их движение, и, не находя, плыли дальше, тая в зеркале с одним отражением.
Надвигался вечер. Полосатые лежаки были собраны, туристы доедали сэндвичи, собираясь расходиться. Стих воскресный гомон, не были слышны ни детские крики, ни щебетание соек. Над подернутым рябью озером стало тихо. Серые цапли, нахохлившись, замерли у опустевших лодок. Набежали облака, разом затянув приветливое небо. Похолодало, и в сгущающемся вечере обитатели Лебединого озера стали расплываться, как закрывшиеся цветки лилий, оторвавшиеся от стеблей. Дьюли тоже поплыл и остановился под ракитой. Вдалеке виднелись его собратья, но он не узнавал их на расстоянии. Его одинокая фигура, белея, покачивалась на смолисто-черной глади воды. Дьюли согнул длинную шею, пряча голову от гуляющего ветра. И там, в пуховой обители своего пылкого сердца, под крылом, где все птицы одиноки, он был не один.
Очередь
Они приехали отдыхать. Никто и ничто не должно было помешать этому. Дело было в турецком отеле с пометкой «Все включено», где включено было действительно все: чужие орущие дети, палящее солнце, теплое обслуживание и еда, чье главное преимущество было в ее доступности и неиссякаемом количестве. Посему, пища в этом, да и в других похожих отелях, имела статус практически священный.
Нужда толкала людей в места, подобные этому. Нужда в заслуженном отдыхе после месяцев работы, а еще томление по солнцу, которого не видать из окна офиса, по развлечениям, по скандалу, который можно закатить без боязни быть осужденным соседями. А еще по новым знакомым, готовым поверить любым твоим рассказам, чтобы им, в свою очередь, было что рассказать по возвращении домой. Работа забывалась сразу же, как только нога отдыхающих ступала на раскаленную землю этой гостеприимной страны, и больше уж не тревожила ни сон их, ни будни. Приехавшие тут же начинали заниматься активным ничегонеделанием, и в этом нельзя было упрекнуть этих, измотанных кредитами и ипотеками, праведных тружеников бывшего СССР.
Все они встретились в очереди за лавашом. Стоит упомянуть, что единственным недостатком этого отеля были очереди. Три тысячи постояльцев накормить весьма сложно, и, несмотря на старания администрации отеля, очереди все же случались и сильно раздражали гостей. Особенно они бесили тех, кто днем слегка обгорел или же выпил лишнего, и если со столами самообслуживания еще можно было как-то разобраться, пихнув плечом замешкавшегося соседа и освободив себе доступ к раздаточным лоткам, то с едой другого сорта все было сложнее. Лаваши. Знаменитые турецкие лаваши, чей запах, пышность и хруст запекшейся корочки снискал им любовь далеко за пределами Родины. Лаваш готовится несколько особенно долгих, если вы голодны, минут, и поэтому очередь к печке выстроилась внушительная и продолжала расти: слишком уж вкусно пахло от нее теплым хлебом!
Молодой турок-пекарь, с угольно-черными глазами и проворными руками трудился изо всех сил, пытаясь обслужить всех желающих, но он был ограничен возможностями пекущегося теста и объемами своей печи, и очередь продвигалась до обидного медленно. Стоявшие в ней люди нервничали, справедливо опасаясь, что за время их ожидания самые вкусные блюда будут съедены, а те, что уже добыты, – остынут. Но с каждым шагом, приближающим их к заветной цели, они оживлялись и нетерпеливо поглядывали на прилавок, который становился все ближе.
Вдруг сквозь гомон заполненной до отказа столовой послышалась перебранка. Скучающая очередь оживилась: не хлеб, так зрелища! Стали оглядываться по сторонам, чтобы определить, откуда идет шум. Выяснилось, что спор разгорелся возле печки. Матери разом перестали отчитывать капризничавших детей, а отцы стали вытягивать шеи, пытаясь узнать причину скандала. Возле печного прилавка турок-пекарь на ломаном русском объяснялся с женщиной:
– Только три на один!
– Мне нужно шесть, понимаешь? Шесть! – громко выкрикивала она, словно турок был глухим, выставив вперед пальцы в подтверждение всей серьезности своих намерений.
– Нет. Шесть – нет. Только три! – отвечал ей парень.
– Да к черту твои три, нас много, три не хватит! – сокрушалась дама.
– Нельзя шесть, смотри! – он махнул рукой на длинную очередь и на десятки любопытных глаз, теперь уже наблюдавших за ними.
Скандал набирал обороты. Женщина распалялась все больше, пекарь не сдавался.
– Дай мне шесть, и я уйду. Им и так хватит, что ты не понимаешь? – воскликнула она.
Теперь уже до очереди стало доходить, в чем причина ругани, и народ зашумел, как разбуженный улей. Послышались голоса:
– Прикинь, она хочет шесть лавашей взять!
– Да ладно! А мы тут что, просто так стоим?
– Вот наглая! – прошипел женский голос.
– Бери три, не задерживай! – нервно раздалось из очереди.
Впрочем, окрик не возымел должного действия, женщина продолжала стоять на своем. Пекарь разрывался между необходимостью доставать готовый хлеб и отвечать недовольной клиентке. Наконец он выбрал тактику игнорирования, и, обращаясь к следующему в очереди, протянул мужчине два лаваша. Женщина, осознав, что ее больше не замечают, удвоила натиск. Видимо, эту битву ей никак не хотелось проигрывать, поэтому она стала тянуть руки к уже отданным лавашам, в отчаянной надежде все же забрать свое. «Ты не охренела?» – спокойно осадил ее мужик. Даму осенило, что уже перегнула палку, и, понизив голос, она повернулась к прилавку с последней попыткой: «Ну пожалуйста, ну дай еще хоть два!» – сменила она тактику, вероятно, вспомнив, что все же женщина с известным умением воздействовать на мужчин.
Теперь уже не осталось ни одного человека в очереди, который не следил бы за этим неприятным разговором, осквернявшим столь ценную для любого народа пищу – хлеб. На лицах людей читалась неприязнь и осуждение. Однако некоторые из них сохраняли спокойствие, то ли в силу особенностей характера, то ли чувства превосходства, родившегося из умения держать себя в руках.
– Ну, дашь? – уже заискивающе взмолилась дама.
– На, – сдался турок. Не глядя на победительницу спора, он протянул ей два обжигающе горячих, прямиком из печи, с черными поджаристыми бочками, лаваша. Его врожденная любовь и уважение к женщинам все же взяли вверх над природной тягой к справедливости.
Легкая волна возмущения пробежала по толпе. Итак, долгое ожидание продолжается, а виной тому эта нахалка! Немые стрелы укора полетели в обтянутую футболкой спину женщины. А она… Не замечая буравящих ее взглядов, с победоносным выражением на разгладившемся лице, сгребла в охапку свои пять лавашей, три законных, два вымоленных, и поспешила прочь от прилавка. Как вдруг нога ее подвернулась, и женщина стала падать. Она выбросила вперед руки в попытке остановить падение, но лишь продолжала лететь навстречу земле. Ее тело неуклюже ударилось о пол, а лаваши, выпущенные на волю, взметнулись в воздух и, описав каждый свою траекторию, разлетелись во все стороны.
Никто из стоящих в очереди не захотел нарушить тишину, которая вдруг разом повисла, обволакивая звенящим коконом упавшую женщину и пространство вокруг. Все смотрели. Кто-то со злорадством улыбался, кто-то отвернулся, испытывая не то стыд, не то неприязнь, и лишь дети, не скрываясь, откровенно хихикали. Очередь замерла, не желая протянуть руку помощи. Да женщина и не искала поддержки. С трудом поднявшись, держась за ушибленное бедро, она суетливо одернула юбку. Попыталась улыбнуться, скорее себе, чем окружающим, мол, падение пустяковое! Затем стала оглядываться в поисках лавашей, начала было собирать их, но увидев, что они покрыты пылью, замешкалась, не зная, как поступить дальше. Потом положила хлеб, теперь уже никому не нужный, на приступок клумбы и похромала прочь. На пекаря, тихо качавшего головой, она посмотреть так и не решилась.
А очередь, очередь двигалась дальше. Ведь голод никуда не делся.
Зонд
—Тихо! Если издашь хоть звук, все пропало.
Мальчик в ответ послушно прикусил язык. Он пробирался на ощупь по стенке вслед за отцом, который уверенно прокладывал дорогу во тьме. Горячий, застоявшийся воздух и темнота черного хода дезориентировали, но ребенок привык доверяться отцу. Вдруг мужчина остановился, прислушиваясь, и сын тоже замер, стараясь не дышать. На космодроме было тихо, лишь мерный, гулкий шум раздавался с другой стороны двери.
– Погоди, я достану ключ, – отец нащупал плоскую карточку из пластика и приложил ее к замку. Система, щелкнув, сработала, и дверь поддалась. Оба прошли внутрь. Красноватое, ночное освещение сужало и визуально уменьшало пространство, но даже в таком виде оно производило неизгладимое впечатление. Мальчик открыл рот от удивления, но поражаться было некогда. Отец, все так же воровато оглядываясь, поспешил в застекленную комнату в дальней половине огромного зала. Там, из шкафа с шифром он извлек железную коробку и с волнением прошептал:
– Знаешь, что это такое? Это будущее, сынок. Не твое и не мое, и даже не человечества. Это будущее космоса. Ты же можешь представить себе космос? – завороженный, мальчик кивнул в ответ. – А весь космос, от начала до конца? Ты прав, это сложно сделать.
Мужчина поставил коробку на стол и усадил ребенка рядом.
– Я хочу, чтобы ты кое-что вспомнил. Примерно год назад мы с тобой слушали космические звуки, ты помнишь? Кажется, ты был в восторге, – он улыбнулся. – Теперь мы сделаем наоборот.
– Как это – наоборот? – прошептал сын.
– Видишь этот диск? На нем содержится информация о нашей планете, здесь записаны образцы музыки, разных языков, собранных по всей Земле, и даже голос нашего президента. Я хочу, чтобы твой голос тоже оказался здесь. Мы с тобой ответим космосу. Ты задашь ему вопрос. Любой, какой только захочешь. Вероятно, его никто не услышит, никто не узнает, что ты его задал, и, конечно, ты никогда не получишь на него ответ. Но все равно я хочу, чтобы ты это сделал, – лицо мужчины было сосредоточенным, а голос дрожал. – Завтра мы отправим этот зонд в путешествие по открытому космосу. В очень длительное путешествие.
– А когда он вернется?
– Он не вернется. Мы посылаем его изучить дальние уголки Вселенной, планеты и спутники, которые он встретит на пути. Собранные им данные будем получать и использовать не только мы, но и многие поколения, которые будут жить на Земле после нас.
– Значит, он никогда не вернется?
Вместо ответа мужчина повозился с проводами:
– Вот микрофон. Пока я подключу его, ты должен подумать, что ты хочешь сказать космосу. А когда включу, у тебя будет только одна попытка произнести свой вопрос, – он потрепал сына по загривку. – Я знаю, ты справишься.
Вояджер-2 не знал, где находится. Связь с Землей была потеряна очень давно, около пяти миллиардов лет назад. Поначалу, когда он еще находился в межзвездном пространстве, она была регулярной, затем, в пределах гелиопаузы, стала давать сбои и вскоре исчезла окончательно. Все записывающие устройства были давно забиты под завязку. Последняя уместившаяся информация относилась к звезде Росс-248, но передать ни эти, ни новые данные было некому. Зонд продолжал свое движение в межгалактической темноте, лишь изредка, в силу привычки, обращая свои приборы в сторону того или иного спутника или планеты. Ориентация Вояджера-2 давно была нарушена, поэтому он не узнал Млечный путь, когда вышел на него.
За пять миллиардов лет, которые потребовались ему, чтобы обогнуть Вселенную по малому, внутреннему кругу, Земля уже оказалась поглощена агрессивной, голодной галактикой Андромедой, и теперь она и Млечный путь сошлись в гигантском водовороте, который не утихнет следующие сто сорок миллионов лет, формируя новый мир, новую галактику, новые небеса. Давным-давно канули в лету Пионер-10, Пионер-11 и Вояджер-1. А Вояджер-2, изменив угол, вновь уплывет вдаль, уходя на второй, больший круг, который ему уже не осилить. И, рассыпаясь на ходу от изнеможения, будет до последнего удерживать в себе голос – символ всех бороздящих горизонты, преодолевающих и неугомонных. Тонкий голос, напоенный хрустальной космической пылью, тихо вопрошающий у темноты:
– Для чего мы живем?
Свидание вслепую
Катя никогда не была девушкой-вечеринкой. По жизни она шла степенно, вопреки своему молодому возрасту, время свое берегла, как и честь. Она была аккуратной и прилежной, не бросала слов на ветер и не совершала необдуманных поступков. Поэтому сегодня она страшно переживала, шагая на свое первое свидание вслепую.
Его организовала Женька, устав делить внимание своего парня с одинокой подругой, пусть и самой любимой. Договорилась со своей знакомой, та – со своей, и кандидат вскоре был найден. Встретиться должны были в кафе, недалеко от станции метро. Все, что знала о нем Катя, – это рост – чуть выше 178 см. 8 сантиметров разницы – неплохо. Но каблуки все же не надела, чтобы польстить и подчеркнуть разницу в росте.
Она увидела его сразу, как только вошла в полупустое заведение. Серый свитер, худощав, слегка поникшие плечи, смотрит в стол. А, нет, в телефон, лежащий на столе. Поздоровались, представились. Как только сделали заказ, незнакомец увлекся разговором. Говорил он быстро, суетливо, словно боялся, что девушка уйдет, а он не успеет закончить начатое. Говорил о своем детстве, о психологических травмах, нанесенных родителями, и непонимании сверстников. Катя упомянула было тяжелое детство Антона Павловича Чехова, грубое обращение его отца и непрекращающиеся побои. Но тема эта не заинтересовала собеседника, ведь своё детство он уже покинул, переносясь в годы отрочества, уплывая все дальше от Кати на волнах обиженной детской памяти. Потом лицо его пошло красными пятнами, ведь речь зашла о предательстве любимой девушки. А потом и друга. Или это все было одновременно? Катя не смогла разобраться.
Затем принесли заказ, и на какое-то время девушке представилась возможность рассказать о себе, ведь она взяла только салат. Считая, что поступки характеризуют лучше, чем слова, она лишь вскользь прошлась по основным вехам своей жизни. Но, то ли не сумела себя презентовать, то ли сами факты ее биографии были скучны, как бы то ни было, собеседник на них не реагировал. Лишь рассеяно кивал, усердно пережевывая пищу, запивая ледяным, с шапкой пены, пивом. И Катя, говоря все тише и неувереннее, вконец смутилась и замолчала, а он, рыгнув, правда тихо, почти незаметно, произнес:
– Ну так вот… – будто ранее прерывался лишь на секунду и понесся дальше, закручивая словесный водоворот, распахивая перед новой знакомой врата теперь уже взрослой жизни, обнажая без стыда свою неудавшуюся карьеру и любовную печаль. Катя поначалу ждала, что рано или поздно путешествие это приведет его к ней, в теплое кафе с обитыми дермантином креслами. Где после кофе она предложит ему немного пройтись и, может, зайти в музей, где он сможет отвлечься от своих грустных воспоминаний. Но, в конце концов, глядя на его раскрасневшееся лицо и подернутый пивной поволокой взгляд, она поняла: все дело в том, что свидание это было вслепую. Ведь тот, кто сидел перед нею, был слеп, по-настоящему слеп.
Тишина ночи
– Дальше я не поеду. Выходите здесь.
– Но мои ноги, – начала было женщина в черном, сидящая на заднем сиденье такси.
– Не могу, сеньора, мне там не развернуться. Идите пешком, здесь недалеко.
Женщина вздохнула. Водитель, обойдя машину, открыл дверь и помог ей выйти. Опираясь на резную, с позолотой, клюку, она медленно побрела вверх по пригорку. Вокруг почти ничего не изменилось. Тот же холм с пыльной гравийной дорогой, который был покрыт травой тем больше, чем ближе ты подходил к старому дому. Сорок лет прошло, а окна все так же нараспашку и кружевное белье, развешанное без стеснения по всему двору. Этому дому всегда было нечего стыдиться.
Она вошла во двор. В тени густых деревьев было прохладно, но клонившееся к закату солнце все же пробралось сюда и длинными теплыми лучами касалось усталых, морщинистых рук. Из открытой двери вышла женщина, на вид ей было не больше шестидесяти.
– Чем могу помочь, сеньора? – она с интересом оглядывала гостью.
– Я когда-то жила здесь, – проговорила пожилая незнакомка в ответ. – Жила очень долго.
– Здесь много кто жил! – усмехнулась хозяйка. – Вон Аурелия тут живет уже шесть лет как, Анна – все двенадцать, и Мартина… Что вас привело сюда вновь?
– Старость, – ответила та, и собеседницы замолчали в смирении перед этим страшным для всех женщин словом.
– Пройдемте в дом, – наконец произнесла та, что была помоложе.
Внутри витал все тот же дух разврата, но вот мебель уже была иной. Как и отделка стен. Теперь это красно-желтый бархат. Было немноголюдно. Двое мужчин курили, сидя на прямоугольном кожаном диване, оба с опаской привстали было при виде вошедшей, но лицо ее было незнакомо, и они спокойно вернулись к прерванному разговору. Рядом с ними сидела девушка. Голову ее украшала слишком высокая бабетта, а тело – короткое, с низким лифом, платье.
– Я бы хотела побыть здесь, – произнесла гостья.
– Сколько вам будет угодно, сеньора. Наверное, вам здесь непривычно. Война пощадила нас: на поле позади разорвалась бомба, а вот дом уцелел. Ни щербинки. Бог к нам милостив. Вот вам и дом терпимости. Все стерпит, – она снова ухмыльнулась и осеклась, не решаясь развивать скабрезную тему в обществе этой степенной, богатой сеньоры. Вместо этого она спросила:
– Когда вы были здесь в последний раз?
– В 1916-м я уехала отсюда. Мне было двадцать девять лет. Хозяйкой тут была донна Мария.
– А я застала ее! Она прожила здесь до самой смерти… Посидите тут, я принесу вам лимонада.
В открытое окно лился закат, сонные, одурманенные летним зноем, мухи мерно жужжали над вазой с увядшими фруктами и, сама не заметив, гостья уснула. Ее не посмели потревожить, решили, что проснется сама, когда придет время. Так и случилось. Она открыла глаза, когда снаружи давно стемнело. Жаркое южное солнце осталось жить только в воздухе. Окна и двери были по-прежнему нараспашку, внутри стоял галдеж и играла музыка. Вовсю шло веселье, клиенты знакомились с барышнями или выбирали своих любимиц. Уединялись, сделав выбор, иные сидели тут же, наслаждаясь вниманием молодых, озорных красавиц. И только один из гостей – пожилой мужчина в сединах, сидящий в глубоком кресле, – не сводил глаз с женщины в черном. Наконец, он подошел к ней и присел рядом:
– Не сочтите за неуважение, сеньора… – он замялся. – Все дело в том, как вы спали. Вы положили руки себе на грудь, словно прикрываясь… Словно вы – спящая Венера стыдливая. Я знал только одну женщину, которая спала вот так же, как и вы. Ее звали…
– Паула, – ответила с улыбкой старая женщина. Мужчина при этих словах всплеснул руками:
– Мой Бог, это ты. Теперь, когда я смотрю тебе в глаза, не понимаю, как мог не узнать тебя сразу! А ты, ты узнаешь меня? Я – Антонио.
– Антонио… – прошептала женщина, и как будто годы разом слетели с ее лица. – Ты изменился, – она улыбнулась, протянув ему слабую руку
– И ты, – он тоже улыбнулся. – Жизнь, кажется, удалась? – он кивнул на ее дорогое платье и драгоценности, мерцавшие в кокетливом освещении.
– Удалась. Можно и так сказать… Если считать, что мне больше не нужно спать с мужчинами за деньги, то, безусловно, жизнь моя удалась. Но и она уже прошла… А ты, все так же коротаешь вечера здесь?
– Моя жизнь тоже другая. Теперь я не могу того, что раньше. И для меня это не самое легкое признание. Но что поделать, природа берет свое. Моя радость теперь – в созидании. Смотреть на молодые создания, полные жизни, – единственная отрада моих мужских дней.
– Но ведь ты всегда был… О, каким ты был! – звонко и молодо засмеялась она, припомнив кое-что, известное только им двоим.
Так они просидели весь вечер, касаясь друг друга то коленкой, то рукой, то воспоминанием. А когда ночь куполом покрыла дом, полный любви, они пошли наверх. Туда, где когда-то без устали давали друг другу то, что было у них в избытке. То, в чем они больше не нуждались. И все же они продолжали лежать на кровати возле высокого, распахнутого окна, уводящего в темноту.
Ночь пришла. И она была тиха.
Автопортрет
Заказов было все меньше. И причина была одна – заказчики не узнавали себя на портретах. «Я на себя не похожа!», «Это не я!» – восклицали они в самых расстроенных чувствах. Получив на руки готовую картину, они с предвкушением разворачивали коричневую бумагу, еще в пятнах краски, на лице – улыбка и готовность рассыпаться в комплиментах мастерству художника. Но, увидев изображение, улыбка начинала таять и, в конце концов, восторженное лицо превращалось в гримасу отвращения, словно в руках человек держал нечто непотребное.
Первый раз это случилось в студии.
Павел Власов, молодой художник, пригласил клиентку забрать картину. Пожилая женщина разразилась слезами, взглянув на свое изображение. И, не объяснив причину своих слез, ушла, не заплатив остаток. Второй раз картину он отдал заказчику в переходе метро. Тот спешил и обещал рассмотреть работу уже дома. Вечером он позвонил Павлу и отчитал его, как школьника, перечисляя недостатки его как художника и как человека в целом.
С тех пор Павел Власов стал более внимателен в работе. Он старался передать все самое прекрасное, что только был способен найти в лицах позирующих клиентов. Даже из фотографий он умудрялся сложить в уме лицо, которое было приятно его взору художника, и в точности переложить его на портрет. Но чем больше он старался, тем больше негодования лилось из обиженных уст. Павел стал нервным, работал все больше днями, чтобы не упустить капризные свет и тени, просил клиентов не двигаться, нервничая из-за каждого их движения во время работы. По ночам он иногда подходил к картине и включал студийное освещение, обнажая свою работу, выворачивая ее наизнанку перед беспощадным светом, и выискивал недостатки. Находя, тут же исправлял и под утро ложился измотанным, усталым. Но приходило время выдачи, и история повторялась вновь: заказчик возмущался или уходил разочарованным.
Павел Власов был художником изобретательным и усердным. Потому он вознамерился во что бы то ни стало выяснить причину непрекращающихся провалов. Теперь, до того, как отдать готовую работу, он шел с ней через весь город в студию своего бывшего учителя и представлял созданное его опытному взгляду. Но пожилой член Академии искусств едва ли находил промахи в работах бывшего отличника. Он указывал лишь на технические несовершенства, какие в любой картине можно сыскать, если есть на то большое желание. И Павел, озадаченный, уходил восвояси и наутро вручал заказчику готовую работу только лишь для того, чтобы вновь услышать, как лживо и нелепо изобразил он того или иного человека.
Он стал плохо спать. Все меньше брал он заказов и все больше лежал ночами, гадая, в чем было дело. Подолгу он разглядывал свои руки и безмолвно вопрошал, что же с ними не так, или, быть может, с ним самим, раз он не способен изобразить человека таким, какой он есть. И во время одного такого размышления он вскочил возмущенный, в этаком бешеном приступе, которые непременно случаются с любым человеком искусства, и в исступлении подбежал к одной из картин с одним только желанием – растерзать ее в клочья. Завтра был день сдачи, с утра ожидалась клиентка, но он заранее знал, чем обернется встреча. И в приступе ярости он замахнулся рукой на девушку в шарфе, как вдруг взгляд, которым она на него глядела, притормозил его. Да так, что он остановился как вкопанный. На него смотрела девушка, но это было совершенно другое лицо. Это была не милая особа с тонким голоском и кроткими движениями. На него смотрела хамоватая, беспардонная гренадерша. Павел отшатнулся. Он часто заморгал, не веря своим глазам. Еще полчаса назад он видел на портрете ту же девушку, что приходила в его студию позировать. А теперь с картины на него смотрело бессердечное, страшное существо, готовое сожрать его заживо.
Павел с опаской обошел картину и поглядел на нее сбоку. На мгновение он решил, что тронулся рассудком. Но видение не проходило. Тогда он стал бросаться к картинам, тем, от которых отказались клиенты, и срывать с них тряпицы. Так и есть – повсюду чужие лица. На него смотрели люди, которые никогда не приходили в его студию. Никогда не позировавшие ему персонажи. Павел застонал. Он схватился за голову, не в силах осмыслить невероятные преображения. Он суетливо зашагал между картин, боясь поднять на них глаза. А когда все же осмеливался, то приходил в еще больший ужас. С картин на него пялились отвратительные, злобные, бесчеловечные лица. Лица предателей, изменников, сластолюбцев, чревоугодников и лжецов. Надменные ухмылки, глаза, источающие яд, руки, которым не терпится урвать чужой куш. Это был парад грешников, и они окружили его, ехидно улыбаясь оттого, что маски их, наконец, были сорваны. Не в силах больше вытерпеть это безумие, Павел выбежал прочь из студии, на улицу, в ночь.
Он упал в изнеможении на первую попавшуюся лавку, прямо возле пруда и отдышался. Теперь, когда он был в одиночестве, он мог поразмыслить. Он просидел так до самого утра, а когда вернулся в студию, был уже спокоен. За ночь, проведенную наедине со своими мыслями, в тишине, он, кажется, разгадал загадку. Ведь в чем заключается мастерство художника? Передать все так, как он видит. И за это он не мог упрекнуть себя. «Я делал свою работу, только и всего. По всей видимости, я вижу то, что люди хотят утаить, сокрыть. И в этом нет моей вины. Я лишь позволяю кисти изобразить то, что вижу». И когда он осознал, что вины его ни в чем нет, с той самой минуты все его мастерство, талант и самоопределение с грохотом замкнулись в единый круг, разразившись самоуверенностью и бахвальством.
Теперь он больше не робел, когда клиенты уходили недовольными. Вслед им он сварливо выкрикивал фразочки, вроде: «Это вы и есть, нечего себя обманывать!» или «Что вижу, то и пишу!» И при этом чувствовал он себя вовсе не неприятно, а очень даже прекрасно, уверяясь в том, что не осталось ни одного человека, не занимающегося самообманом (за исключением его самого, разумеется), и ощущал даже некую гордость оттого, что уж он-то посдирает маски с обывателя.
Дурная слава самодура-зазнайки быстро разлетелась по узкому кругу мира искусств, к тому же неблагоприятные отзывы сделали свое дело, и вскоре Павлу Власову перестали поступать заказы. Никто не желал быть обхаянным и обсмеянным молодым, пусть и талантливым, как говорили, художником. «Да в чем его талант-то? – вопрошали те, кто уже успел побывать в его студии под самой крышей. – Рисует, что вздумается, а потом еще и характер показывает». Нет, искушенная столичная публика за это платить не собиралась.
Павел Власов оказался на мели. Он вконец одурел от безделья, которое было тем обиднее, что праведные стрелы его не находили больше целей. Срывать маски было отрадно, это давало ощущение всесилия, но как-то вечером, оглядев студию, он не нашел ни одного наброска, завершения которого ожидали бы, ни одного пейзажа, который кто-нибудь хотел приобрести. Кисти его осыпались и задеревенели, а этюдник покрылся пылью. Его обеспокоенность вконец лишила его вдохновения, и паника все же постучалась в его дверь в виде хозяина студии. Подходило время оплаты. Но, в виду отсутствия заказчиков, платить было нечем. Хозяин дал срок – неделю, и Павлу нужно было как-то изворачиваться.
Беда случилась на третью ночь после визита. Истерзанный бессонницей, художник сидел на пыльном полу студии и глядел на свое отражение в длинном зеркале, прислоненном к стене. «Вот лицо, так лицо», – думал он. «Хоть и усталое, но зато спокойное, уверенное. А самое-то главное – честное! Физиономия человека, который не лжет ни себе, ни окружающим. Которое не боится произнести правду, глядя себе в глаза». С этими мыслями он продолжал смотреть на неопрятную бородку, на длинный узкий нос, на удивленные глаза. А удивленные они были оттого, что Павел Власов вдруг осознал, что за всю жизнь не написал ни одного автопортрета. Университетские карандашные наброски за полноценную работу художник не считал, и вот он уже вскочил, забыв об усталости и недосыпе, схватил пустой холст и кисти и принялся за дело.
Через три часа исступленной работы автопортрет был готов. Павел в изнеможении сделал последний мазок и, отбросив кисти прочь, уснул прямо на полу. Давно он не спал так крепко, и когда пришло утро, мужчина проснулся в отличном настроении. Он даже сразу и не вспомнил, за каким занятием его настиг сон, а увидев готовую работу, улыбнулся. Свежие масляные мазки лежали безупречным узором. Каждая черточка и морщинка подтверждала его теорию о собственной честности и правдолюбии. С портрета на него смотрел он сам. В порыве человека, получившего подтверждение своей правоты, он подхватил автопортрет и приткнул его рядом с зеркалом, а сам уселся на пол, чтобы удостовериться. Но изображения не совпадали. В неверии, Павел уселся было боком, как вчера во время работы, но вновь – никакого сходства. И сколько бы ни сравнивал он свое, живое лицо с тем, что глядело на него с холста, сколько бы ни подстраивался под него, он не находил никакой похожести. На портрете был изображен другой, совершенно чужой, человек, в этом больше не было сомнений. И, закрывшись руками, он вдруг в страхе заплакал, стыдливо, безудержно: так плачут люди в присутствии незнакомца. Потому как человека на портрете Павел Власов не знал.
Через несколько дней хозяин квартиры вернулся за оплатой, но в студии никого не нашел. Художник, снимавший помещение без малого пять лет, съехал без предупреждения, не взяв с собой ни холстов, ни красок, ни подрамников. Никто из его прежних знакомых не мог точно сказать, куда подался Павел. Говаривали, что он отправился на поиски то ли приключений, то ли самого себя. Одно было известно доподлинно – больше он никогда не писал.
В углу
Темный угол в цехе по производству арома-палочек существовал для проверок. Первая проверка – для Викрама, на терпеливость. Он ее прошел. Вторая – для палочек. Некоторые из них ее не проходили. И в эту же секунду для недогоревших лучинок наступал конец. Второго шанса им не полагалось, и вслед за неудачницами в топку отправлялась вся партия. Слипшись в один горящий ком, они отчаянно источали горьковатый запах в попытке вымолить себе право на жизнь, прежде чем исчезнуть навек. Это заставляло остальные палочки гореть неистово и равномерно. Никто не хотел отправляться в печь.
Викрам сидел в углу и, терпеливо поджигая одну палочку за другой, втыкал их в песок. Каждая палочка имела свой собственный, очень сильный аромат. Голова от него у Викрама перестала болеть еще несколько лет назад. Окутанный сиреневато-охристым дымом, он сидел, сгорбив худую спину, и следил за тлеющими благовониями. Каждый раскрывшийся букет он тотчас узнавал.
Он поджигал палочку, и поля шафрана стелились у его ног. Розмарин уносил его в больницу, и он снова мыл полы в дизентерийных палатах. Базилик успокаивал и заставлял вспоминать о матери с ее не знавшими покоя руками. Палочки с запахом мака попадались чаще всего: они шли на продажу в йога-центры. Эти палочки Викрам не любил, они заставляли его вспоминать красивых белых девушек, которые туда приходили.
Викрам никогда не уезжал из своей страны. Он знал ее очень хорошо, как и то, что мир за ее границами огромен. Викрам хотел бы однажды отправиться в Париж, но он не знал, как он пахнет.
Племя немых
Вожди двух племен встретились на нейтральной территории, на узкой полоске джунглей, которая пока принадлежала самой себе. За каждым предводителем стоял его народ, и были они так не похожи один на другой, как разнятся небо и земля.
– Отчего твой народ стоит так далеко от тебя? – спросил вождь с выкрашенным синим лицом. – Почему бы им не подойти ближе и не послушать, о чем мы будем говорить? Так, как сделал мой народ.
– Ни к чему им стоять так близко, – ответил вождь с лицом, покрытым красной краской. – Тигр не зовет блоху, когда делит кусок мяса с другим тигром. Он отдает ей свою кровь потом. В этом его забота.
– Но я хочу рассмотреть твой народ. Скажи, пусть он подойдет поближе. Но что я вижу! У твоих людей такие короткие руки! Что же с ними произошло, что конечности их так коротки?
– Я укоротил их, чтобы они не брали лишнего.
– Но если они брали лишнего, значит, на то была нужда? Не станешь брать лишнего, если есть достаток во всем. Взгляни на руки моего народа: они целые и очень красивые. Посмотри, сколько в них силы! Я направляю эту силу, когда мы идем на охоту, и благодаря ей мы приносим домой самую большую добычу! Нельзя лишать свой народ рук, ведь в них заключается самая большая сила.
– Не тебе учить меня. Длинные руки твоих подданных способны убить тебя, об этом тебе стоит подумать.
– Но зачем им убивать меня?
– Зачем им убивать тебя? Да затем, что твоя подстилка – самая теплая в твоей деревне, а крыша – самая надежная.
– Ты не должен говорить того, чего не знаешь. Все крыши моей деревни – одинаково надежны, и в каждом доме есть теплая подстилка – не холоднее и не теплее моей собственной. Я не вижу причины иметь более прочный кров – ведь у нас одинаковые тела, и мерзнут они одинаково.
– Но ты – Король, и не можешь быть как все.
– Но если я порежусь, пойдет кровь. Если порежется кто-то из моего племени – кровь пойдет тоже. В чем же наше различие?
– Глупец! – вскочил с земли Король с красным лицом. – Ты не должен занимать это место, если считаешь себя равным своим подданным! И он замахнулся на другого Короля. Как вдруг племя синих встало плечом к плечу и окружило своего Короля, в руках они держали копья. Король с красным лицом оглянулся на свое племя и позвал его: «Придите ко мне, защитите меня!» И они медленно подошли и тряслись они от страха, ведь у них не было рук, в которых они могли бы держать копья для защиты.
– Посмотри, – произнес Король с синим лицом, – они продрогли и им голодно. Твое племя выглядит хуже, чем мое племя. Хуже, чем ты сам. Я не вижу в нем силы. Похожи они на поваленные деревья, в которых нет больше достоинства.
Молчал Король с красным лицом. Не ответил он на этот призыв. Тогда Король с синим лицом перешел на другую сторону и сам обратился к племени красных:
– Ответьте мне! Отчего нет в вас силы? Отчего плечи ваши склонены, будто ждете вы удара? Отчего старики ваши одеты хуже молодых? А взрослые дети сидят на плечах у старших? Говорите! – обратился Король синих.
Но никто не отвечал ему.
– Что с твоим народом? – вопросил он Короля с красным лицом. – Отчего он так невежлив, что не отвечает на простые вопросы?
– Они не ответят тебе. Я забрал их языки.
– Но что за вождь лишает свое племя возможности говорить? – вскричал синий Король. – Как ты узнаешь, что в деревне кончилась вода? Кто спасет ребенка от змеи, если не сможет он позвать на помощь? Кто расскажет тебе, в каком месте лучше переплыть реку, если нет у людей твоих языка?
– Я сам все знаю! – вскричал Король красных. – Мне не нужно слушать других.
Помолчал Король с синим лицом и молвил, наконец:
– Ты гордец. Я вижу в тебе много гордыни. Но давай посмотрим, что останется от нее. Вставай сейчас и иди в свое племя, и смотри на каждого там. Дотронься до него, разгляди его раны, услышь его дыхание, протяни руку тому, кто готов упасть, и возвращайся. Послушался Король красных и зашел он в свое племя, долго ходил он между них, как живой среди мертвых. И когда вышел на свет, на лице его была растерянность.
– Взгляни на себя теперь, – молвил другой вождь. – Ты похож на тень. Теперь ты знаешь, что нельзя набрать силы там, где ее нет. Нельзя иметь гордыню, когда нет гордости, – с этими словами Король синих вошел в свое племя, и ушли они прочь, плечом к плечу. А Король красных остался. Вокруг молчало племя немых.
Костюм
Костюм появился в доме после приезда Верочки. Старшая дочка в кои-то веки приехала навестить родителей, выкроив время в перерыве между сессиями. Погостив четыре денька в деревне, она вновь умчалась в любимую столицу, помахав на прощанье престарелым родителям из окна «Жигулей», на которых за ней приехал ее друг («Только друг!» – уточнила она). После себя Верочка оставила батарею консервов для матери, а для отца – мужской костюм, приобретенный не где-нибудь, а в ГУМе, после пятичасового стояния в очереди. Костюм был черный, трех элементов, из модного кримплена. К нему заботливая дочь сумела раздобыть даже нейлоновую сорочку кипельно-белого цвета.
– Зачем он мне? – попытался было сопротивляться отец, но дочка объяснила, что костюм нужен обязательно, а если торжество?
– Да какие у нас торжества, дочка!
– Да мало ли какие! Бросишься, а надеть нечего. У мамы хоть платья есть, а у тебя? Вон ты даже на вашей свадьбе в рубахе одной был, – она кивнула на фотографию в рамке на стене. – Нельзя так, у каждого мужчины должен быть костюм к случаю, и точка! – сказала как отрезала.
Пришлось подарок принимать, и Михал Иваныч повесил костюм в шкаф.
Как и предрекала дочка, случай скоро представился. У соседей женился сын. Свадьбу собирались играть добротную, на шестьдесят с лишним человек. Думать, что надеть долго не пришлось: за лакированными створками шкафа томился в ожидании костюм. Михал Иваныч с утра отпахал в поле и к вечеру загнал старенький трактор на задний двор.
– Готова, что ли? – спросил он жену, переступив порог.
– А что мне готовиться! – буркнула жена, тоже утомившаяся после тяжелого рабочего дня. – Всю жизнь друг друга знаем, еще чего, выряжаться я буду! Посидим немного, да вернемся.
Михал Иваныч оглядел жену: одета просто, в сарафан с накидкой, да косынку. «Куда я со своим костюмом! Буду как клоун в цирке!» – как подумал, так и сделал. Пошли в гости в чем были, по-простому, по-деревенски. Так и отгуляли соседскую свадьбу.
Прошло еще некоторое время. Жадная на события деревенская жизнь не подкидывала поводов для того, чтобы достать из шкафа подарок дочери. Проходили дни, месяцы. Иногда Михал Иваныч вспоминал о костюме, и практичное сердце его екало от непригодности подарка. «Лучше бы мясорубку привезла, и то больше пользы», – с досадой думал он, глядя на черное великолепие. На Пасху приехала дочка и обиделась, узнав, что подарок так и не пришелся ко двору.
– Ты бы хоть померил его, как сидит? – но ее намеки не возымели должного действия. Бежали трудолюбивые деревенские годы, и редкие праздники отлетали, как листы календаря, а костюм продолжал висеть, так ни разу не надетый. Он был слишком не к месту 23 февраля, слишком вычурным на Новый год, чрезмерно нарядным на Первомай. Так и висел бы он ненадеванным еще много лет, да так получилось, что под Старый новый год остановилось у Михал Ивановича сердце. Прямо во сне. Похороны, как водится, назначили через три дня. В доме собрались все жители деревни, приехали дочери, кто откуда, и старшая, Верочка, – раньше всех. Сидели возле гроба, стоявшего в центре комнаты на стульях, плакали и грустили по ушедшей на покой душе. В комнату заходили сочувствующие: соседи, друзья, дальние родственники.
– Ты гляди, какой красивый, как живой! – вздохнула соседка покойного.
– А костюм-то! – шепотом на ухо ей откликнулась другая.
И вправду: дочка с размером не ошиблась. Костюм сидел на Михал Иваныче как влитой.
Трудно носить гриву
Израненного, его с трудом нашли на тысячеакровых, иссушенных солнцем просторах. Еще немного, и бархатная шкура навсегда стала бы частью пейзажа. Но ему повезло, и он очнулся, окруженный спасателями, возле миски с водой и в непосредственной близости от столь необходимых медикаментов.
Надвигался вечер. В этих суровых условиях жизни вечер не наступал, он надвигался. И нигде больше живые существа так не радуются возможности увидеть новый день, как в этих жарких, неприветливых краях. Служитель приюта пришла к его клетке вечером:
– Какая у тебя прекрасная грива! Такая густая, – прошептала девушка, гладя жесткую шерсть. – Трудно, наверное, носить такую.
Он не ответил ей. Он не мог рассказать, как в сезон дождей она становится вдвое тяжелей обычного и не высыхает неделями, а твоей, измученной охотой, львице так нужен теплый, сухой уют.
Как в пожарах она опаляется и, запекаясь, превращает тебя из короля прерий в обычную кошку. И ты слышишь мерзкое хихиканье гиен за спиной, как тогда, когда оступился на осыпающемся камне.
Насытившись, ничего им не оставишь, и они проклянут тебя в спину за обглоданные кости твоей собственной добычи. А оставишь кусок, прикончат его в мгновение, и уже смотрят на тот, что ты отложил на черный день: какой жирный!
Не трудно стареть, тяжело видеть в отражении, как шерсть твоя темнеет день ото дня, и все больше животных подходит к водопою без страха. Умирать не страшно. Страшно быть слабым в своре слабых.
Трудно ли носить гриву? Сколько бы шерсти не было у тех, кто окружает тебя, каждый в ночи шепнёт: ему теплее. А стоит ей поредеть, как они вцепляются в оголенные куски плоти.
Нет, носить гриву не трудно. Трудно носить ее не снимая.
Доска
Я никогда не интересовался шахматами. Однако судьба моя решила исправить этот недочет самым любопытным образом. Это была обычная деловая поездка, которая привела меня, молодого финансиста на пике своей карьеры, в Индию. Завершив намеченные дела раньше срока, я решил не терять времени даром и написал своему бывшему однокурснику, Аравинде Рачапалли. Он тут же ответил и был несказанно счастлив получить от меня весточку. Я тоже, признаться, был рад встретиться с ним вновь после долгих лет разлуки, ведь во времена учебы нас связывали крепкие дружеские отношения. Назавтра я должен был лететь домой, в Нью-Йорк, а сегодняшний вечер хотел провести в праздном шатании по улицам Дели. Однако у моего товарища были другие планы.
Насколько я мог помнить, шахматами Аравинда не просто интересовался, он их боготворил.
Он не пропускал ни одной теле-трансляции турниров и чемпионатов по шахматам и досконально знал биографии всех выдающихся мировых гроссмейстеров. Поэтому я не удивился, когда, прикончив ужин и допив чай масала, он поднялся и сказал, что теперь нам предстоит нечто интересное. Разумеется, действовал он в интересах скорее своих, нежели моих; как я уже упомянул, от игры в шахматы меня отделяла целая пропасть. Тем не менее я последовал за своим другом, и вскоре мы оказались в просторном зале, где шла безмолвная, но, по всей видимости, ожесточенная борьба двух шахматистов. Мы легко нашли себе место: зрителей в этом, достаточно душном помещении было не так уж много.
Вскоре я заскучал. Ходы совершались не так уж споро, каждый из противников тратил много времени на обдумывание следующего хода, не заботясь о времени тех, кто следил за игрой в зрительном зале. Но мой друг был иного мнения и наслаждался каждой минутой действа. Глаза его горели, и он не отрывал взгляда от экрана, транслирующего увеличенную версию шахматной доски. Он не обращал никакого внимания на меня, и я вскоре задремал: долгий, жаркий день и усталость сделали свое дело. Но тут Аравинда, наконец, вспомнил обо мне. Он подтолкнул меня локтем и лукаво произнес, кивая на сцену:
– Как думаешь, как он стал чемпионом?
Я обозрел белокурого американского гроссмейстера, на которого указывал мой друг. Он показался мне нервным и даже раздраженным. Хотя, быть может, это было мое самоощущение, и оттого я увидел его таким? Я ответил:
– Возможно, он занимается шахматами с детства? – развивать эту тему у меня не было особого желания, я все больше хотел вернуться в отель и хорошенько отоспаться перед отъездом.
– Я расскажу тебе, как Джим стал таким хорошим игроком, – и мне ничего не оставалось, как послушать эту историю.
– Этот американский гражданин приехал в Индию много лет назад, – начал свой рассказ Аравинда. – Как ты сейчас. Только ты приехал по работе и скоро уедешь, а он приехал сюда, потому что Индия его позвала, – я скептически ухмыльнулся. Много раз я слышал подобные истории о том, что Индия зовет или отвергает путешественников, словно страна эта была строптивой девицей. Тем не менее я продолжил слушать.
– Он путешествовал по Индии и познавал мудрость волшебных мест моей страны. Но не все люди были добры к нему в его путешествии. Как-то раз он познакомился с хорошо одетым мужчиной, ехавшим с ним в автобусе дальнего следствия. И тот угостил его водой. Он вскрыл бутылку прямо перед Джимом и предложил отпить. Конечно, тот так и сделал, не станешь же обижать только что приобретенного знакомого! Тем более, бутылка была запечатана. Ты же пьешь только из запечатанных бутылок? – я кивнул.
– Джим сделал всего один глоток и сразу же понял, что в воде отрава. Он стал терять сознание и только успел прошептать: «Мерзавец!»
Когда он очнулся, а слава богам, он остался жив, то не нашел при себе ничего ценного из того, что имел. Его документы, деньги и личные вещи пропали. Но он, как опытный путешественник, не расстроился по этому поводу. Больше всего его потрясла потеря шахматной доски, которая была в сумке. Она была памятной: на ее обратной стороне оставили свои подписи и пожелания все, с кем Джим когда-то играл в шахматы. Говорят, его лучший друг расписался на ней незадолго до того, как умер от тяжелой болезни.
– Доску больше не нашли? – спросил я, с удивлением уловив в своем голосе нотки тревоги. Теперь напряженность американского игрока становилась чуть более понятной.
– Нет, конечно же нет. Если вещь пропадает в Индии, она редко, очень редко находится. Почти никогда. Но… – с улыбкой произнес он, и я взглянул на него с интересом. – Ее все еще ищут. Я начал свой рассказ с того, что спросил у тебя: как, по твоему мнению, этот человек научился так хорошо играть в шахматы. А ты ответил, что он играл с детства. Однако это не так. Да, он умел играть в шахматы, но до определенного времени это был обычный игрок, не лучше и не хуже многих других посредственностей. Что же произошло, что он стал чемпионом?
– И что же произошло? – сон окончательно слетел с меня, я был весь внимание. Благо, негромкий гул окружавших нас зрителей позволял спокойно продолжить нашу беседу.
– А произошло вот что. Если какой-нибудь другой путешественник потеряет свои личные вещи, он пойдет в полицию. Но только не Джим. Ему было плевать на личные вещи и на документы. Он хотел лишь одного – получить назад свою шахматную доску. Не знаю, чем она была ему так дорога, возможно, на ней остался поцелуй его возлюбленной, или его сердце ранила память о лучшем друге, может, это было лишь дело принципа. Как бы то ни было, он вознамерился отыскать доску во что бы то ни стало.
– И как он собирался это сделать? Индия – огромная страна!
– Его это не смущало. Когда у тебя много времени и есть цель, полагаю… Жизнь не так уж коротка… Так вот. Он приобрел цель. Остается лишь найти средства. Что может сделать простой путешественник, если у него нет связей, если он не знает всех и каждого? Остается только одно – идти по следу. Туда, где играют в шахматы. И с того дня смыслом его жизни стал поиск своей доски. Он стал ездить из города в город, из деревни в деревню. Он спрашивал у местных, где играют в шахматы, и шел туда, одержимый своей идеей. Ему приходилось играть на разных досках, и многие из них совершенно не были похожи на его собственную, но он не мог просто развернуться и уйти, чтобы не подорвать доверие, столь необходимое для дальнейших поисков. И ему приходилось играть. Играть на улице, в кафе и подворотнях, на вокзалах и в публичных домах, подвалах и чердаках. Везде, где были шахматные доски, туда шел Джим, как отвергнутый любовник за предметом своей страсти. И когда случалось так, что играть ему приходилось на доске, похожей на его собственную, он не мог просто подойти и перевернуть ее, ведь это было бы огромным неуважением к ее владельцу. Поэтому он должен был вначале очистить доску от шахматных фигур, «съесть» их, чтобы иметь возможность поглядеть на ее обратную сторону. Да, ему приходилось выигрывать. Он призывал на помощь все свои способности, чтобы выиграть партию. А в Индии очень много сильных соперников, ведь это в нашей стране была изобретена эта игра. И вскоре это настолько вошло у него в привычку…
– Переворачивать доску?
– Да, переворачивать доску после каждой выигранной партии. Он настолько привык это делать, что это стало его отличительной чертой. Он стал переворачивать теперь уже все доски, вне зависимости от того, были они похожи на его собственную или нет. Его странная особенность и постоянные выигрыши снискали ему славу, и теперь уже игроки сами искали встречи с чудаковатым американцем, переворачивающим доску после каждой сыгранной партии. Конечно, они не знали причины этой странной привычки, ими двигал азарт, чего не скажешь о Джиме, которым руководил холодный расчет. Из года в год он играл все лучше, оттачивая свое мастерство, превращаясь в филигранного игрока, а в конечном итоге, в чемпиона. Но, мне кажется, он так и не оценил, что, сам того не ожидая, превратился в величайшего игрока. Взгляни, партия окончена, – воскликнул Аравинда.
– Неужели он…? – спросил было я. Да, я угадал. Защелкали фотоаппараты, и противники встали, пожав друг другу руки. На почти свободной доске одиноко стояли фигуры, которые Джим аккуратно убрал, а затем перевернул доску, бросив быстрый, ничего не ожидающий взгляд на заднюю ее часть.
– Теперь он делает так всегда. Организаторы чемпионатов просят его подождать, чтобы фотографы запечатлели финальное расположение фигур, но привычка, сам понимаешь…
Раздались аплодисменты, игра была окончена, Джим снова одержал победу.
– Но сколько он будет искать свою доску, и неужели никто, зная эту историю, не помог ему с поисками?
– Индия, как ты уже сказал, – огромная страна, и в ней бесследно исчезали вещи гораздо важнее какой-то шахматной доски.
Мы вышли на улицу и на прощанье пожали друг другу руки. Я был благодарен Аравинде за этот вечер и за историю о человеке, который обрел свое мастерство таким любопытным образом, словно получив его взамен чего-то ценного, с чем пришлось попрощаться. Сумел ли он оценить свой дар? Я не мог знать этого. Все это приключение виделось мне лишь прихотью Вселенной, которая просто не знала иной возможности обнаружить гения в случайном пассажире автобуса, мчавшегося в далекие края. Не послала ли она этого негодяя, едва не лишившего жизни другого человека, только лишь затем, чтобы на небосводе талантов зажглась еще одна звезда?