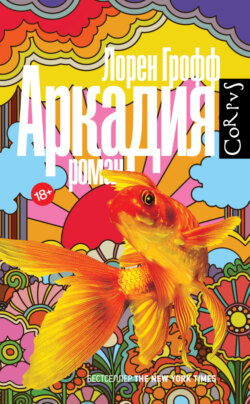Читать книгу Аркадия - Лорен Грофф - Страница 3
Город Солнца
ОглавлениеКрох проснулся уже в движении. Сейчас февраль, еще темно. Ему пять лет. Отец застегивает молнию на своей куртке поверх Кроха, Крох внутри, там теплее всего, и сердце Эйба стучится прямо ему в ухо. Мальчик задремывает, пока они спускаются от Хлебовозки, в которой живут, по мерзлой земле Эрзац-Аркадии. Грузовики, автобусы и навесы чернеют на фоне ночного неба, их пристанища, пока они не достроят когда-нибудь в смутном будущем свой Аркадия-дом.
Гонг сзывает их на воскресное утреннее собрание, куда-то. Народ струйками стекается в темноте. Доносится запах хлеба, который испекла мать. Ветер несет холод от Великого озера, что лежит севернее от них. Слышно, как шуршит, просыпаясь, лес. В воздухе возбуждение и тихие, ласковые приветствия; легкий снежок, дымок чьей-то затяжки, женские неразличимые голоса.
Когда Крох снова размыкает глаза, мир вокруг уже умягчен рассветом. Вихры стожков торчат над утоптанным снегом. Они на Овечьем лугу, и людские тела вокруг все ближе, сбираются в толпу. Голос Хэнди за спиной Кроха доносится до всей Аркадии, до семи дюжин истинно верующих в зимнее утро. Крох выворачивается, чтобы глянуть на Хэнди, сидящего у самого леса среди темно-бордовых завитков ранней скунсовой капусты, а потом разворачивается назад, прижимается щекой к пульсирующей шее отца.
Крох – крошечный, не мальчик, а мошка. Его часто подхватывают на руки и несут. Он не против. Под покровом надежной силы взрослых ты невидим. Можно наблюдать, что происходит вокруг, и слушать.
За плечом Эйба, далеко на вершине холма, маячит кирпичная тень Аркадия-дома. На ветру брезент над прогнившей крышей прижимается к ребрам-балкам, раздувается, как брюхо зверя, которому тяжко дышать. Наполовину застекленные окна – это открытые рты, застекленные полностью – глаза, уставившиеся на Кроха. Он отводит взгляд. Позади Эйба в инвалидном кресле сидит старик, отец Мидж, мастак скатиться с холма, распугивая играющих на склоне детей. Кроха снова накрывает испуг. Ощущение угрозы и скрип, вспышка беззубого рта и флаг с серпом и молотом, реющий, проносясь мимо. “Прыткий Старпёр”, зовет старика Ханна и кривит губы. “Сионист”, кличут его другие, потому что это то, что он выкрикивает после заката: Сион, молоко и мед, земля изобилия, место отдохновения для его народа. Однажды вечером, наслушавшись его воплей, Крох сказал: Разве этот Старпёр не знает, где он сейчас? Эйб, озадаченно глянув на Кроха, который возился со своими деревянными кубиками, спросил: И где же? – и Крох ответил: В Аркадии, вот где, – вкладывая в слово “Аркадия” то, что вкладывал в него круглоликий, как Будда, Хэнди, когда гладкими фразами настраивал сообщество так, чтобы и другие смогли узреть перед собой поля, изобильные плодами и злаками, солнечным светом и музыкой, заботливым людом, любовью.
Но в это холодное утро Прыткий Старпёр уж слишком мал и скукожен, чтобы его бояться. Он дремлет под клетчатым одеялом, которым укрыла его Мидж. На нем охотничья шапка с опущенными ушами. Он посвистывает носом, из носа вырывается пар, и Крох думает о чайнике на плите. Голос Хэнди омывает его: …в работе, как и в удовольствиях, разнообразие, надо думать, является задумкой природы… – слова эти слишком весомы, неподъемны для мягких ног утра. По мере того как рассвет обостряет все очертания, Прыткий Старпёр вырисовывается все лучше. Нос его в сетке сосудов, тени прорезают лицо. Он просыпается, хмуро смотрит на Кроха, возится со своими руками, получше устраивая их на коленях.
…Бог, говорит Хэнди, это негасимая искра, что хранится в каждом человеческом сердце, в каждом комочке земли. В этом камешке, в этой льдинке, в этом растении, в этой птице. Все заслуживает нашей доброты.
Лицо старика меняется. Удивление крадется по его дряхлым, заиндевелым чертам. Пораженный Крох не может от него оторваться. Глаза, моргнув, раскрываются и замирают. Крох ждет, когда утесистый нос испустит следующее облачко пара. Этого не происходит, и в груди Кроха что-то смыкается в комок. Он поднимает голову с плеча Эйба. Вокруг губ старика медленно разливается пурпур; глазные яблоки заволакивает туманом и льдом. В его тело прокрадывается тишь.
Позади Кроха Хэнди рассказывает о музыкальном туре, в который он отправится через несколько дней, чтобы разнести по свету весть об Аркадии. …меня не будет тут с пару месяцев, но я верю в вас, Свободные Люди. Я ваш гуру, ваш Учитель, но не ваш Лидер. Потому что, когда у вас хороший Учитель, вы сами себе Лидеры… и люди вокруг Кроха посмеиваются, и где-то попискивает малышка Пух, и рука Ханны появляется сбоку, чтобы поправить шапку на Крохе, которая наполовину сползла, так что одно ухо у него замерзло.
Хэнди говорит: Помните об основах нашего сообщества. Давайте произнесем их все вместе. Раздаются голоса: Равенство, Любовь, Труд, Отзывчивость к Потребностям Каждого.
Вскипает песня. Споем песню, полную веры, которой научило нас темное прошлое, поют они. Эйб под Крохом притаптывает в ритм. Споем песню, полную надежды, которую принесло нам настоящее; встретим солнце нашего нового дня… так песня заканчивается.
Тишина. Вдох. От великого Ом, вознесшегося над собранием Свободных Людей, взлетают с крыши Аркадия-дома испуганные вороны. Над всеми ними расцветает восход.
Он прекрасен так безупречно, что красив даже старик, его борода синеет под новообретенным сиянием щек, очертания челюсти мягкие, пучки волос в ушах тронуты золотом. Он облагорожен живым светом. Исправлен.
Последний голос замолк, и как раз перед тем, как Хэнди сказал: Спасибо, друзья мои, Мидж кладет руку на плечо отца. Затем стягивает перчатку, прижимает голую ладонь к щеке старика. И в то время как аркадцы ходят туда-сюда, братаются, обнимаются, обмениваются позитивной энергией, голос Мидж прорывается сквозь общий шум. Отец? – тихонько зовет она. И еще, громче: Отец?
* * *
И не в скорости дело, с которой Ханна хватает Кроха и несет домой в Хлебовозку, и не в том, что Эйб не идет с ними, а остается, чтобы помочь Мидж. И не в особом лакомстве, добавке сушеной черники в кашу, и не в Ханне, которая молча стоит у окна и дует на свой зеленый чай. И даже не в том, что говорит Эйб, когда входит: Кармическая энергия соединилась с эфиром, или: Это естественный цикл жизни, или: Все умирают, Ридли, милый. Эйб очень старается объяснить, но Крох так и не понимает. Он видел, как старик стал красивым. Его изумляют озабоченные лица родителей.
Печаль, которую они испытывают, начинает проясняться только тогда, когда Ханна после завтрака роняет грязные тарелки на стол и разражается слезами. Она бежит через Двор к Розовому Дударю, искать утешения у повитух Астрид и Мэрилин.
Эйб натянуто улыбается. Все в порядке, малыш Крох, с твоей мамой, говорит он. Просто то, что случилось сегодня утром, задело ее за живое, потому что и у ее папы дела сейчас не ахти.
Тут Крох чувствует, что сказанное отдает серой лжи. Началось не сегодня, Ханна уже какое-то время сама не своя. Крох позволяет неправде развеяться и унестись прочь.
Папа Ханны, который живет в Луисвилле? – спрашивает он. Осенью дедушка с бабушкой приезжали, толстый дядька в шляпе пирожком, с плоской тульей и загнутыми краями, и беспокойная пыхтящая тетя, вся в розовом. Кроха потискали и оценили: Такой крошечный, пропыхтела тетя, ему и трех-то не дашь, не то что пяти! Они всё поглядывали на него искоса, и Ханна сказала, сдерживаясь изо всех сил: О боже, мама, он не отсталый, с ним все в порядке, он просто маленький очень. Потом ели, и розовая тетя к еде не притронулась, а то и дело подносила к глазам платок. Потом все рассорились, и жирный с пыхтелкой уехали.
На то, как они уезжают, Ханна смотрела, сверкая злыми слезами. Да сгниют они в своем буржуазном капиталистском аду, сказала она. Эйб ответил ей что-то, посмеиваясь, и чуть спустя ожесточение сошло у нее с лица, и, хоть и нехотя, она рассмеялась тоже.
И сейчас Эйб ему ответил: Да, твой луисвилльский дед. Он очень болен. Твоя бабушка хочет, чтобы мама приехала к ним, но Ханна не поедет. Как ни верти, нам никак без нее не справиться.
Из-за Секрета, да? – говорит Крох. Уже с месяц все шепчутся про Секрет, с тех самых пор, как Хэнди объявил, что отправится в музыкальное турне. Пока Хэнди не будет, они достроят Аркадия-дом, чтобы все переехали туда из Эрзац-Аркадии, этого скопища автобусов, ангаров и навесов, и наконец смогли жить вместе. Они готовились к этому целых три года, с тех пор как купили землю и нашли дом, только голод и тяжелая работа мешали. Аркадия-дом станет подарком Хэнди, когда тот вернется.
Эйб прищуривается и, двинув губами, показывает в рыжей бороде крепкие зубы. Что ж это за секрет, если даже малышня его знает.
Они играют в карты, в “рыбка, плыви”, и ждут Ханну. Та приходит зареванная, но уже поспокойней, и рассказывает, что Астрид и Мэрилин вызвали принимать роды в соседнее поселение, к амишам[1]. Вместо приветствия Ханна вжимает щеку в изгиб шеи Эйба, а Кроха нежно целует в лоб. Как вздох дыханием, жизнь становится жизнью. Ханна принимается за растопку дровяной печки. Эйб заделывает щель в том месте, где он пристроил к Хлебовозке навес, в нее сквозит. Они ужинают, потом Эйб играет на губной гармонике, а когда наступает ночь, все трое укладываются набок тесным рядком на тюфяке, и Крох спит, как сердцевинка ореха пекан в скорлупе из родителей.
* * *
Лес темный, дремучий и выталкивает Кроха с такой силой, что тот поневоле бежит от корявых стволов, от стонов ветра в ветках. Мать просит его быть на виду, но он все равно бежит, и когда выбегает на поляну у Сторожки, его лицо стянуто холодом.
Титус, рябой, огромный, отворяет ему калитку. Титус кажется старым, даже постарше Хэнди, потому что его ранили во Вьетнаме. Крох Титуса обожает. Титус зовет Кроха “мальчик-с-пальчик”, поднимает, усадив на ладонь, и даже порой тайком приносит ему снаружи всякие сласти – то розовое кокосовое пирожное в целлофане, то мятные леденцы, похожие на налитые кровью глаза, – несмотря на запрет на сахар и на тот вред, который, несомненно, наносят животным, когда изготовляют продукт. Крох верит, что послевкусие от сластей – это то, каков на вкус мир за пределом Аркадии. Титус и сейчас сует ему ириску в мятой желтой обертке и подмигивает, а Крох, сглотнув слюну, на мгновение прижимается лицом к засаленным джинсам своего друга и уж потом спешит дальше.
Вся Аркадия собралась на мерзлой дороге, попрощаться. Хэнди в позе лотоса сидит на носу Синего автобуса с четырьмя своими белокурыми детьми: Эриком, Лейфом, Хелли и Айком. Его главная жена, Астрид, высокая, седовласая, смотрит на них снизу вверх. Сняв с себя пеньковое ожерелье, она повязывает его на шею Хэнди и целует его повыше третьего глаза. Перекрикивая рев двигателя, радио жарит забористую в стиле кантри песню. Другая жена Хэнди, Лайла, она носит в черных волосах перья, сидит с тощим маленьким Иеро, ее другим мужем. Отъезжающие обнимаются с теми, кто остается дома, и затаскивают свои вещи в автобус, затем Хэнди передает детей вниз: Айк на несколько дюймов выше Кроха, хотя на год младше; Хелле беспокойная, как ее папаша; Лейф всегда злой; толстый Эрик сам соскальзывает на землю, падает на коленки и изо всех сил старается не заплакать.
На крыльце Сторожки ссорятся раскрасневшиеся Уэллс и Кэролайн. Джинси, подружка Кроха, смотрит то на одного родителя, то на другого. Хотя ветер треплет ей кудри в десять сторон сразу, лицо у нее бледное и застылое.
От тропинки доносится сладкий звон колокольчиков, голоса. Из ниоткуда меж ветвей появляются шарообразные, кивающие головы великанов. У Кроха живот сводит от удовольствия. На дорогу выходят “Певцы Сирсе́нсиз”, Ганс и Фриц, Саммер и Козел Билли, в белых балахонах, с куклами Адама и Евы в руках. Адам и Ева – новоиспеченные существа, голые, огромные, с набухшими багровыми пиписьками. “Сирсенсиз” значит “зрелища” из латинского изречения “хлеба и зрелищ”. “Певцы зрелищ” по выходным выходят на акции протеста и митинги, ставят концертные номера, а порой устраивают еще и перформансы. Теперь люди в белых одеждах, вихляясь туда-сюда, поют под витающими над ними жуткими, великанскими тушами.
Они закончили, им жарко хлопают, и они запихивают своих великанов в кузов “фольксваген-фургона”.
Пока-пока-пока-пока, кричит смуглый маленький Дилан, сидя у Лисоньки на руках. Крох бежит к своему другу Колтрейну, который лупит палкой по схваченной льдом луже. Коул передает палку Кроху, тот тоже лупит, а затем передает палку брату Коула, Дилану, и Дилан упоенно ею размахивает.
Имбирная Иден, беременная, с большущим животом, разбивает бутылку шипучки о капот Синего автобуса и, выпрямившись, потирает себе спину. У нее медные волосы и белые зубы, которые блестят до того ярко, что Кроху хочется поплясать.
Хэнди кричит, что они вернутся до весенней посевной, Свободные Люди отзываются громким “ура!”, и Тарзан протягивает уезжающим сумку-холодильник с пивом – чтобы ее купить, парням из Гаража пришлось загнать один двигатель. Астрид надолго приникает к красивым губам Лайлы, и Иеро приникает, а потом соскальзывает на землю, и другие тоже, подружки и жены, целуются-обнимаются с теми, кто в окнах, а затем мотор набирает обороты, и автобус трогает в сторону Выездной дороги. Все ликуют, а кое-кто плачет. В Аркадии люди все время плачут. А другие, смеясь, выделывают смешные танцевальные па.
Хелле бредет за автобусом, спотыкаясь, и рыдает по отцу. Вечно она в слезах, большеголовое, странное на вид дитя, вечно скулит. Астрид подхватывает Хелле на руки, та подвывает, уткнувшись матери в грудь. Звук автобуса смягчается, фильтруется расстоянием. Все, что они слышат, в тишине вдвойне громко: ветви потрескивают облепившим их льдом, ветер наждачной бумагой скребет по поверхности снега, хлопают натянутые на крыльце Сторожки молитвенные флажки, по мерзлой грязи поскрипывают резиновые сапоги.
* * *
Когда Крох оборачивается, все глядят на его отца.
Эйб ухмыляется им, тем, кто не музыкант, их тут четыре дюжины, оставшихся позади. На вид маловато. Порядок, друзья, кричит им Эйб. Ну что, готовы вы поработать так, чтобы ваши кости сносились в опилки и черепки?
Да, кричат они. Крох подходит к Ханне, прислоняется головой к ее бедру. Она заслоняет от ветра и греет ему лицо своим теплом.
Гараж, готовы вы двинуть в дебри Нью-Йорка? Рыться в помойках, красть, сдавать сперму и кровь, чтобы купить то, что нам нужно?
Черт, да! – кричит Арахис, а за его спиной вскидывают кулаки Вандер-Билл и Тарзан.
Женщины, готовы ли вы убирать, мыть, скрести, оттирать, следить за детьми, управлять Пекарней и Соевым цехом, стирать, готовить, колоть дрова – в общем, делать все то обыденное, что нужно, чтобы нам, Свободным Людям, достало сил закончить эту работу?
Женщины отвечают согласием, но Астрид высоко над головой Кроха бормочет Ханне на своем странном наречии: Как будто мы и так этого не делаем! Крох отводит взгляд. Когда Астрид говорит, становятся видны ее зубы, такие желтые и кривые, что ему кажется, он видит то, что чужим видеть не полагается.
А вы, брюхатые дамы Курятника, готовы ли вы шить занавески и плести коврики, чтобы в комнатах стало уютно и по-домашнему? Рассеянное “да” там и тут, Куры захвачены врасплох и не возражают. У кого-то младенец заплакал.
А вы, парни, кричит Эйб, готовы ли вы впахивать в старом доме, где холодно и воняет, и довести до ума водопровод, крышу и прочее? Мужчины вопят и улюлюкают.
Лицо Эйба становится серьезным; он поднимает руку. Еще только одно, котята мои и цыплята. Я знаю, что у нас тут никакой иерархии и все такое, но поскольку у меня диплом инженера, а Иеро много лет оттрубил прорабом на стройке, мы подумали, что ответственность возьмем на себя, идет? И при том, что боссы мы здесь, что называется, соломенные, все-таки, если у вас вдруг возникнет идея, как что сделать получше, дайте нам знать. Обговорите все с нами, ладно, прежде чем проявите инициативу и за что-то возьметесь, – ну, чтобы потом не тратить силы и деньги, самим же не переделывать. Что ж, теперь все, с речами покончено. У нас с вами сегодня есть еще добрых четыре часа дневного света – и на все про все три месяца, чтобы привести в полный порядок развалины того, что построено было в девятнадцатом веке. То ли сиротский приют там был, то ли что… В общем, битники, поднимаем наши классные задницы – и вперед!
Крик, рывок, люди устремляются вверх по заледенелой дороге с милю длиной. Они смеются, им тепло, они полны решимости действовать. В последний раз, когда Крох был в Аркадия-доме, он заметил там деревце, что выросло в ванне на когтистых лапах, а в прорехи в крыше виднелось солнце и летучие облака. Как чудесно будет иметь законченный дом, уютный и теплый. Если спать в гнезде из двух родителей – это счастье, только представить, каково спать с восьмьюдесятью! Дети носятся между ног взрослых, пока Лисонька не взялась собрать их и кратчайшим путем повести играть к Дударю.
Чувствуя, что что-то не так, Крох отстает и оборачивается назад.
Ханна стоит одна у ворот. Земля вокруг нее истоптана в грязь. Крох слышит тихий птичий зов. Он идет обратно, к матери. Вот он уже почти добрался до нее, а она по-прежнему маленькая, и тогда он бежит. Она ссутулилась, сгорбилась в старом свитере Эйба, дрожит. Лицо ее обращено внутрь себя, и хотя он знает, что ей двадцать четыре, выглядит она не старше Эрика, не старше Джинси, не старше самого Кроха. Он стягивает перчатку, чтобы вложить свою ладошку в ее. Пальцы у нее ледяные.
Почувствовав его руку, она улыбается ему с высоты, и он снова узнает в этой съежившейся женщине свою мать. Все в порядке, Крох, говорит она. Все хорошо.
* * *
Налетает снежная буря. Кроху снится, что вокруг Хлебовозки кружат огромные голодные волки. Глаза их сверкают красным огнем. Они воют, скребутся в дверь. От страха он просыпается. Он зовет мать, но именно Эйб берет его на руки, показывает ему в окно расстилаемые ветром белые простыни, неисхоженные сугробы. Эйб разогревает соевое молоко и, как начинку в лепешку, заворачивает Кроха в самое мягкое из одеял. Пытаясь его убаюкать, Эйб рассказывает, как он родился, историю, которую Крох знает уже назубок. Легенду о Крохе Стоуне, первом камне в истории Аркадии, еще одну из тех, что пересказываются так часто, что принадлежит всем. Девочки из тех, что постарше, играют в это у Розового Дударя, выделяя роль Кроха самому маленькому.
Ты родился в пути, тихо толкует Эйб, когда мы были стайкой фанатов, всюду следовали за Хэнди, жаждали духовного окормления. Дюжины две нас было, не больше. На концерты его ходили, а после оставались поговорить. Коммун тогда было много, некоторые из них работали, другие нет. Располагались они в юртах, геокуполах, банях, в незаконно захваченных пустующих домах в бедных кварталах, и, в общем, у нас появилась мысль, что хотя другие делают что-то вроде, то, что хотим сделать мы, это что-то особое. Оно чище. Жить вместе с землей, а не на ней. За пределами зла купли-продажи. Выстроить свою жизнь с чистого листа. Пусть любовь наша станет маяком и осветит мир.
Как бы то ни было, а Хэнди в те дни был единственным из нас, у кого имелись хоть какие-то познания в медицине, он набрался этому у одного корейского врачевателя, и вот он считал, что Ханна на пятом месяце беременности, потому что огромной она не была. И вот едем мы по горам, добираясь из Орегона в Боулдер, и налетает вдруг снежная буря, к ветровому стеклу липнут хлопья снега размером с тарелку, и, кто бы сомневался, именно этот момент Ханна выбрала, чтобы разродиться.
Мы ехали в том фольксвагене, который “автодом на колесах”, Гараж сейчас выдает его для поездок в город. Я оборудовал его печкой и всем прочим, очень неплохо, но все-таки это маленькая машина, и на узких горных перевалах мы застревали в самом конце очереди. Я знал, что нужно быть там, где Хэнди, потому что чертовски хорошо отдавал себе отчет в том, что понятия не имею, как принимать младенцев, доваренных или нет. И вот мы двинули, пердя мимо всех по левой полосе, и всем бы нам был каюк, двинь кто-нибудь нам навстречу.
Наконец догнали мы Розовый Дударь, и я торможу весь зоопарк. Поворачиваю на указателе с надписью “Ридли, Вайоминг, население пять тыщ с чем-то”, с мыслью, что должна же быть там больница, но указатель залеплен снегом, и, конечно же, сворачиваю я не туда. Едем и едем, дальше и дальше, миля за милей, вот уже стемнело совсем. Наконец мы видим огни и останавливаемся. Караван размещается вокруг нас и Дударя, чтобы защитить от ветра, дверь открывается, и какой-то снежный человек врывается внутрь. Я-то ожидал, что увижу Хэнди, но знаешь, кто это был? Астрид.
Хэнди мерещатся лица на потолке, сказала она. (Эйб произносит это, подражая норвежскому говору Астрид, и Крох хихикает.) Он только что слопал три таблетки мескалина. Но у меня докторская степень по викторианской литературе, и у самой трое детей. Что такое родовспоможение, я знаю.
Родовспоможение, надо ж так сказануть. По мне, так она вполне могла иметь в виду лечение пиявками, но я-то знаю еще меньше ее, и поэтому я сказал: конечно, валяй. Итак, мы все раздеваемся догола, потому что это природно, и Астрид начинает распоряжаться: Подогрей воду! Прокипяти ножи! Найди чистые полотенца! Но стоило мне поставить на плитку воду, как Ханна вдруг отключилась, и ты выскочил на свет, весь в крови, плюх, и все. Я прямо очумел. Ты был такой малюпусенький, с яблочко, и едва-едва шевелился. Даже заплакать не мог, слишком слабые легкие. Но Астрид вымыла тебя и положила на грудь твоей матери, и у тебя была эта твоя жадность к жизни, малыш, ты схватил ртом ее сосок, огромный леденец, размером с твой собственный ротик, и как начал сосать! Тут Астрид вскрикнула и наклонилась над йони[2] Ханны, потому что, угадай, что там было еще – послед.
Эйб делает паузу, рассеянно гладя Кроха по голове.
Этот послед Астрид заворачивает в батик, сует мне лопату, и я сквозь снегопад бреду к черному озеру, разгребаю на берегу замерзшую гальку, вырываю ямку в земле, все это там засыпаю, говорю слова благодарности и тащусь обратно.
Потом наступило утро, взошло солнце, и, скажу я тебе, утро было что надо. Замерзшее озеро озарилось так, что изнутри засияло, и лед у подножия расцвеченных пурпуром гор казался раскаленным свинцом, и в городе зазвонил церковный колокол, чтобы отпраздновать твое явление, наше чудо-дитя. Затем пришли горожане, с едой и хлебом, и, робея, возложили свои приношения на капот нашего фольксвагена. В то утро Астрид поняла, что нашла свое предназначение. Руки ее созданы для того, чтобы выманивать младенцев на свет. Ты – подарок, сказала она. В несколько слоев обернула она тебя толстым шерстяным шарфом, пошла в бакалейную лавку и взвесила. Ты весил ровно три фунта[3]. А величиной был с махонькую мускатную тыкву.
Старая бакалейщица из таких, знаешь, злющих немецких ведьм проклинала нас, длинноволосых, стоя над своими кривыми картофелинами и кочанами капусты, но и она, только взглянув на тебя, посветлела лицом, словно луч вырвался из ее рта. И она сказала: Ох, да это же самый крошечный хиппи из всех, рожденных людьми!
Вот как ты появился на свет, Ридли Соррел Стоун, названный в честь города, которого мы так и не увидели. Наш крошечный хиппи. Первая душа, зародившаяся в Аркадии. Наследник наших богатств, говорит Эйб, и глаза у него затуманиваются – а потом проясняются, и он зарывается носом в шею Кроха, отчего тому щекотно, и он смеется, сглаживая невидимую обиду, витающую в воздухе Хлебовозки, и смех его заставляет забыть красноглазых волков, вьюгу, усталость Ханны и то, что предстоит утро, полное тяжелой работы.
* * *
Первые несколько дней без Хэнди миру как-то не по себе. Хэнди сильно недостает плаксам и тем, у кого ломка, и всем рабочим бригадам недостает его ежедневных веселых шатаний вокруг, побуждающих к действию. Недостает его клочковатой седой бороды, его мелко мигающих глаз, постоянного бренчания его гитары, банджо и укулеле.
Несколько дней те, кто остался, ходят как по тонкому льду, и каждое второе слово, слетающее с их губ, это “Хэнди”. Потом наступает утро, когда Крох совсем о нем не думает, пока не спотыкается о малышку Пух, которая оказалась вдруг у него на пути. Крох падает, ссаживает кожу с рук и ждет, когда Хэнди спустится с Розового Дударя, поднимет его, глянет в самую глубину глаз, наберется космической энергии и скажет: Пустяки, малыш Крох, ты в порядке, чувак, ничего страшного не случилось. Боль – это способ твоего тела сказать тебе, что надо быть осторожней. Вместо этого милая Лисонька целует ему ладошки, промывает их холодной водой и накладывает повязку.
Эйб дает бригадам задания. Астрид сглаживает конфликты, назначая терапию объятиями или занятия йогой прямо во время работы, чтобы снять напряжение. Двое парней из палатки Одиночек, злившиеся друг на друга, после этих занятий за день сбили почти всю прогнившую штукатурку на втором этаже Аркадия-дома, что было признано настоящим подвигом, и теперь они лучшие друзья, так и ходят в обнимку. Музыка не так забориста, как при Хэнди, но все-таки она есть: магнитофоны, гитары и губные гармошки. Похоже на то, как будто все они краями себя вдвинулись в то пространство, где раньше был Хэнди, – так разные соусы растекаются по тарелке, смешиваясь, когда рис посередке съеден.
* * *
В полусне, поздно, Крох слышит, как Ханна бормочет: Ничего страшного. Я просто устала.
Ты уверена? Может, сделаем перерыв? Я уверен, что мы сможем наскрести и слинять…
Нет, бэби.
Шорох ткани, что-то прижимается к его ноге.
Кстати…
Эй, подожди. Прости, бэби, нет.
Сможем ли мы когда-нибудь, а? Как ты думаешь? Еще когда-нибудь снова?
Ну, просто… я бы предпочла не.
Хорошо, Бартлби[4].
Родители тихо смеются, а когда умолкают, наступает другая какая-то тишина. Крох слушает ее до тех пор, пока слух не притупляется, и уносит с собой в сон только звук поцелуя.
* * *
Подобно трактору, который рвется вперед, если нажать педаль газа, Аркадия переключается на высокую скорость. Кто-то запыхался навсегда, кто-то вечно бежит. Люди подолгу толкуют о древесной гнили и эпоксидной смоле. Посреди ночи раздается стук в дверь Хлебовозки, это Мусорщики вернулись из Сиракуз, Рочестера, Олбани, Ютики, где они доламывают заброшенные дома, вынося из них все пригодное. Утром Эйб насвистывает, поглаживая то замысловато-резную каминную полку, то раковину из мыльного камня, которые волшебным образом оказались вдруг во Дворе, рядом с Восьмиугольным амбаром. В нем кипят планы, он внезапно смеется, только сам зная чему, и его энергия распространяется на других, так что даже Кроху хочется подплясать.
Крох сочинил песню и напевает ее все время: реновелация, реновелация, почини, поставь заплатку, зачисти и покрась… реновелация.
Вечером, делая кесадильи с соевым сыром и луком, Эйб улыбается ему и говорит: Реновация, милый. Но Ханна, приобняв Кроха, шепчет: Я думаю, твое слово годится. Реновеллизация. Переосмысление сюжета нашей жизни, нашей истории. Мать поглаживает ему подбородок своими мягкими пальцами, и он смеется от счастья, что угодил ей.
* * *
Это утро. Ханна налила горячий кофе в термос Эйба, подала им на завтрак яичницу-болтунью и мягкий свежий тофу, желтый от пищевых дрожжей. Потом, позвякивая инструментами, свисающими с ремня, Эйб поднимается на холм, чтобы чинить Аркадия-дом, а Ханна идет работать в Пекарню.
Крох строит замок из деревянных кубиков с Лейфом и Коулом, когда видит, как Ханна бредет через Двор обратно и скрывается в Хлебовозке. Он ждет весь день, но она за ним не приходит. За окнами сгущаются сумерки. Над Двором в холодном воздухе звучат голоса мужчин и женщин, возвращающихся домой. В Семейных ангарах стоит гул, Розовый Дударь мчит детей в темноту, из палатки Одиночек доносятся запахи жареного лука и темпе[5], кто-то из младенцев, Нора или Тзиви, просыпается от плача малыша Фелипе и вторит ему. Двери открываются, двери хлопают, обитатели разномастных и обветшалых жилищ Эрзац-Аркадии перекрикиваются с соседями. Наконец он просит Лисоньку одеть его и идет домой один.
Ханна приподнимается с постели, потягивается, берет Кроха на закорки и босиком, прыгая по мерзлой земле, выбегает во Двор пописать. В уборной пахнет мокрой ондатрой, но зато тепло, потому что нет ветра. Ханна чертыхается, когда видит, что на гвоздь для бумаги нанизаны глянцевые квадратики, вырезанные из журнала “Лайф”. Глянцевые – жесткие, холодные и царапаются, и от них еще зуд.
Когда они возвращаются, в Хлебовозке так сыро и зябко, что, кажется, тут еще холодней, чем на улице, а у кухонного стола стоит Реджина с буханкой хлеба. Повернувшись к ним, она легонько взмахивает рукой. Привет, говорит она.
Привет, говорит Ханна, опуская Кроха на пол. Он бежит к хлебу и отрывает кусок, погрызть. Крох спрятался, когда Ханна не забрала его на обед, и не ел с самого завтрака. Оголодал. Ханна садится на корточки, чтобы развести огонь в белой золе дровяной печи. Ароматная растопка, сосновые шишки.
Нам не хватало тебя сегодня в Пекарне, говорит Реджина. Я было собралась попросить тебя приготовить запеченные мюсли, ан – а тебя уж и нет. Черная корона из кос присыпана мукой, на скулах что-то сально блестит. Глаза крошечные и глубоко посажены, а брови похожи на вороньи крылья.
Мне нездоровилось, натянуто говорит Ханна, но, когда она подносит спичку к керосиновой лампе, видно, что лицо у нее вполне обычное. Не хотелось, чтобы кто-то еще заболел, и я решила пойти домой.
Угу, говорит Реджина. Хорошо. Но ты же понимаешь, все чинят Аркадия-дом, и в Пекарне, когда ты так поступаешь, остаемся только мы с Олли. И это нормально, если бы ты меня предупредила, а вот если мы рассчитываем на тебя, то, знаешь ли, бывает тяжеловато.
Прости, говорит Ханна. Завтра я буду там целый день.
Это не из-за того, что случилось осенью… начинает Реджина, но Ханна шикает, ее обрывая. Крох, подняв глаза, видит, что Реджина на него смотрит.
В самом деле? – говорит Реджина. Но ведь скрывать – это не в нашем духе, верно? Это вопрос жизни…
Он еще такой маленький, говорит Ханна. Мы скажем ему, когда придет время. Это наш выбор.
Но Хэнди говорит, что дети не принадлежат индивиду…
Это мое дитя, решительно говорит Ханна. Хэнди пусть говорит, что хочет. Будь у тебя свое, ты бы меня поняла.
Женщины отворачиваются друг от друга и берут со стола вещи, чтобы внимательно их рассмотреть: Ханна – спички, а Реджина – кофейник. Воздух насыщен тихим языком взрослых, который Кроху никогда не понять. Ну что ж, говорит Реджина и со стуком ставит кофейник на стол. Она подхватывает Кроха на руки, прищурившись, на него смотрит. Проследи-ка ты, Крох, за тем, чтобы твоя мама гребла добросовестно, говорит она. Бездельникам не место в Аркадии, верно?
Верно, шепчет он.
Когда за Реджиной щелкает дверь, Ханна говорит: Сука пронырливая.
Крох ждет, пока уляжется горечь в желудке, и только потом спрашивает: Что такое сука?
Собака-девочка, говорит Ханна, закусывает губу и надувает щеки.
А, говорит Крох. Домашние животные в Аркадии не разрешены. Крох не спрашивает о том, что он и так знает из книжек с картинками, но жаждет понять лучше: что такое собака и почему людям так хочется ее иметь. Джинси однажды три дня выкармливала крольчонка соевым молоком, но потом ее мать Кэролайн нашла его и заставила оставить в лесу. Джинси ревела и ревела, на что Кэролайн сказала, пожав плечами: Да ладно, Джин. Ты же знаешь, что личная собственность запрещена. А потом, неужели ты правда хочешь поработить ближнего?
Пети не был моим рабом, всхлипнула Джинси. Я любила его.
Пети вырастет в большого сильного кролика и, как ему и положено, будет скакать по лугам, твердо сказала Кэролайн. На следующий день верткого розового выкормыша не оказалось на той подстилке из листьев, на которой Джинси его оставила. Теперь дети устроили такую игру, они ищут в подлеске своего дружка. Часто кто-нибудь с криком несется к Детскому стаду в уверенности, что видел, как Пети мелькнул в зарослях ежевики, розовый, как ломоть сырого мяса, стремительный, чудесный и ласковый, их общий секрет.
* * *
В предрассветный час Ханна приносит Кроха в приземистую каменную Пекарню, так что просыпается он в углу на мешках с мукой. Жарко, на полках толстеют буханки. Плоть теста вызывает у Кроха голод, что-то теплое поднимается к его туманной со сна голове, и он ползет туда, где Ханна стоит, прислонившись бедром к мешалке, и разговаривает с Реджиной и Олли. Крох тянет Ханну вниз, она рассеянно наклоняется, он задирает ей футболку и ищет ртом ее грудь.
Ханна отстраняет сосок, опускает футболку, оправляет ее и легонько отводит рукой его щеку.
Нет, сынок, ты из этого уже вырос, говорит она и выпрямляется во весь рост.
Комната содрогается и плывет перед глазами Кроха. Олли бормочет что-то насчет того, что Астрид кормила своего Лейфа до восьми лет. Реджина тоже что-то бормочет и сует Кроху крендель. И Ханна им отвечает, но Крох из ее слов разбирает только “что-то что-то не могу”, таким вихрем огорчение воет в его ушах.
* * *
Когда темнеет так, что работать уже невмочь, Эйб приходит домой. Куртка его, комбинезон и рубашка – все в опилках. Он снимает перчатки, и видно, что руки его в старых и свежих царапинах. За ужином Ханна зевает. Крох и Эйб видят крошечного человечка, подпрыгивающего в пещере ее горла. Я без задних ног, говорит она. Иногда она умывается и чистит зубы пищевой содой, прежде чем лечь спать, иногда нет. Ночи длинные. Эйб берет Кроха на руки и читает вслух то, что его на тот момент интересует (датская рок-группа “Новая политика”, анархия и организация, юмористический журнал “Мэд”). Крох улавливает отдельные предложения, следит за всплеском эмоций в голосе Эйба, повторяет в уме заголовки. Частички мира встраиваются в пазы подобно деталям головоломки. Но головоломка эта живая; она растет; новые кусочки складываются вместе быстрее, чем он может собрать их в уме.
Он борется со сном, хочет это обдумать. Отец моет посуду, приносит воды из ручья, чтобы не ходить за ней утром, непослушными пальцами расстегивает рубашку и падает, на лету засыпая, в постель.
* * *
Крох знает: есть то, что происходит на поверхности, и есть то, что тянет вниз. Он представляет, как стоит в речном потоке, когда сильный ветер дует навстречу течению. Даже в самые счастливые времена: в День земли Кокейн[6] в середине лета, в день Благословения в конце года, в Праздник урожая, на стихийно начавшихся концертах, под Кисло-сидр, во время танцев и веселых перебранок, игр и пиров – по углам сидит несколько мускулистых молодых парней со злобой в глазах. Гуляет шепоток, что они уклонисты и в Аркадию пришли, чтобы скрыться от призыва в армию… откосить. Есть старая Харриет, которая ходит без лифчика, и ее груди покачиваются у пупка. Она прячет еду под кроватью (Крох слышал, как кто-то сказал, что у нее на глазах, бедняжки, родители умерли от голода в блокадном Ленинграде). Есть Олли, из первых аркадцев, который два года работал в одиночку, укрепляя листами металла секретный туннель между Восьмиугольным амбаром и Аркадия-домом, запасая там бочонки с водой, консервы, спички, брезент и йодированную соль. Олли похож на бледную бескостную саламандру, если застигнуть ее у ручья; иногда он вздрагивает, моргает и замолкает, не досказав начатого.
Порой дурное затрагивает и малышню. Крох ни за что не войдет в плодовую при Дармовом магазине, где в бочках лежат сморщенные, но вкусные яблоки. Кто-то повесил там большой черно-белый плакат с сердитым усатым дядькой. Крох так боится его, что изо всех слов на плакате разобрал только “Большой брат”; и даже взрослые, зайдя туда и глянув на него, спешно выходят.
Ханну и Эйба в детстве мучил один и тот же кошмар: тускло освещенная комната с толстой женщиной, которая стоит перед ними, вой сирены над головой, нырок под парту, белая вспышка. Этот сон в последнее время прямо-таки преследует Ханну, паутина затягивается тем сильней, чем больше она пытается убежать. Потом, когда первые лучи солнца плавят линолеум Хлебовозки, ночной страх понемногу исчезает, и все-таки в воздухе долго еще висит маслянистый, отравляющий привкус.
Но сегодня утром Крох проснулся один, сам по себе. Сердце у него колотится. Сосульки за окном раскрашены светом зари так, что Крох выскакивает на снег босиком, чтобы одну из них отломить. Внутри он слизывает, рассасывает ее всю до последней капли, поедает самоё зиму, запах дровяного дыма, сонную тишину и щемящую чистоту льда. Родители его меж тем спят да спят. Весь день тайно съеденная сосулька чувствуется внутри, его собственность, холодное лезвие, и мысль о ней делает его храбрецом.
* * *
Крох смотрит, как родители целуются на прощание. Губы скользят по щекам, и когда они разворачиваются, Эйб похлопывает по плотницкому уровню на своем поясе, а Ханна хмурится на то, что выкрикивает ей Астрид, которая ждет на другой стороне Двора с ворохом белья для стирки в руках. Это встряска; Крох не понимал прежде, что его родители сильно отличаются друг от друга. Есть только один Эйб, улыбчивый, разговорчивый, черпающий энергию из вещей, благодаря ему Аркадия-дом прочнеет; но есть две Ханны. Летняя, та, что любила людей, та, что, пока дети спали, собирала их башмаки, чтобы нарисовать на них кому свиной пятачок, кому лошадиную морду, птичку или лягушку, смотря чей башмак, – уходит. Его веселая мать, громкая: в их среде, где организм не стесняется проявлять себя на людях, где и в торжественные моменты можно услышать медные духовые метеоризма, ее газы могут поспорить с громом. “Ле Петоман”, прозывает она себя, краснея от гордости[7]. Эта Ханна силой не уступает мужчинам. Когда раздается клич “Грубая рабочая сила!” и нужно вытащить завязший в грязи грузовик или накопать из ручья песка, чтобы забетонировать Душевую, она является первой, работает дольше всех, спина ее под майкой без рукавов такая же тугая и мускулистая, как у любого мужчины. Эта Ханна отпускает шуточки себе под нос, пока женщины вокруг не начинают прыскать от смеха; и порой она задергивает занавески на окнах Хлебовозки и открывает свой маленький сундучок, хранить который не полагается, все имущество в Аркадии общее. Достает оттуда тонкую скатерть, бельгийское кружево прабабушки. Достает чайные чашки, фарфор нежный, как кожа, десять миниатюр маслом и футляр из красного дерева со столовым серебром, пять разного вида вилок с черенками, увитыми лилиями. Накрывает стол, заваривает мятный чай, из апельсиновых корок печет печенье с контрабандным белым сахаром, и до самого вечера они с Крохом чаевничают.
Ридли Соррел Стоун, жуют с закрытым ртом! – говорит летняя Ханна кислым голосом дамы, которая учила ее манерам. Салфетку кладут на колени! Они с Крохом торжественно чокаются чайными чашками, сообщники.
Но та Ханна прячется внутри новой, которая впустила в себя зиму. Пялится в стену, позволяет расплестись косам. Забывает приготовить ужин. Золотистая кожа выцвела до белизны, под глазами синева. Эта Ханна смотрит на Кроха так, будто пытается разглядеть его очень, очень издалека.
* * *
Титус Трэшер рубит дрова у Привратной сторожки. Крох собирает щепки, которые отскакивают от топора, и складывает их в ведро для растопки.
Хочешь поговорить о том, что тебя беспокоит, спрашивает Титус, и Крох тихо говорит: Нет.
Они смотрят, как Капитан Америка едет мимо в скрипучем универсале, который выдали ему в Гараже. Он наркоман, тут их зовут Кайфунами, и направляется в Саммертон на психотерапию, которую оплачивает государство. В Аркадии много тех, кто получает пособие по инвалидности или талоны на питание. Когда долгое время не прибывает людей, которые могли бы пополнить общий котел, кое-как выжить позволяет соцобеспечение. Капитан Америка[8] был профессором английского языка, но перебрал с наркотой и перегрел мозги. Теперь он делит свою длинную бороду надвое и носит саронг, сшитый из американского флага. Однажды Крох слышал, как Астрид защищала его: Да, он чудило, это так, сказала она. Но у него случаются просветления. Кроху сдается, она имела в виду те моменты, когда Капитан Америка вдруг как завопит: Дядя Сэм хочет меня! Или: Никсон – альбатрос[9]!
А как вышло, что его зовут Капитан Америка, а не профессор Мертон, спрашивает Крох, глядя на то, как свивается и исчезает синий выхлоп универсала.
Титус опирается на рукоять топора. Он весь в поту, в майке цвета чайного налета на кружке. У него нет женщины, чтобы следить за ним, поэтому у него все грязное, разве что Ханна или кто другой выкрадет что постирать, пока он не дома. Воняет от него, как от гнилой репы. Люди здесь сами выбирают, кем им хочется слыть, говорит он. Это часть сделки. Почти у каждого есть прозвище, которое он сам себе дал. Люди приходят сюда, чтобы стать тем, кем они хотят быть. Тарзан. Вандер-Билл. Смак-Салли. Он смущается, произнеся последнее имя, так что Крох в молчаливом удивлении присматривается к своему другу.
По Выездной дороге подъезжает машина. Титус, утирая лицо банданой, подходит к воротам. Четверо молодых людей в кожаных куртках с бахромой, с фотоаппаратами в руках выходят из машины, захлопывая за собой дверцы. Эй, чувак, говорит один. Нет-нет-нет, отвечает Титус. Милости просим, ежели вы всерьез собрались жить здесь, парни, но ежели нет, уважайте нашу частную жизнь.
Понял. Что ж, мы из газеты колледжа в Рочестере, говорит один из парней. И у вас нет телефона. Мы подумали, что могли бы взять интервью у Хэнди.
Мне нравится его музыка, говорит утырок с красными ушами. Хэнди настоящий американец.
Четверка ухмыляется, уверенная, что восхищение – это их билет внутрь. Извините, говорит Титус.
Ну давай же, чувак. Мы свои, говорит другой. Он вытаскивает из багажника мешок на тридцать фунтов. Мы вот батат привезли для Дармового магазина. Ты бы пустил нас поглазеть, а? А после ужина мы уедем. В лице Титуса проявляется жесткость. Тут вам не зоопарк, и мы не животные, говорит он. Не фиг подкупать нас орешками.
Бататом, говорит парень.
Титус закидывает топор на плечо и подходит к парням поближе. Те пасуют, трое отваливают, только один стоит на своем. Временами Титус вынужден показывать зубы, чтобы не подпускать зевак. Крох боится увидеть, как его добрый друг превратится в грубого чужака, каким порой тому приходится быть. Он убегает и до вечера бродит по лесу, возясь с сосульками и разбивая лед в лужах, пока не становится так холодно, что оттягивать возвращение в Хлебовозку больше нельзя. Ханна, когда он входит и кладет пальцы ей на затылок, вздрагивает и просыпается.
* * *
Эйб приходит домой с криком: Крыша над детским крылом готова! Не течет, изолирована и герметична. Малышам есть где расти!
Крох приплясывает, а Ханна вытягивается во весь рост, выпуская свой теплый запах из свитера, и бормочет: Красота.
Утром, подслащенным снежком, вереница женщин со швабрами и ведрами подходит к Аркадия-дому. Они будут скрести, оттирать и красить, перестилать полы, штукатурить. Ханна идет с ними. Словно клетка из костей, она непрочно стоит на ногах.
Крох, милый, уговаривала его Ханна, давай ты пойдешь в Розовый Дударь, в Детское стадо? Но он сказал: Нет, нет, нет, нет. Он не бывал в Аркадия-доме с того дня, как Хэнди отправился в свое концертное турне. Наконец Ханна соглашается взять Кроха с собой. Он сидит в Красной коляске с уксусом и тряпками, коробка с губками у него на коленях. Ханна катит его по грязной земле, отставая от остальных. Слышно, как женщины перекликаются в морозном воздухе; они смеются. При виде их, поднимающихся по Террасам, засаженным яблоневыми садами, мужчины на крыше Аркадия-дома встают столбиками, как сурки в поле, и заливисто свистят, показывают, до чего они рады. Эйб размахивает руками, выписывая дуги над головой.
Но пройдя двором в Классную комнату, женщины замолкают. Там огромные закопченные окна; чудная на вид, приземистая старая дровяная печь; вешалки для одежды, от высоких до низеньких. Груды парт усеяны плесенью всех цветов. По углам содрогается паутина, потревоженная вторжением. Кто-то давным-давно развел посередке костер, выжег в досках огромную черную дыру. Местами штукатурка свисает с потолка хлопьями и кусками, обнажив дранку, а на школьной доске поверх старинных прописей огромными буквами процарапано ножом несколько букв. Крох складывает буквы в слово, бормочет его себе под нос. Женщины стоят тихо, лишь оглядываются по сторонам.
И тут простушка Доротка в старушечьих очках ставит ведро на пол и принимается закатывать рукава. Увязывает длинные седые косы вокруг головы, венчая себя короной. Леди, выкликает она, потревожив пушистый пласт пыли, так что он слетает со стены и плывет по воздуху вольно, как волосы под водой. Нас ждет работка, а, верно я говорю?
Верно-верно, тихо вторят ей женщины.
* * *
Кроху дают тряпку, сажают за парту и велят ее оттереть, но он засматривается на то, как женщины обметают метлами стены, как плавно дрейфуют на пол паутинные парики.
Тут оказывается, что можно тихонечко улизнуть.
В коридоре он слышит, как где-то что-то дробят. Звучит музыка, какая-то знакомая, Хендрикс по радио, искаженный расстоянием, стенами и ударами молотков, а потом все вместе, музыка, звуки уборки и стройки, сливаются в снежную бурю, сплошь ветер и перестук.
В конце коридора – окошко, под ним встроенное сиденье. Он пробует взобраться туда, но подушка рассыпается от прикосновения. Он отскакивает от поднявшейся тучей пыли, хлопьев плесени, мертвых пауков, бежит куда-то, где еще темней, сворачивает туда, где стена зубчато изрезана и пересечена лестницей. Он лезет наверх. Ступеньки сохранились не все; он перепрыгивает через провалы, и когда он так делает, под ним что-то движется, и он спешно карабкается вверх, прочь, ужас комком в горле, сердце колотится в груди. На верхнем этаже пахнет сосной и опилками, над головой свежие балки новой крыши, но надо обходить огромные рваные прорехи в полу. Он, крадучись, сворачивает за угол. Одна дверь открывается, когда он проходит мимо, и он заглядывает внутрь. Там просторная темная комната, Просцениум, Крох помнит, кто-то ее назвал. Потолок затянут брезентом, и не видно больше, как когда-то, огромного неба.
* * *
Ханна говорит, он не может помнить тот день, когда они явились в Аркадию. Она говорит, ему было всего три года; трехлетним детям не свойственно помнить какой-то один день. Но он помнит. Караван слишком долго был в пути, слишком разросся. Куда бы они ни прибывали, люди присоединялись к ним, а с ними еще больше автобусов и грузовиков. В конце концов Свободные Люди, все пятьдесят, притомились. Но тут в армейской лавке им встретился Титус Трэшер, встретился и прибился. Он-то и поведал, что его отец унаследовал от дяди шестьсот акров на севере штата Нью-Йорк. Уже через неделю Титус вышел из телефонной будки в аптеке и просто сказал: Дело сделано.
Они ехали всю ночь по сельской глуши и прибыли на место дождливым весенним утром. Бартон Трэшер, толстенький, кругленький, вышел из каменной Сторожки и, рыдая, простер руки к давно потерянному отпрыску. Они забрались в Розовый Дударь, и Гарольд, когда-то юрист, проверил документы. Штату требовалось, чтобы в документе было указано имя, и они согласились, что пусть это будет Хэнди, хотя приобретение принадлежало всем поровну. Только когда бумаги были подписаны, Титус сказал своему отцу: У нас с тобой были нелады в прошлом, пап, но теперь, я думаю, все в порядке. В ответ Бартон Трэшер приник к широченной груди сына, а Титус стоял, терпеливо снося это проявление нежности.
Тут кто-то зажег римскую свечу, и все захлопали. Остатки дождя орошали их, капая с деревьев, когда Свободные Люди впервые совершили неторопливую прогулку по лесу, чтобы оглядеть свою землю. Мужчины, размахивая мачете, расчищали тропу, а женщины с детьми на руках шли позади. Выйдя на Овечий луг, они ахнули. На вершине холма стояли огромные постройки, увидеть которые никто не ждал: Бартон Трэшер сказал, он думал, здесь только сельскохозяйственные угодья, и знать не знал, что эти здания существуют. Аркадия-дом высился над ними кирпичной громадой, заросшей кустами шиповника, за ним – огромный серый корабль Восьмиугольного амбара и другие каменные сооружения, утопающие в траве. Они поднялись по террасам, нащупывая прячущиеся под наносами и сорняком каменные ступени. Яблони, древние и одичалые, искореженные, как гоблины, а между ними заросли дикой малины. Прошлогодняя листва приторно-ароматной слякотью липла к подошвам. Они вышли на крытую плоским сланцем веранду и сгрудились перед огромной входной дверью.
Et in Arcadia ego, прочел кто-то. Все поглядели на притолоку над дверью, по которой были кое-как высечены эти слова.
Астрид, прочтя вслух, сказала: Аркадия. Это значит: И я в Аркадии. У Пуссена картина так называется. Это цитата из Вергилия[10]…
Но Хэнди громко прервал ее: Никаких эго в этой Аркадии! – и все радостно завопили. Астрид пробормотала: Нет, это не то эго, это значит, что… А потом смолкла, и никто, кроме Кроха, ее не услышал.
Аркадия, в волосы Кроху прошептала Ханна, и он кожей головы почувствовал ее улыбку.
Прихожая: обрушившаяся люстра, хрусталинки среди сора, следы животных, палые листья; лестницы, изгибающиеся в небо, в крыше дыра. Свободные Люди разделились, принялись обследовать найденное. Ханна несла Кроха сквозь разруху, свалявшуюся комками перекати-поля пыль, исписанные кем-то давно стены, двери, которых лет сто никто не открывал. Аркадия-дом представлял собой беспредельное здание в форме подковы, охватившей внутренний двор, посреди которого царил огромный, футов в пятьдесят высотой, дуб. В крыльях дома тоже все было сломано и замусорено, и были они длинные, конца нет. Глянув в окно, Крох увидел мерцание Пруда и хозяйственные постройки, похожие на корабли, плывущие по морю из сорняков. Все вокруг было дырявое: крыша, стены, полы. Жутковато.
Наконец все собрались в Просцениуме, большом зале со скамейками, сценой, драными гардинами, выцветшими до серости, хотя в глубине складок прятался еще густо-красный бархат. Свободные Люди, грязные и голодные, жаждали вечеринки. После долгих лет, в течение которых они обсуждали, как лучше выстроить жизнь, делились прочитанным, рассказывали о кибуцах, ашрамах и художественных коммунах вроде той, что была в Дроп-Сити, в которых некоторые из них жили, наконец-то они вернулись домой. Им хотелось отпраздновать это с музыкой, травкой, а может, и с чем-то покрепче, но Хэнди не разрешил. Если мы не сделаем эту работу сейчас, битники вы мои, сказал он, когда ж нам ее делать? Так что они остались в Просцениуме, и день угас и перешел в полночь, а они всё судили-рядили, обсуждая правила своего Дома.
В пролом в полу виднелась Прихожая, наливавшаяся чернотой, пока только и разглядеть стало, что отблески хрусталинок, валявшихся на полу; а в той дыре, что в крыше, ночь стала чернильной и вскоре вспыхнула сиянием звезд.
Все вещи – общие, все имущество – банковские счета и трастовые фонды – идут в общий котел, каждый, кто присоединится, должен отдать все, что у него есть. Счета и налоги оплачиваются этими деньгами. Зарабатывать будут акушерством и наемным трудом в поле, пока наконец не станут есть только то, что собрали сами, а излишки – сбывать. В пределах Аркадии корыстолюбие – деньги – запрещены.
Приглашается каждый, кто пообещает работать; о тех, кто работать не может, потому что немощен, болен, брюхат или стар, будут сообща заботиться. В помощи никому не откажут. Но никаких беглецов: проблемы с властью им не нужны.
Жить они будут чисто и правдиво, ничего незаконного. Но тут в воздухе разлился знакомый вонючий дымок, и внесли поправку: ничего такого, что должно бы быть незаконным.
Наказания будут излишни; каждый, если допустит ошибку или не выполнит честно свою работу, подвергнется Конструктивной критике, то есть коммуна соберется и провинившегося пропесочит: это ритуальное очищение.
С кем ты трахаешься, на том ты женат, сказал Хэнди; и так возникли поначалу браки в четыре, пять, шесть и восемь составляющих, большинство из которых вскоре распались на одиночек и пары.
Ко всем живым существам относимся с уважением; все веганы, товары животного происхождения запрещены, домашние животные – тоже.
До того дня, когда они отремонтируют наконец этот огромный странный корабль под названием Аркадия-дом и станут жить здесь вместе в любви и согласии, будет создана временная Эрзац-Аркадия.
Было уже почти утро, когда правила были изложены, согласованы и перечислены по порядку. Многие уже спали. Те немногие, кто не спал, видели широкое лицо Хэнди, подсвеченное льющейся сквозь грязные окна зарей. Размашисто махнув вокруг себя, он сказал: Эта земля, эти постройки, которые мы обрели здесь сегодня, – это дар любви от Вселенной.
Тут дали себя знать годы бездомных скитаний, и Хэнди заплакал.
С тех пор прошло три года тяжелой работы, урожайных и нет. У соседей-амишей они одалживали волов, чтобы вспахать поля. Позже молчаливые, трудолюбивые амиши пришли – нежданно – помочь собрать урожай сорго, ячменя, сои. Собранного хватало лишь на еду, на продажу ничего не осталось. Акушерки ездили в соседние города, Илиум и Саммертон[11], где за деньги принимали роды. Для грузовых перевозок, тоже за плату, был основан Гараж; парк машин поддерживали тем, что, находя брошенные автомобили, разбирали их на запчасти. Каждую осень они нанимались работать в полях или яблоневых садах, чтобы заработать побольше. Делали Кисло-сидр, соусы и пироги из собственных яблок, консервировали землянику с малиной и прочее, что давал сад. Но даже прошлой зимой в Аркадии голодали неделю, и было бы еще хуже, если б Ханне не удалось вырвать у родительских адвокатов свой трастовый фонд. Вместе они выжили.
Однажды декабрьской ночью после празднования Солнцестояния, когда Хэнди алкал видений в парилке, которую они построили рядом с Душевой, Эйб созвал секретное совещание по реновации Аркадия-дома. Пригласил “соломенных боссов”, временных начальников рабочих подразделений: Полей, Садов, Ассенизации, Дармового магазина, Пекарни, Соевого молокозавода, Консервного цеха, Акушерок, Бизнес-подразделения, Гаража и Детского стада. Ханна принесла Кроха с собой, под пончо, потому что была тогда временной начальницей Пекарни и не хотела бросать его одного в Хлебовозке. Собрались они на полпути между Аркадия-домом и Восьмиугольным амбаром, в туннеле, который Олли укрепил на случай ядерного удара.
Послушайте, сказал Эйб. Я тут подумал, что настал некоторого рода поворотный момент. Нужно как можно скорей въехать в Аркадия-дом, иначе наши грандиозные планы завянут. Ведь стоит привыкнуть к жизни в Эрзац-Аркадии, как все мечты про жизнь в Аркадия-доме развеются в дым. Что въезжать-то, нам и в Эрзац-Аркадии хорошо, вот мы никогда и не въедем.
Тут кто-то возразил что-то, кажется, насчет денег, но Эйб поднял руку. Дайте мне минутку. Совершенно очевидно, что мы работаем надрывно, неэффективно, слишком много усилий тратим на обыденные дела просто для того, чтобы выжить. Все дело в разделении труда. Если централизовать уход за детьми и приготовление пищи и сделать так, чтобы не нужно было самим таскать воду из Пруда и самим доставлять продукты из Дармового магазина на ужин, или следить за тем, чтобы всегда было достаточно нарубленных дров, чтобы не мерзнуть на этой неделе, мы в самом деле успевали бы сделать достаточно, чтобы и прокормить себя, и подзаработать. Я вот тут подсчитал, сказал он и поднял листок, исписанный его мелким почерком. Если мы отремонтируем Аркадия-дом и будем жить там все вместе, это вполне может выгореть. Может сработать. Может, даже получим прибыль в этом году.
Борода Эйба разошлась надвое, а улыбка стала такой широкой, что Крох испугался за щеки отца.
Наступила тишина. Слышно было, как в Восьмиугольном амбаре над головой волокут по полу что-то тяжелое. Но потом все принялись переговариваться друг с другом, расхаживать взад-вперед по туннелю, мечтать вслух, выстраивать свое видение будущего деталь за деталью.
* * *
И теперь, чем глубже Крох пробирается по Аркадия-дому, тем злее кусается противный липкий холод. У мужчин до этих комнат руки еще не дошли: тут темно и все в плесени. Он надавливает на щеколду, дверь распахивается, дохнув смрадом. Между тьмой коридора, в котором он находится, и светом над лестничной клеткой он выбирает свет и идет туда, хотя пыли по щиколотку. Он оказывается на лестнице, которая огибает оставшуюся глубоко внизу комнату, вполне вроде бы целый диван, большой кирпичный камин и то море запустения, которое волнуется футов на десять пониже воздуха, потревоженного шагами. Отсюда не слышно больше ни мужчин, работающих на крыше, ни их музыки, ни женщин, поющих и болтающих далеко, в Детском крыле.
Под первой дверью разливается чернота, зло, которое истекает из щели. Крох тихо-тихо идет дальше. За второй что-то слышится, вздох и шепот, в металле ручки ощущается холодок, поэтому он пропускает и ее тоже. Третья открывается, когда Крох с силой ее толкает, и он входит.
Комната вся толстым слоем устлана шерстистой пылью. Густо поросли ею стены и пол, она покрывает собой выпуклости, которые оказываются мебелью, – Крох сует внутрь пыли руку, чувствует, что под ней дерево или, в другом месте, ткань, и выясняет, что это кровать.
Посереди пола – влекущий к себе ком, Крох погружает в него обе руки. В сердцевине там что-то твердое. Крох вынимает кулак и, раскрыв ладонь, видит косточки, мышиный скелет и череп. Затем – пригоршню пуговиц из незнакомого материала, непрозрачного, кремово-белого, мерцающего. Наконец, предмет, твердый и мягкий одновременно. Он дует на него, пока предмет не оказывается книгой.
На кожаной обложке тисненые цветы, мальчик выглядывает из-за дерева, и золотые буквы. Крох прослеживает четыре: Г-Р-И-М – теряет терпение и раскрывает книгу.
Сначала он видит картинку. Во всем Аркадия-доме нет ничего ярче; картинка впитывает в себя дневной свет. Девушка с сосредоточенным лицом, похоже, своим отрезанным пальцем, словно ключом, пытается открыть дверь. На другой странице изображен крошечный человечек, который раскалывается надвое, из его ран хлещет кровь. Еще на одной картинке девушка в длинном платье идет рядом со львами, рот у нее приоткрыт, а золотистые волосы собраны кверху пушистой шапочкой вроде желудевой.
Он находит самую коротенькую историю. Его палец елозит под каждым словом, пока Крох не разгадает его. Эта про то, как у одной матери было много детей, а еды совсем не было. Крох очень хорошо понимает, как это, когда в животе сосет, а в стеклянных банках с завинчивающимися крышками только и осталось, что ягоды остролиста и соевые бобы. Мать хочет съесть своих детей. Дети сущие ангелы и готовы для нее умереть. Но ей становится совестно принять такую жертву, и она их не ест, а только сбегает от них, бросает.
Ужас громоздится на ужас: мать пожирает своих детей, дети умирают, мать навеки пропадает в той тьме, что за гранью сюжета.
Он роняет книгу назад, в пыль. Закрывает глаза руками. Мир надвигается на него, давит. Он не убирает рук, пока ужас не отступает, и он снова может дышать.
Издалека доносится голос Ханны, высокий, испуганный: Крох! Бегом ко мне, немедля, прямо сейчас! Прежде чем уйти, он хватает книгу, засовывает ее в штаны и по собственным следам в пыли бежит вниз, бежит и бежит, поворачивает не туда, теряет голос Ханны, влетает в знакомый зал, голос теперь ближе, бежит вниз по лестнице, перескакивая через проваленные ступеньки, споткнувшись, попадает в Прихожую, бежит по коридору, снова теряет голос, разворачивается в другую сторону – и, наконец, оказывается в зеркальной комнате с проломленными длинными столами, где Ханна стоит спиной к нему и зовет. Она рада Кроху, до того рада, что хватает его под мышки и прижимает к себе так крепко, что ему трудно дышать, а потом опускает его на пол, отирает свое мокрое лицо о плечо и говорит: Не убегай никогда. Ты можешь пораниться. Тут очень, очень опасно.
Продолжая держать его за руки, мать отстраняет его от себя. Боже, как ты замурзался. Ты весь черный.
Тут ее рука натыкается на книгу у него в штанах, она озабоченно поджимает губы, а он наблюдает за ней и почти что разочарован, когда она оставляет книгу там, где есть. В эти дни она все пускает на самотек.
Из задней комнаты появляется Мидж. С тех пор как ее отец заледенел на том утреннем собрании в феврале, лицо у Мидж сделалось кислым, будто во рту у нее крыжовник. Не место здесь для ребенка, шипит она. Отвези его домой, Ханна.
А у Мидж-то нет шеи, вдруг замечает он. Голова ее ходит на плечах, как дверная задвижка.
Они уезжают оттуда, грохоча вниз по склону Красной коляской. Крох прячет книгу под ботинками и штанами, когда они с матерью оказываются в Душевой из цементных блоков, хотя по расписанию банный день у них – в воскресенье. На неделе они обычно делают то, что Ханна называет ЭлТриПэ: обмакивают в горячую воду мочалку, намыливают ее и трут Личико-Подмышки-Промежность-Попу. Сегодня в пустой Душевой гуляет эхо. Все еще на работе. В пару есть душевредная роскошь: она в розовой мягкости матери, разогретой горячей водой, в лицах спящих младенцев, которые живут на коленях Ханны, в слоях тьмы, которые стекают с него самого, когда она трет его своими потрескавшимися руками, пока не отскребет докрасна и он не станет снова как новорожденный.
* * *
Неспешно вымывшаяся посреди дня, Ханна наливает себе чашку чая. Она сидит у окна, Эдит Пиаф на проигрывателе. Non, поет невидимая певица, je ne regrette rien[12]. Нет, слышит Крох, Жени не винегрет. Конечно, не винегрет, бедная Жени, думает он.
Ханна так погружена в свои мысли, что Крох для нее невидимка. Он машет рукой у нее перед лицом, но она и глазом не моргнет. Он вытаскивает из штанов книгу, которую стащил в Аркадия-доме, и по ступенькам главного входа в Хлебовозку бочком спускается под холодный навес и прячет книгу в свою жестянку-схоронку, куда та помещается, только если вынуть все остальное: змеиную кожу, стеклянный глаз с зеленой радужкой, наконечник стрелы и воробья, умеющего махать крыльями, которого Эйб когда-то для него вырезал.
Набравшись духу, во второй половине дня Крох относит свои сокровища в Дармовой магазин и кладет их на полку, где живут те вещи, что пока никому без надобности. Он трогает ожерелья из конопли, что плетет Сильвия, один роликовый конек, замызганные книги в мягкой обложке, аккуратные стопки латаных джинсов, фланелевые рубашки. В углу Шерил взвешивает сушеную клюкву и раскладывает ее по бумажным пакетам, чтобы те, кто готовит, разобрали ее по домам, и когда она поворачивается спиной, Крох погружает ладошки в бочку с мукой, с наслаждением продавливая ее сквозь пальцы. Маффин, которая разливает по банкам растительное масло, поднимает на него взгляд, и в брызгах масла на стеклах очков ее глаза преломляются во множество крошечных моргающих глаз. Но Маффин его не выдаст. Он хватает ломтик сушеного яблока из корзинки для перекуса и по холоду несется домой. Когда он входит, мать вскидывает голову и спрашивает: Куда ты делся, малыш? – хотя ответа даже не ждет.
У него созрел план. Завтра он ускользнет из Детского стада и дома счастливо засядет за свою новую книгу, собирая и складывая по кусочкам ужасающие, колкие истории, пока мир не будет набит ими так, что ничто другое уже не сможет проникнуть внутрь.
* * *
Снег тает под ледяным дождем, небо цвета льняного полотна. К Кроху подходит Джинси. Лицо у нее красное, зареванное. Ей восемь лет, голова в буйном вихре белых кудрей. Она старше, но они с Крохом самые лучшие друзья. Они застегиваются на молнию в его спальном мешке, и в тесноте она шепчет: У меня родители ссорятся.
У Кроха так много всего рассказать, что он не говорит ничего.
Они играют в дочки-матери, в бойкот, в Хэнди и Лайлу. Играют в Никсона: Джинси делает искреннее лицо, складывает пальцы буквой V и говорит: Я не плут! Играют в Акушерку: Джинси исполняет роль Астрид, а Крох выпихивает фарфорового пупса из своей вроде бы йони, пока Ханна, увидев это и побелев, не предлагает: Эй, дети! А давайте-ка сделаем печенье! И потом они месят, взбивают и пекут овсяное печенье с миндалем, изюмом и патокой, а Ханна, стоя у кухонного стола, командует, что делать дальше.
Внутри Кроха наполняется воздухом пузырь благости, и Крох несет себя бережно, чтобы тот не лопнул.
Эйб приходит домой, покуда еще светло, и готовит ужин на всех: блины с темпе, консервированными грибами и соевым сыром. В девять вечера родителям нужно быть в Восьмиугольном амбаре, где будет конструктивно-критический разбор поведения Тарзана. Тот домогался сразу нескольких девушек, против их воли, и даже Беременных, чем распространял дурные флюиды. Ханна кутается в свой слишком большой свитер и похожа на змею, готовую к линьке.
Эйб говорит, хмурясь: Не уверен, стоит ли оставлять детей здесь одних…
Мы будем хорошо себя вести, обещает Джинси. Мы не подойдем к печке и не выйдем во Двор! Если нам станет страшно, мы побежим в Розовый Дударь!
Ханна и Эйб неохотно уходят в сумерки.
Снова в спальном мешке, Джинси обнимает Кроха так крепко, что он хнычет, и тогда она отпускает его и начинает нашептывать истории.
Рассказывает, что под пешеходным мостом через реку живет тролль, которому, чтобы перейти мост, надо что-нибудь подарить. Красивый лист, или болтик из Гаража, или кусочек фрукта, но небольшой, чтобы зря не тратить.
А если козявку, интересуется Крох.
И козявка сойдет, говорит Джинси, и они смеются.
Она понижает голос. Джиннис любилась и с Хэнком, и с Хорсом, и теперь близнецы не разговаривают друг с другом. Что плохо, потому что они оба Ассенизаторы и чистят уборные.
Уэс и Хейвен ждут ребенка, и Уэс с Фланнери – тоже, говорит она, так что Хейвен и Фланнери подрались из-за Уэса, и у них все лица в царапинах.
Джинси слышала мышиный разговор на прошлой неделе. Мыши пищали своими тоненькими голосками, что очень-очень-очень хотят есть.
Когда Пинат и Клэй прикуривают сигарету от уже зажженной, это называется голландский трах, хотя трахом между собой они не занимаются, нет, они цыпочек любят.
В лесу живет ведьма. Прошлым летом, на празднике земли Кокейн, когда все взрослые упились Кисло-сидром, Джинси пошла в Сахарную рощу, потому что ее родители разругались, и там видела, как высокая согбенная старуха в черном остановилась, поглядела на нее – и все, ушла. У нее были длинные белые космы и ужасно недоброе лицо. И нет, она не шла, а парила.
Джинси все бормочет и бормочет себе, а Крох засыпает. Ему мнится тьма, где роятся тролли, множество троллей, похожих на зеленого низкорослого Хэнди. Он видит Сахарную рощу, окутанную зловещим мраком. Видит Пруд, который блестит в лунном свете. Там ведьма с плохими, как у Астрид, зубами, со свалявшимися, как у Ханны зимой, волосами и с кислой желтой физиономией, как у Мидж, вновь и вновь выплывает из тени, пока он не осваивается с ней настолько, что начинает ее ждать, и даже начинает хотеть, чтобы она вышла, пока не говорит себе прямо внутри сна, что больше не боится ее. И так и есть, не боится.
* * *
Шум посреди ночи; за Эйбом пришли и перекрикиваются друг у друга над головой. Когда Ханна встает, чтобы сварить кофе, Иеро говорит: О, привет, Ханна, детка. Фред Мейджор хлопает ее по плечу своей огромной ручищей. Но к тому времени, когда кофе перестает сочиться, никого из мужчин, чтобы выпить его, в комнате больше нет. Ханна садится за стол. Ее глаза посверкивают из тени.
Из своей пижамы Крох вырос: кромки врезаются в икры и предплечья, голый живот мерзнет. Он идет к Ханне, забирается к ней на колени, кладет голову ей на грудь, слышит медленный стук ее сердца.
Она говорит: Утром, мой друг, тот, кого ты любишь, уйдет.
Крох ничего не говорит, но думает: что, Эйб? и что-то в нем потихоньку обваливается. Ханна, должно быть, знает, что он подумал, потому что говорит: Нет-нет-нет-нет. Вандер-Билл. До того как он приехал сюда, у него было другое имя. Он совершил что-то плохое, о чем до вчерашнего дня мы не знали, и теперь должен уйти.
Вандер-Билл? Вандер-Билл, который на руках, обезьяной, в Сахарной роще перелетает с ветки на ветку? Вандер-Билл, который кричит животными лучше, чем сами животные, и осенью (о, как давно это было, яркие, словно драгоценные камни, листья, дух осени, серебристый и золотой) кулдыкал индейкой так, что индюк ростом с Кроха, влекомый похотью, выскочил на них из кустов?
Утром за Вандер-Биллом приходят Свиньи. Все аркадцы собираются во Дворе, пока Свиньи рыскают по жилищам, чтобы его найти. Все молчат. Крох усаживается на ступни Ханны, чтобы отделить свою задницу от мерзлой земли.
Он не ожидал того, что увидел. Он представлял себе что-то розовое, с пятачками и хвостиками завитушкой, как на картинках в тех книжках, которые им читают в Детском стаде. Но оказалось, что Свиньи – это дядьки в черных костюмах и зеркальных темных очках. Правда, морды у них розовые: это, по крайней мере, так. Может, прячут хвосты под мятыми брюками? После них остается странный запах. Одеколон, шепчет Ханна, скорчив гримаску.
Свиньи заходят в Первый семейный ангар, а затем во Второй. У тех, кто стоит по границе леса, в руках оружие, и Крох с удивлением замечает что-то зеленое у себя под ногами. Чесночник аптечный, осока кочковатая, отвечает ему Доротка, когда он ее спрашивает. Весна уже скоро. Ему надоели люди, которые бормочут что-то по рации. Отправлялись бы поскорей по своим домам.
Крох слышит, как Лейф спрашивает у Астрид: Они что, собираются в нас стрелять? Астрид отрицательно мотает головой, но взгляд у нее суровый, и она прижимает лицо сына к своему животу.
Вывалив из палатки Одиночек, Свиньи входят в Розовый Дударь. Выходят оттуда и входят в Хлебовозку. Оттуда идут в пристройку Франца и Ганса, где со стропил, как огромная мексиканская пиньята[13], свисает недоделанная кукольная голова, хотя “Певцы Сирсенсиз” не вернулись еще из тура. После того входят в Курятник и остаются там некоторое время. Огромные и негодующие, Куры на сносях, в ботинках и свитерах своих мужчин, с визгом выскакивают наружу.
Аркадия-дом на вершине холма кишит Свиньями. Крох смотрит на крышу, но Эйб сегодня там не работает. Там вообще нет аркадцев. Должно быть, они не начнут работу, пока Свиньи в черном не уберутся.
Наконец подходит Свинья со злой жирной мордой. Рядом с ним шериф из Илиума в рубашке цвета хаки, который, Крох это видел, как-то попивал кофе с Титусом в Привратной сторожке. Сивые его волосы расчесаны так, чтобы прикрыть лысину. Мельком подмигнув Титусу, он отводит взгляд.
Они разговаривают втроем. Сердитая Свинья начинает кричать. Шериф бубнит что-то успокаивающее. Титус, в общем, помалкивает.
Наконец они разворачиваются и по снегу направляются обратно к Аркадия-дому. Свободные Люди идут за ними. С вершины холма, стоя на крытой сланцем веранде, они наблюдают, как Свиньи рассаживаются по легковушкам и грузовикам, которые, уезжая, посверкивают красным и синим.
Когда выезжает последний, вокруг Кроха раздаются радостные вопли, до того громкие и неожиданные, что он вздрагивает и от страха утыкается лицом в ближайшие к нему ноги, набухлые бедра Иден, лоб которой – полумесяц над ее беременным животом, когда она, смеясь, смотрит на него сверху.
* * *
Во второй половине дня Эйб привозит в фольксвагене ящик кленовых трубочек и ведра для первого сахарного сезона в этом году. Сахарная роща – огромная, старая, и сироп – это то, что можно продать. Они жили рядом три года, не догадываясь, что это в самом деле за роща, пока однажды воскресным утром Доротка не встала на Собрании в Восьмиугольном амбаре и не предложила, волнуясь, сделать сахар в этом году. Из чего, удивился Хэнди, наш тростник совсем не так уж хорош. Доротка смутилась, а потом сказала: Ну как же, а Сахарная роща? Это старые мощные насаждения, мы сможем собрать с них много галлонов сока. Тут Хэнди сказал: Какая еще Сахарная роща? И Доротка, мотнув в изумлении головой, повела их в Сахарную рощу, чудесный лес на другой стороне Пруда, и они поверить себе не могли в этот новый подарок, бросались снегом, который в тот день был слишком рыхлым, чтобы лепить снежки, все аркадцы были осыпаны сверкавшей на солнце пылью.
Хэнди хотел назвать продукт “сахар Свободных Людей”, Титус – “синцбаквуд”, как называют сахарный сироп канадские индейцы-алгонкины, это значит “добытый из дерева”, однако Эйб, возражая тихо, но упорно, как он иногда делает, настоял на своем, и сахар назвали “Аркадский чистый”.
Ханна с Крохом вышли во Двор, чтобы встретить его и помочь разгрузиться. Эйб подъезжает к Хлебному фургону, из радиоприемника доносится тоненький вой: “На цыпочках меж тюльпанов”[14].
Как там в Вермонте? – говорит Ханна.
Эйб обнимает Ханну и что-то шепчет ей на ухо. Он высокий, она высокая, и Крох сжат между ними, как между теплыми стволами взрослых деревьев. Ему хочется, чтобы объятие не кончалось, но через минуту оно кончается. Распадается на куски. Родители отворачиваются друг от друга.
* * *
Вдобавок ко всему прочему женщинам приходится делать сахар: мужчины от восхода до заката заняты в Аркадия-доме и часто за его пределами. Они орудуют рубанком и стучат молотком, проводят трубы и штукатурят, накатывают краску, которую им выдали в илиумском хозмаге в обмен на то, что Лисонька и Китти попозировали там кокетливо с малярными щетками для магазинной рекламы.
Детское стадо однажды свели в Сахарную рощу в познавательных целях. Огромные клены увешаны сосульками, корни так переплетены, что рогожкой висят над землей. Здесь нет ветра, и когда солнце добирается до стволов, они светятся мягко, как керосиновые лампы.
Тут как в церкви, вздыхает Мария и отворачивается, чтобы втайне четырежды коснуться себя, от головы к животу, от плеча к плечу, и Крох, прячущийся за деревом, повторяет это движение за ней снова и снова. Ему нравится торжественность жеста. Он не хочет, чтобы другие это заметили. Суеверие, фыркает Ханна, когда кто-то упоминает о Боге. Хотя те, кто живет здесь, выполняют свои ритуалы: Мухаммед становится коленями на коврик посреди дня, устраиваются еврейские праздники-седеры и рождественские елки, – к религии относятся примерно так же, как к гигиене: личные потребности лучше придерживать при себе, чтобы не задевать остальных.
Микеле сверлит по отверстию в каждом толстом стволе, Иден вкручивает в отверстие трубочку-носик. Деревья кровят чистым соком. Пинг-пинг-пинг, капает он в ведра подобно тому, как стучит в крышу Хлебовозки теплый дождь. Но ощущается этот стук по-другому; он отдает сладостью.
* * *
В Крохе стронулась с места речь. Каждый день – маленький взрыв понимания. Он помнит, как прошлым августом лежал в теплой мелкой воде на отмели Пруда, а под водой его покусывал кто-то невидимый. Теперь, когда у него есть книга Гримм, это как если бы его глаза оказались под водой, и он наконец смог разглядеть там крошечных рыбок. Речь распадается на слова, каждая фраза имеет свой порядок: “Праститьмня” становится “Простите меня”, а “Власьнарду” – “Власть народу”, все слова становятся внятными как по отдельности, так и вместе.
В его сознании появились ящички, по которым можно людей рассортировать. Хэнди – Лягушачий король. Титус – одинокий людоед в Привратной сторожке, отгоняет Свиней и зевак. Высокий Эйб с его инструментами, топором, бородой – лесоруб. Иден, с ее ярко-медными волосами и бледной кожей, поедающая сочную зелень, выращенную на южном окне Курятника для Беременных, – королева. Он надеется, что она не та добрая мать, которая должна умереть, чтобы освободить место злой мачехе. Надеется, что она не та плохая мать, что продаст своего ребенка за травы. Вандер-Билл, с его подвижным лицом и обезьяньими ухватками, был дурак. С Астрид трудно: волосы у нее блестят, как у принцессы, но лицо старое, а зубы ужасные, как у ведьмы; она принимает роды и раздает людям лекарства, как ведьма, но она замужем за Лягушачьим королем, и, значит, королева. Ладно, он разберется с ней позже.
Проще всего с Ханной. Всегда в постели, и когда день разгорается, и когда догорает, она – спящая принцесса, зачарованная.
Крох убирает книгу на место и подкладывает в печь еще полено. Если этого не сделать, у него потечет из носа, и Эйб, вернувшись домой после ужасно долгого дня на холодной крыше, нахмурится на Ханну, которая не поднимется с тюфяка. Она сомкнет веки, позволяя осуждающему молчанию скатиться с нее. Крох закрывает заслонку, съедает кусочек сушеного ананаса и долго смотрит на бугорок Ханны.
Сможет ли она проснуться сама? День клонится к сумеркам. В лесу поднимается ветер, и Крох слышит его темный, устремленный на них порыв.
Наконец Крох старательно моет руки и трижды чистит зубы пищевой содой. Опускается на колени позади материной подушки. Обхватывает ладонями ее щеки. Наклоняется над ней медленно-медленно и касается своим ртом ее рта, целуя ее со всем, что у него внутри, крепко прижимает свои губы к ее губам, так что чувствует под ними твердость ее зубов, ловит несвежий привкус ее дыхания.
Она не проснулась, когда он поднял голову. Он печально снимает руки с ее щек. Это то, чего он боялся. Крох – не тот. Он не ее принц.
* * *
Женщины кипятят кленовый сок в водонагревателе, который Тарзан переделал в огромную пароварку, и по всей Аркадии пахнет сладко и чуть-чуть горько от подгоревшего по краям. Высовывая язык, Крох почти чувствует на нем сахар. Однажды утром, когда Лисонька по свежим сугробам ведет Детское стадо к Сахарнице, они видят, что Микеле и Сьюзи, очумелые от того, что варили сахар всю ночь напролет, разрисовывают мягкий снег струйками сиропа. Сироп, остывая, тонет в снегу, и когда они выуживают его, видно, что он затвердел и превратился в ириску.
Только Астрид меня не выдавайте, просит Сьюзи, разламывая сиропную сосульку на кусочки, которые раздает детям. Тот, что достался Кроху, приторный до того, что Кроха подташнивает, но, чтобы никого не обидеть, он все равно проглатывает его и притворяется, что хочет еще.
* * *
Одежда Эйба воняет потом и опилками; мужчины закончили крышу. Завтра в суставах рук Эйба не будет нетающего льда, и он не будет вздрагивать, случайно задев их во сне. Завтра Эйб начнет оборудовать ванные комнаты и проводить водопровод в Едальню, и, значит, рассосется куча заготовленных медных труб, которая высится в Гараже.
Когда мы будем жить в Аркадия-доме, со страстным мечтанием на лицах то и дело говорят теперь все. Вечно эта мечта, когда же. Все станет лучше, нам будет теплее, люди перестанут ссориться, мы сможем больше помогать миру, откроем издательскую компанию, ни у кого не будет недостатка в витамине D, малыши пойдут в школу, акушерки всегда под рукой, медведи перестанут выходить из леса, рыться в мусорных ведрах и разбрасывать грязные подгузники и женские прокладки по всему Двору, и уборных не будет.
Маффин, которая когда-то жила со своими мамашами в квартире в Олбани, пытается объяснить другим детям, что такое туалет: поворачиваешь ручку, говорит она, и вода хлещет изнутри и поглощает твои какашки.
Хелле заливается слезами. Это же чудище, рыдает она. Поглощает! Значит, ест какашки!
Остальные, вздохнув, отступают в сторонку, как обычно, когда Хелле заводит свои концерты. Но Крох подходит и прижимает ее к себе, эту всхлипывающую жесткую девочку, пухлую, но сплошные локти. Сначала она отпихивается, но потом, когда он отпускает ее, льнет сама. Она крупнее его, хотя порой ему кажется, что она младше младших. Она странная. Пахнет ванильным стручком. Кроху всегда за нее тревожно.
Вот еще, и никакое не чудище, с презрением говорит Маффин. Это та же уборная. Только там не воняет, не холодно и нет пауков, Ассенизаторам не нужно откачивать выгребную яму и не нужно разбрасывать щелок. Просто повернешь ручку, и все смывается.
Куда смывается, интересуется Лейф.
Не знаю, говорит Маффин.
Они смотрят друг на друга, раздумывая. Наконец одиннадцатилетний Эрик говорит: Наверное, в океан. Да, соглашаются все, где-то вдали должен быть океан, который Крох представляет себе как Пруд в ветреный день, на дальней его стороне ждут люди в чудных нарядах: женщины в кимоно и башмаках на деревянной подошве, мужчины в шляпах из рисовой соломки, в ярких рубашках-дашики, как у Мухаммеда, – и маленькие флотилии дерьма плывут к ним навстречу с парусами из подтирок и прочим.
* * *
Пока они спали, облако сбросило на них снег. Эрзац-Аркадия превратилась в чистую красивую деревню, всю белую, с дымящими игривым дымком трубами, похожую на картинку из старой книжки Ханны про русских крестьян. Ханна сегодня опять не встала. Все ее тело в пленке из масел. Она бормочет что-то, хватает его и бережно затаскивает под одеяло, в свое тепло. Если лежать очень тихо, дышать в лад и уснуть вместе, то можно подсмотреть кое-что из ее снов: серую улицу, на которой Крох не бывал, дерево с медной корой, фонтан, окруженный окутанными сумерками дубами, огромную черную птицу с клювом, треснутым так, что виден красный язык. Еще глубже, и он оказывается в чреве шкафа, и что-то мягкое задевает его висок, а снаружи раздаются громкие голоса. Там, снаружи, обеденный стол со множеством разложенных в ряд вилок и ложек, и маленькая серебряная миска, в которой полощут белую руку. Это возврат к чему-то личному, скользкому, оно опрокидывается и проливается. Проснувшись, он весь мокрый от пота, но дрожит, как в ознобе.
Зрелое, ослепительно яркое утро. Его друзья распускают на пряжу те свитера, что никто не носит, сматывают в клубки, и в Розовом Дударе пахнет потом и овсянкой. Когда Детское стадо, выйдя на, как говорит Лисонька, Послеобеденный променад, идет мимо Дармового магазина, Крох видит там на крыльце Капитана Америку. На саронге Кайфуна развеваются на ветру звезды. Он манит Кроха костлявым пальцем. В ухе моем постелила она кровать. И уснула она во мне, и стала во мне спать. И сон ее – это все, что лежит окрест… – бормочет он, обдавая Кроха своим кислым дыханием. Рильке[15]. Мой перевод, конечно же, говорит он. Крох не понимает. Детское стадо миновало уже магазин, и Крох убегает, чтобы его догнать. Снова в безопасности, он оглядывается и видит, что старый Кайфун пристально на него смотрит. Слова Капитана до ночи толпятся у него в голове, как в тесной комнатке, наполненной малышней.
* * *
Мать Джинси, Кэролайн, ушла. Оставила свои вещи и убежала. И хотя Джинси плачет, а отец ее, Уэллс, фыркает, что не будет заявлять о пропаже, и отдает одежду Кэролайн в Дармовой магазин, Крох знает, как это было.
Этим утром, когда на траву лег оловянного цвета иней, он вышел пописать и увидел на крыше того автобуса, где живет семья Джинси, огромную белую птицу, освещенную предрассветным светом. Он видел, как она расправила крылья и один раз вокруг себя обернулась. Мать Джинси взмахнула крыльями, поднялась в воздух и улетела.
Джинси приходит к Кроху, поспать с ним в его спальном мешке, потискать его, пока ей не станет лучше. Он покоряется и все от нее терпит.
* * *
Ночью: Милая! Эй, эй, милая, проснись.
Ох… Что?
Я беспокоюсь о тебе. Реджина сказала, последние дни ты не бываешь в Пекарне. И Доротка говорит, что в Аркадия-дом с женщинами ты тоже не ходишь.
Я просто устала. Ты же знаешь, как зима всегда меня угнетает.
Да, да. Но, похоже, это как-то хуже обычного. Случаются дни, когда ты не встаешь с постели?
Ханна не говорит ничего.
Я все понимаю. Я знаю, ты расстроена, из-за отца и всего прочего. Но что я хочу сказать. Понимаешь, я работаю изо всех сил. Уже март, на сантехнику есть еще неделя, а потом мы начнем с остальным, и мы уже вышли из графика, отстаем, а Хэнди в последнем письме пишет, что они хотят пропустить Орегон, чтобы вернуться сюда за неделю до того, как надо начинать пахоту. В общем, нам нужны все наличные силы, чтобы закончить все до того, как они приедут.
Ничего. Крох слышит только, как бьется в ушах его собственное сердце.
Милая? Не хочешь поговорить?
Лишь деревья шумят за окном.
Ну, ладно. Я не тороплю. Отлежись с недельку или сколько там надо, отоспись. Но мне бы хотелось, чтобы на будущей неделе ты встала в строй. Ладно?
Ровное дыхание матери.
* * *
Чрезвычайная ситуация. В Душевой испортился Водонагреватель. Эйб берет Кроха с собой. Когда они спускаются к низкой постройке у Пруда, горячей воды уже совсем нет, и те несчастные, кому выпало мыться в четверг, мерзнут с мыльной пеной на волосах.
Эйбу нужно осмотреть крепеж под цистерной, так что Титус, Иеро и Тарзан помогают ее сдвинуть. Кто-то ахает, кто-то кричит: там, где она стояла, – целый клубок змей, впавших в спячку гремучих змей.
Реакция у Эйба быстрая, тяжелыми каблуками своих ботинок он топчет их, пока не брызнула кровь, ее много, и повсюду куски змей. Крох хочет наклониться и потрогать одну из погремушек, которая торчит над кровавым месивом, нежная, как гриб. Но Эйб подхватывает его и швыряет Титусу. Кто-то взвизгивает от ужаса, но Титус уже унес Кроха в ночь, гигантские шаги его длинных ног быстро стелются по земле. Ханна не просыпается, когда Крох забирается к ней в постель. Во сне ветер, продувающий лес, становится дыханием Ханны, становится тлеющими угольками, падающими в печи, становится отдаленным ревом.
* * *
Лисонька обряжает детей в анораки и ботинки и ведет их к Пруду, который запоздало, но наконец-то крепко замерз. Раскачивая на осях Хлебовозку, они дожидаются Кроха, пока тот нехотя не выходит. Ему больно оставлять Ханну одну. Однако на свежем холодном воздухе он чувствует себя так, словно его начисто вымыли. Все утро они раскатывают по льду, скользя по нему подошвами башмаков. Они визжат. Возбуждение бьется у них в горле. Они выстраиваются хлыстом. Кто-то из старших детей, Лейф, или Эрик, или Маффин, или Молли, или Фиона, стержнем стоит посередке, а маленькие – на концах. Все кружат вокруг этого стержня. Крох, один из самых маленьких, даже меньше, чем Пух, которой всего три года, и она девочка, отрывается и летит по льду, снова и снова по льду, на ногах, а потом на коленях, и врезается в мягкие сугробы, лежащие по краям Пруда.
Изредка выглядывает солнце, и тогда лед светится зеленым. Деревья вокруг Пруда сверкают сосульками, которые на ветру постукивают одна о другую и, падая, звякают похоже на колокольчик.
Хелле лепит вокруг Пруда толстых снежных ангелов, которые держатся за руки, как куклы на бумажных гирляндах. На это у нее уходят часы. Джинси и Маффин вращаются, взявшись за руки, пока не закружится голова. Лейф находит большую рыбу, замерзшую, уткнувшись носом к поверхности, и тихо с ней разговаривает. Малыши, которые уже ходят, Фелипе, Али, Сай и Франклин, возят варежками по снегу, ковыляют и падают на ходу. Мальчики сбивают друг друга с ног. Астрид и беременные подростки, Смак-Салли и Фланнери, приносят для малышни поджаренные бутерброды с соевым сыром и термосы с ромашковым чаем и самых маленьких уводят домой. Дети постарше, подкрепившись, носятся еще с час, а потом и они, один за другим, валятся с ног.
Сквозь пропитанные снегом одежки Крох чувствует холод и твердость льда. Чувствует, что его тело вычищено зимой и тяжелым, добрым трудом игры. Когда он входит в Хлебовозку, его мать сидит за столом с Эйбом.
У Эйба в красной окантовке глаза. Он целует Кроха в макушку, прежде чем снять с него куртку, зимние штаны, шапку и перчатки. Ты уж прости за то, что случилось прошлой ночью, малыш, говорит он. Мне жаль, что тебе пришлось это увидеть. У меня сработал инстинкт, вот и все. Я никогда, никогда не собирался никого убивать, даже змей. Ты знаешь, что убивать неправильно. Это ведь портит Карму.
Крох гладит отца по лицу, прощая его. Он робеет рядом с матерью, осматривает воздух вокруг ее головы. Привет, малыш, говорит она и сажает его к себе на колени. Он шипит от боли сквозь зубы, и тогда она, спустив его на пол, снимает с него джинсы. О боже, говорит она. О боже мой, милый, что это с твоими ногами?
Поначалу он их даже не узнает, такие они сизые и лиловые от синяков. И коленки ободраны до крови. Он пожимает плечами, и мать нежно целует каждую из коленок, а Эйб встает и торопится назад в Аркадия-дом так, как будто за ним погоня.
Так лучше, Крох, да? – спрашивает Ханна, втирая ему в раны лечебную мазь.
У Кроха отмерз язык. Попытавшись и не сумев хоть что-то сказать, он понимает, что уже некоторое время совсем ничего не говорил. Он пытается сосчитать, сколько с того прошло дней, но теряет счет. Слова зарылись в него и впали в спячку, они заледеневший клубок внутри него, как внутри земли, свернулись, уснули и ждут оттепели.
Ты такой тихий в последнее время, милый, говорит Ханна, чуть помедлив с мечтательным расчесыванием своих длинных, до пояса, волос. Но, столкнувшись с колтуном, сдается. Притягивает Кроха к себе. У него внутри слишком больно колет, чтобы смотреть на нее, поэтому он отворачивается, усаживается на ее костлявые колени и позволяет себя причесать. Зубья расчески так нежно касаются его головы, что хочется плакать. Он и позабыл совсем, как это бывает приятно. А она прижимает губы к его макушке и говорит: Мой сильный, мой тихий мальчик. Давай-ка вместе споем. И начинает, скрипучим голосом, но он не подпевает ее колыбельной, и когда он этого не делает, она тоже перестает петь.
* * *
Проснувшись, он видит, что Эйб смотрит на Ханну, когда та спит. Эх, думает Крох. Он ждет, но Эйб ложится. Так что это Крох, кто трогает свою маму, гладит ее лицо, руки, живот, снова, снова и снова.
* * *
Днем в Розовом Дударе он прячется за коробкой с игрушками, пока других детей одевают, чтобы прогулять их на воздухе. Он остается один в притихшем автобусе. Крики, доносящиеся снаружи, пригашены заснеженным миром, а малыши внизу перекусывают под присмотром Марии или пьют из бутылочек. Обхватив себя руками за плечи, он рассказывает себе историю про девушку и ее братьев-лебедей, держит ее в уме и рассматривает то так, то эдак, чтобы понять, что она для него значит.
Давным-давно, говорит он себе, жила-была принцесса. Она жила с шестью братьями в глухом лесу, прячась от злой новой жены своего отца. Мачеха узнала, где они живут, и связала из колдовства шелковые рубашки, накинула колдовские рубашки на мальчиков и превратила их в лебедей. Принцесса опечалилась, когда ее братья улетели, и пошла по лесу, чтобы найти их. Она шла и шла, пока не набрела на хижину. Когда стемнело, она услышала шум крыльев, и шесть лебедей влетели в окно. Они сняли крылья и превратились в ее братьев, но могли оставаться в человеческом облике лишь короткое время, пока разбойники, хозяева этой хижины, не вернутся домой с добычей. Она спросила своих братьев, как отменить заклятие, и они сказали, что шесть лет она должна прожить, ни разу не засмеявшись, не запев и ни слова не вымолвив. И еще она должна сшить шесть рубах из седмичника, цветок которого похож на звезду.
Но помни, сказали они, если ты скажешь хоть слово, чары будут разрушены, и мы навек останемся лебедями.
И девушка ушла собирать цветы, похожие на звезду, и шить. Она вела себя тихо как мышка. Но однажды какие-то дядьки шли по лесу и увидели девушку на дереве, на котором она жила. Они позвали ее спуститься, но она покачала головой и только сбрасывала с себя одежду, пытаясь прогнать их, пока не осталась голой. Тут они потащили ее к королю тридевятого королевства, который женился на ней, хотя она не сказала ему ни слова. Но когда девушка родила, мать короля украла ребенка и сказала королю, что это его жена дитя съела. Так повторялось три раза, пока король не поверил, что его жена ест детей, и не приказал убить ее. В тот день, когда она должна была умереть, как раз кончались те шесть лет, которые девушке полагалось молчать, и она успела сшить пять рубах, а рукав шестой пришить не успела. Братья подлетели к ней, и она набросила на них рубашки из звездного цветка, и они снова превратились в людей, только у того брата, которому не хватило законченных рубашек, вместо одной руки осталось лебединое крыло. Затем девушка смогла говорить, и она объяснила, что произошло, и детей вернули, а мать короля посадили на электрический стул. И с тех пор девушка и ее братья жили счастливо. Конец.
Перед Крохом – видение праздника: бочонок с Кисло-сидром, на небе звезды, мальчик, по спирали летящий к Луне, девушка, золотистая и округлая, как Ханна летом, та прежняя Ханна, которая на пиру стояла на скамейке и кричала о свободе, любви и единстве. Он представляет себе тех деток, которым столько лет пришлось прожить без матери, каково это было, впервые оказаться в ее объятиях, прижаться к ее теплому телу. Как они, наверно, вцепились в нее, не оторвать. Только представить, что и ему нельзя разговаривать шесть лет, пока не исполнится почти двенадцать, шесть лет – это так много, больше, чем он уже прожил на свете. Перед ним простираются дни. Он пытается не заплакать, но мир, что виден ему с того места, где он прячется, (это верхний отсек Дударя с кучей гамаков, которые хранятся там в течение дня, на краю кучи валяется детский башмачок), плывет у него перед глазами.
Наконец он думает о Ханне, о ее лице, обращенном к чему-то, чего он не может признать. Эта мысль ударяет его, как током; она рыбой бьется у него в животе. Он должен что-то сделать. Должен.
Он сосредотачивается. Отпихивает слова, и без того хилые, пока те не сдохнут на горькой части его языка. Но они запускают свои гадкие щупальца в его грудь. Скапливаются, как жабы, в пещере его горла. Теперь, гуляя, играя и за едой, он представляет себе скользкую тварь, которая затаилась там злобно и ждет, когда мимо скользнет то слово, и тогда ей выпадет случай проклясть их всех.
* * *
Вечером того дня в Хлебовозке на поверхности все идет мирно. Ханна приготовила ужин, и они втроем слушают чей-то голос, скрипуче поющий “Твои глаза сказали то, чего не знал я”[16] на патефоне с ручным заводом, который кто-то из Гаража нашел на помойке в Буффало. Крох сидит на коленях у Эйба, следя за тем, как отец читает газету вслух. Он указывает отцу на заголовок “Гусь покусал ребенка” и издает недавно освоенный им молчаливый смешок, а потом поднимает глаза на Эйба и видит, что отец изучающе на него смотрит, а губы его втянуты в уголках.
Ханна откладывает книгу и громко шмыгает носом. Крох тоже принюхивается. Где-то что-то горит.
Эйб отбрасывает газету. Родители, со значением поглядев друг на друга, вскакивают и как есть, в халатах и тапочках, выбегают за дверь.
Холодный воздух клубится дымом. Тени льются из дверного проема; гонг бьет, бьет и бьет. Первый семейный ангар – в огне. Подбежав к Розовому Дударю с Крохом на руках, Эйб закидывает его внутрь, и детей, которые живут в семейных ангарах, тоже туда закидывают: и Джинси, и Сая, и Франклин, и Али, и Пух, и Молли, и Фиону, и Коула, и Дилана. Повитухи исчезли. Дети, которые и так живут в Дударе, сбегают вниз, а Беременные приходят туда из Курятника, дрожа и стряхивая грязный снег со своих ботинок. Фланнери, Иден и Смак-Салли подхватывают и приголубливают самых маленьких. Крох тоже сходит за маленького, и его прижимают к своему тугому теплу, и Крох снова рад, что так мал, и благодарен за то, что его обнимают мягкие руки.
Где Фелипе? – шепчет Фланнери, и Имоджин, которая живет в Первом семейном ангаре, делает большие глаза.
Лейф и Эрик подсаживают Кроха к окну, чтобы он тоже увидел, что там, хотя видеть особенно нечего: мир по ту сторону Двора переливается желтым и серым, в островках не растаявшего еще снега отражаются сполохи огня, тени людей мечутся с ведрами.
* * *
Бочком подходит Дилан. Он младше Кроха, но выше. Там бабахнуло, тихонько говорит он. Там, где живут Рикки, Фелипе и Мария. А потом у Марии сделались из огня крылья.
Заткнись, Дилан, говорит Колтрейн, пихает своего младшего брата и по винтовой лестнице бежит наверх, туда, где натянуты гамаки.
У Дилана наворачиваются слезы. Он еще ближе подходит к Кроху.
У нее правда были из огня крылья, шепчет он сонным голосом. И волосы из огня, Крох. И полная огня голова.
* * *
Крох так долго всматривается в горящий ангар, что все расплывается у него перед глазами. Остальные дети уже легли спать. Беременные сидят за кухонным столом, пытаясь запить рыдания стаканом воды или чашкой ромашкового чая.
В окно он видит, как люди медленно разбредаются по домам. Некоторые из тех, кто жил в сгоревшем ангаре, находят пристанище в пристройке Ганса и Фрица, потому что эти двое сейчас в туре с Хэнди. Беременные возвращаются в Курятник. Лишь некоторые еще остались во Дворе, глядят на искореженный металл и тлеющие внутри уголья. В тускло мерцающей темноте он узнает своих родителей, которые стоят, прислонившись друг к другу, высокая Ханна и высокий Эйб, ее косы у него на плече, его рука обнимает ее за талию. Крох смыкает глаза и вслепую нащупывает путь в спальный мешок Джинси, с желанием, чтобы родители так и стояли там вместе.
* * *
Утром становится ясно, что Рикки, Марии и Фелипе нет.
Крох подслушал, как Астрид сообщала старшим детям, что ребенок умер. Она плачет, кривя губы над своими ужасными желтыми зубами, совсем как лошадь, которую амиши приводят собирать урожай, когда та берет губами морковку.
Сгорел? – спрашивает Молли, которая все плачет и плачет. Ее сестра Фиона всхлипывает, закрыв лицо ладонями так, что виден только ее высокий белый лоб.
Сгорелое дитя. Крох представляет себе съеженную черную зефирку на краю костра, как бывало в те времена, когда Астрид еще не объявила войну сахару.
Нет, говорит Астрид. Он задохнулся дымом. Во сне. Это маленькое, но утешение. Мария обгорела, но скоро будет дома. Рикки с ней в больнице.
Хэнди должен узнать об этом, сердито говорит Лейф. Хэнди узнает, вернется домой и все исправит. Мой отец может это исправить.
Астрид забавно втягивает в себя воздух, что означает у нее “да”. Согласие на вдохе, называет это Ханна. Я позвонила Хэнди в Остин, говорит Астрид, целуя Лейфа. Это в Техасе. Он просил меня передать вам, что он любит нас всех и посылает флюиды любви в эфир. Он хотел вернуться домой, но Мария и Рикки сказали: нет, раньше срока возвращаться не надо, нам нужны деньги от концертов. Кроме того, они еще не готовы к поминальной службе. Мы устроим ее по Фелипе весной.
Я хочу к папе, бормочет Лейф; его лицо, лицо большого уже мальчика, сморщивается, и он начинает плакать.
Астрид притягивает его к себе, притягивает к себе всех своих детей, Эрика и Лейфа, лягушечку Хелле, беспокойного Айка, и говорит в их макушки, одинаково белокурые: Ну, это совсем другая история.
Утром Крох бежит к ручью, который течет в лесу. Желтые зубцы льда окаймляют воду. Крох становится коленями на лед и сует голову в ручей, холодный как раз в той мере, чтобы вырвать у него дыхание, и ему становится легче.
Хэнди присылает письмо экспресс-почтой. Астрид созывает собрание в Восьмиугольном амбаре, и ближе к вечеру все сходятся туда, чтобы послушать, как Иеро читает письмо вслух. Хэнди передает привет всем своим замечательным битникам. Он потрясен тем, что произошло, и целиком разделяет чувства Свободных Людей, которые хранят веру в их общий Дом. Он призывает их помнить, что страдание закаляет человеческую душу, и то, что выстрадано вместе в коммуне, делает коммуну сильней.
Голос Иеро дрожит, когда он зачитывает: Боль, если в человеческом сердце ей отведено должное место, может стать проводником к ощущению единства со всей Вселенной. Это путь к более глубокому сопереживанию.
Мы встретимся, пишет Хэнди, уже совсем скоро. Постарайтесь быть сильными. Сообща мы вынесем непосильный груз нашей скорби. Намасте.
Намасте, отзываются аркадцы, и женщины плачут, обнимая друг друга. Малыши таращатся на своих матерей и гладят их лица.
Через неделю Мария возвращается из больницы, ее голова и руки, как подарки, обернуты белыми бинтами. Они с Рикки словно бы несут друг друга, куда бы они ни шли.
* * *
Крох сидит под столом, за которым Мэрилин и Ханна пьют чай из зверобоя. Они говорят о нефтяном кризисе, о сросшихся пальцах на ногах Мэрилин, о детях, матери которых во время беременности принимали от нервов талидомид, и детки родились не с руками, а с ластами. Крох представляет себе младенчика, взмахивающего ластами под водой совсем как тот бобр, что жил в ручье за Семейными ангарами и однажды весной заразил их всех лямблиями.
Потом он снова утыкается в “Сказку о рыбаке и его жене”.
Женщины, позабыв, что он тут, начинают шептаться.
Не знаю, как долго я смогу это выносить, говорит Ханна. На это я не подписывалась, это не лучшая жизнь, это не что иное, как бедность, тяжелая работа, и денег нет даже на то, чтобы купить детям зимние ботинки.
Я знаю, говорит Мэрилин.
Хочу… выйти, совсем глухо говорит Ханна и издает звук, не похожий на человеческий. Крох оглядывает ее ноги в страхе, что она больна.
Голос Мэрилин, более мягкий, чем когда-либо. Потерпи. Скоро, меньше чем через месяц, мы переедем в Аркадия-дом. Будем жить вместе, все станет легче. Ты справишься.
Я не могу, говорит Ханна. Чертов Хэнди…
Можешь, говорит Мэрилин, и это звучит, как хлопок закрывшейся двери, и Крох понимает, что есть такое, чего даже прямолинейной Ханне не разрешается говорить.
* * *
Вкус макового пирога, который печет Смак-Салли, то, как Лейф, держа за ноги, кружит Кроха вокруг себя, так что мир отчаянно летит мимо, ощущение бега по оттаивающей снежной корке, когда остальные дети проваливаются, и эта мягкость на конце ветки, которая как шепот почки. Он мысленно пополняет свой список. Малиновый джем на только что испеченном хлебе. То, как пахнет в кармане до блеска заношенной куртки Титуса: трубочным табаком, ворсинками ткани и кедром. Четыре белокурые головки детей Хэнди вокруг письма. Ощущение свежей штукатурки. Он сидит рядом с матерью, вспоминает, что еще ему нравится, и пытается лучом послать это ей в голову. Раз или два он уверен, что ему удалось. Она сладко вздыхает во сне, когда он думает о том, как пахнет макушка новорожденного или как пушисто прикосновение ее мягкой щеки к его щеке.
Детское стадо собралось у ручья. Мостик через ручей ненадежен: он шатается и по краям погружен в бурные воды. Белые рыбки-чукучанки плывут вверх по течению, голубоватых брюшек так много, что они сливаются в одно, пульсирующее. Крох смотрит вниз, палка в его руке отяжелела. Стебель зубянки покачивается на берегу.
Давай! – пляшущим гоблином надрывается Лейф. Его сжигает жажда насилия.
Крох, сквозь шум ручья зовет его Джинси, и Крох смотрит на нее снизу вверх. Кудри у нее взлохмачены больше обычного. На щеке уже неделю пятно сажи. Это неправильно, убивать, кричит она, чуть не плача.
Остальные толпой, в нерешительности, ждут, как он поступит дальше. Хелле начинает подвывать, хотя глаза у нее выпучиваются в предвкушении. Крох смотрит на своих друзей. Коул и Дилан стоят бок о бок, и у них такие лица, какое бывает у Лисоньки, когда дети дерутся. Джинси хватается рукой за рот.
Он думает о рыбьем теле, которое извивается у него на палке, о пролитой крови. Крох стискивает в руке палку, которую Лейф заострил ножом Эйба с перламутровой ручкой. Он заносит палку за голову и швыряет ее в ручей. Отскочив от чего-то, она возвращается и попадает прямо в него, над глазом. Боль ужасная, будто проглотил кубик льда. Лейф, Эрик, Айк и Фиона визжат и приплясывают, Хелле ревет, Джинси бормочет: Нет, нет, нет, нет, нет. Молли, которая вздумала, что она лошадь, и с прошлого лета заставляет их называть ее “Секретариат”, хотя Секретариат – мальчик[17], ржет, встряхивает гривой и бьет копытом. Крох в ярости хватается за палку, изо всех сил швыряет ее в сторону берега, и, пролетая, палка задевает и царапает колено Маффин.
Лицо Маффин за очками краснеет, она вскрикивает. Карабкается по размокшему берегу и бежит через лес, по полям.
Ну тебе попадет, произносит Фиона влажным от волнения голосом. Ее челка слиплась от пота, а лоб блестит. Она убегает. Остальные следуют за ней, мальчики вопят индейцами в пятнах тени, в послеполуденной пестроте. Хелле задерживается на секунду, чтобы прокричать: Ненавижу-ненавижу-ненавижу-тебя-Крох-Стоун, – и тоже убегает. Маленькая, круглая, она не поспевает за братьями и на бегу губит, давит красивый кустик ранних цветов. Размахивает руками, топочет ножками, похожими на кукурузные початки, тужится нагнать братьев, но, как всегда, они бросают ее позади.
Оставшись один, Крох предается горю. Осторожно подходит к краю ручья и пытается его перепрыгнуть, но зачерпывает ботинком воду. Нога в ботинке так же возмущена этим, как неуютно сейчас в теле желудку.
Он присаживается на корточки на берегу и всматривается в бешеную толчею рыб. Молча просит прощения, ждет, когда выплывает на поверхность великая Царь-рыба с суровым, кожистым и страшным лицом, раззявит свою огромную пасть и проклянет его. Или съест. Или, может, с биением в сердце думает он, отправит на поиск того, что спасет его мать. Он затаивает дыхание, пока не чувствует дурноту, но ничего не происходит, и тогда, поднявшись по склону, он примащивается между побегами папоротника, лысые черепа которых застенчиво высовываются из земли. Холодный верховой ветер стряхивает с деревьев старые листья; слетая вниз, они шелестят. В обращенных к северу развилках корней сохранились еще островки снега, туда можно залезть рукой.
Он сидит так долго, что выскочившая белка пробегает почти по его ступне. Ястреб пикирует над ручьем, подхватывает что-то и взмывает, будто раскачиваясь на маятнике.
На несколько вдохов Крох сливается с течением природы вокруг. Ее ритм столь отличен от человечьего, более нервного и более терпеливого. Он видит жучка, тот меньше точки на книжной странице. Видит небо, оно больше, чем все, что у него в голове. Смятение с двух сторон, с огромной и с махонькой, сразу.
Шаги позади него. Он слышит их, когда они еще далеко. Как гром, они сотрясают землю. Если по Гримм, то можно предположить, что это великан топает, чтобы его съесть, но сил бороться у него нет. Крох клонит голову и ждет прикосновения гигантской руки, зубов. Вместо этого рядом пахнет чем-то плотским и женственным: кровью, гноем, потом и розовым мылом. Астрид. Она усаживается с ним рядом, и он ждет, когда она закричит.
Но нет, она не кричит. Просто сидит, и все. Набравшись смелости, он поднимает голову, чтобы взглянуть на нее. Она рассматривает свои ступни, необутые, голые, нежащиеся в прохладной грязи. Она улыбается ему сверху вниз. Люблю весеннюю слякоть между пальцами ног, говорит она. Напоминает о доме. Норвегия, ты же знаешь.
Он тоже снимает обувь и втискивает ступни в жирную землю.
Чуть погодя Астрид хлопает его по бедру, встает и подхватывает его на руки. Ты такой легонький, Крох, говорит она. Фунтов двадцать, не больше. Последний ребенок, которого я приняла, весил почти столько же, сколько ты. Ты просто чудо.
Они выходят из леса на ту тропку, что идет через Сахарную рощу, поднимаются на Овечий луг. Цветы уже разбросаны по земле, красные распахнутые рты, лиловые колокольчики, белые звездочки с золотой сердцевинкой.
Он кладет голову Астрид на плечо, и она говорит: Не о чем волноваться. Ты вырастешь. И настанет день, когда все станет не так путано, как сейчас. Это я тебе обещаю.
А когда они входят в Эрзац-Аркадию, она говорит ему на ухо еще кое-что. Не думай, говорит она, что никто не замечает, что ты молчишь, что никого не волнуют слова, которые застряли в тебе. Ты не торопись. Когда сможешь, ты расскажешь мне обо всем, что перечувствовал, и я сделаю, что смогу, чтобы это поправить. Это я тоже тебе обещаю, говорит Астрид, и лицо ее становится добрым, как поле из одуванчиков.
* * *
Астрид приносит его в Курятник, и только теперь, в тепле, Крох осознает, как же он сильно замерз. Пахнет ромашкой, тысячелистником, лавандой и прочими травами, которые свисают, пучками, со стропил в кухне. Наверху кто-то стонет, и Фланнери спускается вниз, голая, с тазом в руках, с огромным животом и паникой, написанной на лице. Она из тех подростков, которые каждые несколько недель возникают, оцепенелые от того, как влипли, но откуда-то знающие, что акушерки здесь заботятся о Беременных, которые к ним приходят.
Слава богу, ты вернулась, выдыхает она. Мэрилин позвали к дочери Амоса-амиша, а Мидж пришлось уйти, чтобы вытащить гвоздь из ноги Д’Анджело.
Астрид смотрит вниз, касается головы Кроха и говорит: Побудешь здесь, на кухне, с Флан, ладно? Мы еще поговорим после того, как Иден родит ребенка, да? И Крох кивает, хотя знает, что не скажет ни слова. Астрид раздевается догола и долго моется с мылом водой, до того горячей, что от нее идет пар. Отправляясь наверх, она тоже обнажена.
Фланнери надевает халат и корчит рожицу Кроху. И о чем с тобой разговаривать, спрашивает она. Ты ведь недоразвитый, верно? Он качает головой, но она фыркает, сует ему кусок яблочного пирога и отходит, чтобы прилечь на диван. Господи, говорит она. Я вот уж точно не стремлюсь выдавить из себя маленького ублюдка, если все будет вот так. И тычет дрожащим пальцем вверх.
Еще мгновение, и она уже спит и тяжело дышит. Крох поднимается наверх.
В комнате, где Иден лежит на спине, темно. Сначала он видит только блеск ее медно-рыжих волос, затем широкий женский зад и огромный бугор плоти. Астрид сидит на ней верхом, трет ей живот чем-то блестящим и дышит в лад с ней. Не забывай, говорит она, это порыв, это хорошая энергия, энергия, необходимая для того, чтобы ребенок вышел на свет. Здесь нет боли. Не тужься. Всему свое время.
Иден морщится, хнычет и, кажется, что-то из себя выпускает, и Астрид говорит: Хорошо-хорошо.
Астрид всовывает два длинных белых пальца в складки Иден и там щупает. Они в крови, когда она их вынимает. Она кивает и бурчит про себя.
Тут внутри Иден что-то начинает наматываться. Она напрягает ноги. В разгар схватки открывает глаза и, увидев Кроха у двери, впивается в него взглядом, а Крох смыкает свой взгляд с ее, толкая туда же, куда толкает она. Затем она расслабляется и откидывается назад. Астрид воркует, а Иден поднимает голову и Кроху подмигивает. Привет, говорит она. Спасибо тебе за это, мартышка.
Астрид оборачивается. Ты, говорит она, ты, Ридли Соррел Стоун! Но, прежде чем она успевает прогнать его, Иден говорит: Нет, нет. Он помог, Астрид. Пусть он останется, а? От него легче.
Астрид подходит к двери и зовет Фланнери, которая, ворча, уводит его вниз и отмывает до скрипа. Назад, наверх он поднимается голым, дрожа от холода. Забирается в постель к Иден, кладет голову ей на плечо. От нее пахнет цикорием, усталостью, луком; она огромная и горячая. Он кладет руки ей на лоб, разглаживает морщинки. За окном смеркается. Люди входят и выходят, среди них встревоженный Эйб. Он пытается поговорить с Крохом. Но Кроху не до того. Люди уходят. Астрид меняет простыни, переворачивая их обоих вместе. Кто-то дает ему кусок теплого хлеба с яблочной пастой, но есть он не хочет. Он остается с Иден. Он спит, когда она между волнами схваток дремлет, и просыпается, когда она выныривает от боли.
В Астрид что-то меняется: она становится быстрой и деловитой. Фланнери массирует Иден плечи. Новый свет разгорается в стеклянных клетках окна. Почему-то уже день. Астрид курлычет, увещевая, а Иден высоким голосом издает стоны, которые Астрид пытается погасить. Входит Мэрилин, свежая и улыбающаяся, с двумя стегаными одеялами и пирогом со сладкой начинкой, расхваливает чудо-ребенка амишей, которого она только что приняла, толстого, голубоглазого и розового, как поросенок. Иден кричит, и Мэрилин, поджав губы, уходит.
Иден заставляет себя съесть чуточку каши, которая застревает у нее в горле. Она пьет чай. Стискивает ручки Кроха, и он не чувствует стали в ее руках до тех пор, пока Ханна, уже потом, поведя его в Душевую, не заплачет, увидев его лиловую кожу, не примется гладить легкими пальцами синяки, будто стремясь смахнуть их.
Тело Иден, когда она тужится, становится как кулак. Крох слышит голоса, говорящие: Хорошо, милая, так, хорошо, головка вышла, отлично, еще разок. Но Иден пристально смотрит в лицо Кроха, клыки ее впиваются в нижнюю губу; и внезапно их всех окатывает вонью дерьма. Затем что-то рвется, что-то скользит, и в руках Астрид оказывается окровавленная, восковая, неистовая красота, существо, которое размахивает крошечными ручонками и вдруг кричит чайкой. Иден и Крох, голова к голове, смотрят на это, полуприкрыв глаза.
Иден тянет руки к девочке, которую Мэрилин уже вымыла и завернула в пеленку. Астрид направляет крошечный ротик к соску Иден, размером с кулак, и показывает младенцу, как зацепиться. Та хрюкает, фыркает и присасывается торопливо – Крох в жизни еще не видел, чтобы кто-нибудь так спешил.
В тусклом свете раннего утра потная, изнемогшая Иден плывет в последних приступах боли. Она держит свое дитя, смотрит на древнее лицо. Крох вбирает в себя все, что сейчас чувствует, и прячет это глубоко внутри, в тайном сияющем месте, которое можно посетить в тишине, в месте, лучше которого нет.
* * *
За Ханной пришли женщины. Они заходят в Хлебовозку, пока Эйб еще там, до восхода солнца. В карманах своей одежды они вносят весенний холод. Дыхание их парит в тепле Хлебовозки. Вставай, вставай, говорят они, и Ханна встает. Великолепные женщины Аркадии, все длинноногие, тонкорукие, в банданах, у каждой белое горло и трещинки по углам глаз, из-за солнца, которое заставляет их щуриться. Они усаживают Ханну за стол, расчесывают ей волосы, туго заплетают их в косу. Они греют воду и раздевают ее. Тело у матери Кроха худое, кости наружу, и женщины оттирают его горячими тряпками. Понемногу ее запах разбавляется розовым мылом Астрид. Ее кожу, ее волосы, ее сон орошают водой, пока то, что является ее собственным, не исчезнет.
Женщины уводят ее.
* * *
Эйб рассеян за ужином – овсяная крупа с соевым соусом, свежий соевый творог. Ханна не возвращалась с тех пор, как женщины ее увели. Крох волен думать, о чем ему вздумается, и думает он о том, что скоро пойдет в лес, чтобы помочь матери. Хорошо бы кто-то сказал ему, что нужно искать, и хорошо бы это был кто-то не слишком страшный. Он вслушивается в ветер, шумящий в соснах, но ветер не разговаривает с ним так, как разговаривает с мальчиками из сказок.
Когда в Хлебовозке все вымыто и прибрано, Эйб доставляет Кроха в Розовый Дударь, чтобы он поспал там в гамаке Коула, мрачно целует его и уходит.
По металлической крыше щелкает ледяная морось. Дети Астрид дышат легко. Мальчики Лисоньки сопят и ворочаются, Коул пинается пятками. Стайка из Семейного ангара сбилась в кучку под одеялами.
Крох поворачивается на другой бок и видит, что у Хелле глаза открыты, желтые в полутьме. Головастик, порождение Хэнди, думает он, пузатый, как груша, странный. Она смотрит на Кроха, ее пучит от желания рассказать. Она проныра и ябеда, подслушивает под дверьми.
Она шепчет: У них сегодня вечером Критика. Ханну будут критиковать. Твою маму.
Крох слышит, как Мэрилин внизу с кем-то разговаривает, похоже, что со Смак-Салли. Он выбирается из гамака, крадется вниз по лестнице. Они курят какую-то дрянь в окно, хотя Салли беременна. Болтают и не оглядываются. Он выходит за дверь.
Трава в ледяном стекле, а он босой, и зябко в тонкой пижаме. Подошвы горят, пока он не перестает их чувствовать, и только размахивая руками он убеждается, что еще бежит. Ветер лупит его по лицу холодной рукой. Между зловещими рядами яблоневого сада хочется прилечь на землю, но он думает о Ханне и торопится дальше.
Вверх по ступенькам из сланца, к Аркадия-дому, по ступенькам каменного крыльца. До дверной ручки он дотянуться не может, но толкает створку, и огромная дверь распахивается.
Остро пахнет лаком, полиуретаном и краской, пчелиным воском, уксусом и потом, опилками, медью, гвоздями. Лестницы отделаны, но на них темно, потому что над ними нет неба, только штукатурка и потолок. Большая люстра собрана по кусочкам, возвышается над головой в полутьме.
По все еще липким половицам, к лестнице, изгибающейся вверх. На полпути он слышит голоса. Еще один коридор, краска клейкая под рукой. Еще одна лестница. Голоса становятся громче. Когда он добегает до двери в задней части Просцениума, голоса звучат очень громко.
Нагнувшись, он прижимается глазом к дверной щели. Ступни оттаяли, обрели чувствительность, и он бы заплакал от боли, если бы сначала до крови не прикусил щеку.
С этой точки видны силуэты, кто-то шевелится, тень руки, поднятой к лицу, головы, которые то сближаются, то расходятся. Выше, приподнятая на сцене, освещенная тремя керосиновыми лампами, сидит Ханна.
Она крошечная, съежившаяся, такая далекая от него. Одна-одинешенька. Руки сложены на коленях, смотрит в пол и кивает. Кто-то из мужчин говорит: …я в том смысле, Ханна, детка, что мы все любим тебя и хотим, чтобы тебе стало лучше, но, понимаешь, это такая фигня, ты как будто бы оттягиваешь у нас энергию, а нам тут до хренища еще работы, чтобы успеть до того, как вернется Хэнди с компанией, и потом, нам ведь и для посевной тоже нужна энергия, ты сечешь?
Ханна кивает, кивает и кивает.
Теперь кто-то другой говорит спокойным холодным голосом:…Махаяна, большая лодка, это забота обо всех, но ты следуешь чистой Хинаяне, а это маленькая лодка, забота только о себе… Ханна кивает.
И еще кто-то, женщина, говорит: Послушай… когда у тебя все хорошо, нет никого лучше, чем ты… Осенью с тобой случилось это несчастье… ужасно потерять ребенка… но ведь это все позади?
И Ханна стискивает руками юбку, лицо ее искажается, а потом разглаживается, и она все так же кивает.
Теперь голос знакомый, голос Титуса. Он гремит: …спятили вы все, что ли, это все равно, что взять кого-то, у кого сломана нога, и прыгать по ней, по этой ноге гребаной… мы тут не для того, чтобы под кого-то подлаживаться… и я знаю, о чем говорю, Ханна, я был там, где ты сейчас, мне было так погано, такая была тоска, хоть повесься, так что я знаю, каково это, и плюнь ты на этих гребаных лицемеров…
Общий шум, Титуса перекрикивают. Ханна смотрит в зал, находит лицо, на котором можно сосредоточиться, пристально туда смотрит. В этот момент она присутствует здесь вся, целиком. Его мама, такая тоненькая, такая далекая.
Не в силах устоять, Крох распрямляется рывком, вскакивает и бежит к сцене. Бесконечно долго бежит. Мимо тех, кто сидит на лавках, мимо тех, кто устроился на полу, к лесенке, а потом по ней, вверх. Из тени в неглубокую лужицу керосинового света, в центре которой одна Ханна. Он взбирается к матери на колени, обхватывает ее голову руками. Он спиной чувствует на себе тяжелые взгляды тех, кто в зале. Длительное мгновение не случается ничего, тишина.
Краткий миг влажного тепла на его животе, прижатое к нему лицо матери.
Краткий миг ее губ, приникших к нему, поцелуя через рубашку.
Тут Эйб вскакивает на сцену и забирает Кроха у матери, и вот уже Крох плывет по проходу в стальных руках Эйба. Эйб что-то шепчет ему горячо на ухо; Крох бьется и извивается, он хочет назад, к Ханне. Борется он молча, отчаянно, и только когда они, спустившись изогнутой лестницей с третьего этажа, выходят в ночь, он наконец слышит, что Эйб ему говорит: Я знаю, малыш, я знаю, тебе очень больно, я знаю, что ты держишь это в себе… Эйб бережно прижимает его к себе. Крох цепляется за отца. Отец – это тепло и то незыблемое, что есть у него в этом шатком, вертящемся мире, сила притяжения, которая его держит. Он жмется к Эйбу и отталкивает его, чтобы вырваться, чтобы вернуться к Ханне, хватается, отпихивает, обнимает. Эйб говорит: …не обязательно выпускать это наружу… На полпути к дому, когда Эйб рысит уже по твердой земле, внутренний крик Кроха вскипает, булькает и выплескивается кислым потоком рвоты.
* * *
Ночью он слышит: Сейчас или никогда, детка. Я оставил “жука” снаружи, ключи в замке зажигания.
Тишина такая долгая, что Крох почти что заснул. Затем, шепотом: Нет.
Тогда ты должна постараться. Хотя бы начать стараться. Ты должна. Ты должна.
Голос его отца хриплый, дрожащий, и от этого у Кроха все хрипит и дрожит внутри.
Очень долгое молчание. Крох почти что совсем заснул, но тут послышалось тихое-тихое: Я постараюсь.
* * *
Просыпается он с ощущением, что его что-то гложет. Он дышит в лад с Ханной, а потом Эйб встает, кормит их и отводит Кроха в Розовый Дударь. Прежде чем уйти, Эйб опускается перед ним на колени, отводит его челку от глаз и произносит: Когда захочешь, поговори со мной, ладно?
Весь день напролет Кроха гложет и гложет. Безымянное зло толкает его куда-то, от этого ноют плечи. Хочется вспороть все подушки и разбросать все гамаки по Двору.
Одного молчания мало. Нужно еще Задание. И если в ближайшее же время не отправиться на поиски того, что спасет Ханну, он боится того, что натворит.
Лисонька пытается мягко поговорить с ним, но он убегает. Детское стадо сегодня не шумит. Доротка, оторвавшись от посадки семян в солярии, повела малышей в лес, чтобы рассказать им о деревьях. Топая, он тащится позади всех. Он должен это сделать. Но что? Страстное стремление извивается в нем и трепещет.
Детское стадо лугом направляется в лес. Крох отстает сначала на пять шагов, потом на десять.
Земля здесь уже подсохла, образовав ямы и выбоины. Берега бархатные от краснотала; ивы с другим названием усыпаны золотыми бутонами. Лисонька и Мария самых маленьких в колясках увозят назад в Розовый Дударь. Джинси, Маффин и Фиона скатываются по поросшему нежной травой склону. Мальчики, колотившие палками по всему подряд, стихают, чтобы послушать Доротку. Смотрите, уговаривает она, это ильм из семейства вязовых. Ильм или вяз. У него простые чередующиеся листья, которые только-только раскрылись, смотрите! Он родом из Азии. Размножается семенами-крылатками, давайте посмотрим, ага, ага, вот одно семечко сохранилось с прошлого года.
Она поднимает семечко, отпускает его, и оно летит, вертясь, как пропеллер.
Доротка сияет. И дети сияют. Весна, говорит она, это как письмо от любимого человека.
Доротка обнимает ствол, и один за другим дети тоже обнимают деревья. Они уходят глубже в тень. Разбитое сердце! Бикукулла! – выкликает Доротка. Смотрите-ка, это епископские шапки, мителла. А это калина.
В сером небе возникает разрыв, в который просачивается солнце, луч падает на землю, подсвечивает свежие почки. Вот оно, понимает Крох с биением сердца в горле – там, где раньше жили его слова. Отсюда он уйдет на Задание. Крох прячется за гнилым бревном, где на подстилке из мха растет папоротник. Он смотрит, как остальные уходят. Скоро их не слышно совсем.
Под бревном прохладное местечко, там снег. Из-под снега пробилась дикая земляника с малюсенькими ягодками, которые он съедает, и яркий сладкий сок пачкает ему руки. Это хорошо, это знак, что следует идти дальше, чтобы найти то, что нужно найти.
Он сходит с тропинки и углубляется в лес. Он один, и все вокруг острое, полное голодной жизни. Два бурундука гоняются друг за другом по веткам, один соскакивает на землю, подпрыгивает и снова бежит. Заросли хватаются за одежду и нехотя отпускают. Где-то поет ручей: Крох сворачивает и чуть не сваливается в него. Ложится на живот, свешивается и гладкой подобранной им палкой почти что дотягивается до воды. Голова его – темное пятно на белом небе, обрамленном черными отражениями деревьев; в одежде полно репьев. Что лицо исцарапано, он осознает, только увидев, как капля крови падает, всасывается в воду и растворяется, как дымок.
Вот сейчас, думает он. Может быть, из воды. Хорошо бы золотой лебедь или водяная нимфа, но сойдет и тролль, уродец ростом с Кроха, горный дух. Он ждет. Но нет, никто не выскакивает.
Чуть погодя он идет дальше. Он устал, у него ноют кости. Похолодало, и небо над зеленеющими ветвями набралось синевы. Из ниоткуда белыми глазищами фарфоровой куклы пялится на него ядовитый воронец. Через пролом в стволе дерева он видит полную раннюю луну, она напоминает пирог. Но, вглядевшись внимательней, различает там отпечаток лица. Почему никто не сказал ему, что человек на луне в тревоге кричит?
Крох такой маленький. А лес такой черный, большой.
Когда он находит прогалину между деревьев, полянку, ног он уже не чует – онемели. В воздухе там безветрие и духота. Из выжженной снегом травы торчат камни, и Крох вспоминает про зубы Астрид, какие они желтые и натыканы как попало.
Он садится, чтобы собраться с мыслями, и обнаруживает, что пальцы его обводят слова, вырезанные на камнях. “Минерва”, вырезано на одном, “Чье Имя Читается В Небесах”.
“1857 год”, вырезано на другом.
А на крохотном, как молочный зуб, вырезано только “Вздохнул разок – и исчез”.
* * *
Он не знает, долго ли там сидит. Деревья перешептываются между собой. Камень под ним совсем остыл, сгущаются сумерки. И кажется, будто чья-то рука, схвативши натянутую ткань посередке, стянула ее и приподняла.
* * *
Краем глаза он видит: движется что-то белое. Десять вдохов, не шевелясь, он косится на это, а потом поворачивает голову, рассмотреть. Наверное, один из камней уползает в темноту, думает он, но нет, это не камень.
Это животное, островерхое, белое и высокое, с бахромой. Грациозное, как белый олень, но не олень.
Оно смотрит на Кроха желтым глазом и принюхивается. Сбоку от него тени сгущаются. Рисунок их течет вертикально и становится тканью. Крох, съежившийся, тихий и неподвижный, поднимает глаза вверх по платью, чтобы найти лицо. На него смотрит женщина, очень старая.
Это ведьма – та, встретить которую он мечтал. Но она не уродлива: у нее мягкие белые волосы с черной прядью, а на щеках – розы. Вокруг рта много глубоких морщин, зато сами губы как бархатные. Она так на него смотрит, что он чувствует себя наколотым на булавку.
Они разглядывают друг друга, женщина и Крох.
Вот она, сердцевина Задания, то, что он стремился найти, поворотная точка. Он ждет, что она заговорит или даст ему мешок золота, даст приворот или противоядие, пузырек, яблоко, желудь, который надо расколоть и высыпать что там внутри, даст шелковое платье, подкову, перо, слово. Она скажет, она даст, она поможет ему. Он ощущает свою малость в этом огромном сумрачном мире, но знает, что сделает то, о чем она его попросит. Даже если придется вечно жить с ней в каменной башне в лесу и никогда больше не видеть Аркадию, он все равно сделает это.
Он думает о Ханне, как она лежит кучкой в постели. Он просит: Пожалуйста!
Хочется закричать, но страшно, что сработает старое проклятие, которое обрушится на Ханну, если его губы расколются и высыплется его тоска.
Он ждет, но женщина отступает назад и снова становится лесом. Затем и белое существо поднимает свою тоненькую переднюю ногу и, пыхнув из ноздрей паром, уносится прочь. Звуки все затихают. Он сидит в синих сумерках, один. Его руки пусты, как прежде.
Понемногу сердце начинает биться ровней, он решает, что готов отправиться в путь. Джинсы мокрые на заду и в паху. Лес подавляет так мощно, что едва получается дышать. И плакать не получается, не до того.
Крох бежит, громко хрустя хворостом, оступаясь на выбоинах. Деревья, как сны, высятся над ним в темноте, а он только и может, что их обогнуть. Позади него что-то шуршит сухими листьями, вот сейчас оно догонит его и схватит своими костлявыми пальцами. Он бежит все пуще, и оно за ним тоже, торопится, и он слышит за собой пугающее дыхание, но, долго ли, коротко ли, до него все-таки доносится плеск воды, и он выскакивает на каменистый край Пруда. Пруд сейчас кажется огромным, и он понимает, что находится напротив того берега, где они обычно купаются. Поверху длинной черной лужайки видны приземистые хозяйственные постройки: Соевый молокозавод, Пекарня, Восьмиугольный амбар; виден и Аркадия-дом, окна которого освещены кое-где благодаря новому генератору, который раздобыли парни из Гаража. Даже здесь, на дальней стороне Пруда, слышно, как он рокочет.
Свет согревает окно наверху, где, представляет себе Крох, его отец, добрый бородатый Эйб, навешивает новую дверь. Сразу становится легче, если представить себе, как Эйб в свете фонаря чинит, мастерит, улучшает. В этом суть Эйба, он уравновешивает и утешает. В арочных окнах Едальни также золотое тепло. Сегодня на вечер, вспоминает он, назначен первый совместный ужин в Аркадия-доме. Приготовят его на сверкающей нержавейкой кухне, добытой в заброшенном ресторане в Итаке. Хорошо бы и мама потянулась к свету, теплу и еде. Больно думать о том, что кто-то будет смеяться в Едальне, а мама будет лежать одна в своей постели.
Лед вдоль границы Пруда тонкий, как стеклянное украшение. Крох на бегу им хрустит. Добежав до той тропки, где летом расцветет львиный зев, он наддает. Вдалеке движутся цепочкой, светя себе фонариками, люди, поднимаются из Эрзац-Аркадии по дорожке.
Он врывается внутрь, в ошеломляющее тепло. Здесь тоже заросли ног, похожих на березовые стволы, он чуть не натыкается на один из них. Эй, ты, чувачок, окликает его один. Что случилось, малыш? – спрашивает другой. Оппа! Что это сейчас было? – удивляется третий, и ему отвечают: Ничего такого, подумаешь, лесной эльф, – и все хохочут, а он стискивает кулаки и ломится дальше.
В кухне так жарко, что даже больно. И пахнет до того вкусно, хоть плачь. Что-то они жарят, овощное рагу. Он находит Ханну, которая над огромной стальной кастрюлей подмешивает к жареной свекле уксус, обнимает ее колени. Она улыбается ему сверху вниз. Подхватывает его, над одной из раковин теплой водой отмывает ему лицо, огладив руки, бормочет: Брр, вытаскивает из волос листья и веточки, поднимает повыше, принюхивается к его заду и, дернув плечом, ухмыляется. С кем не бывает, шепчет она. Как по мне, так это нормально – время от времени обмочиться.
Он прижимает лицо к теплому рту матери, и вот тут существо из лесу, гонитель, отступает и растворяется в ночи.
В Едальне, под деревянными балками, они садятся за недавно покрытые лаком столы, чтобы выразить благодарность. Кто-то говорит: Итадакимас, я принимаю эту пищу с благодарностью ко всем существам, что участвовали в ее приготовлении; затем все накладывают еду на тарелки. Ханна сажает Кроха к себе на колени, обхватывает его, укачивает. Со своей вилки скармливает ему кусочки хлеба с подливкой, и все, что случилось за день, накрывает его с головой. О чем толкуют люди вокруг, становится не понять. С непрожеванным ломтиком сейтана[18] во рту он смыкает глаза и засыпает.
* * *
У него вышло, хотя он понятия не имеет, что сделал, как это удалось. Ни ключа ему не вручили, ни слова не велели сказать.
1
Амиши – самое консервативное направление в меннонитстве (разновидности анабаптизма), возникшее в 1693 г. в Эльзасе. Отличается простотой жизни и нежеланием принимать современные технологии и удобства (Здесь и далее прим. пер.).
2
На санскрите – название влагалища, матки.
3
Меньше полутора килограммов.
4
Бартлби – герой новеллы Германа Мелвилла (1819–1891) “Писец Бартлби”, который, концептуально бездействуя, все-таки дает понять, что политическая позиция у него есть.
5
Темпе – ферментированный продукт питания, приготовляемый из соевых бобов, со вкусом грибов, сыра и мяса одновременно.
6
Кокейн – мифическая страна изобилия и безделья во французской и английской литературе XII–XIII веков; в старых русских переводах – Кокань, “молочная река, кисельные берега”.
7
Ле Петоман – прозвище французского артиста эстрады Жозефа Пюжоля (1857–1945). Напрягая мышцы живота, он “художественно” пускал газы.
8
Капитан Америка – супергерой комиксов, придуманный писателем Джо Саймоном и художником Джеком Кирби в 1940-х гг.
9
Аллюзия на виниловую пластинку с речами Ричарда Никсона, президента США в 1969–1974 гг., под названием “Я не плут!” (“I am not a crook!”), выпущенную звукозаписывающей компанией “Альбатрос Рекордс”.
10
Римский поэт Вергилий (70 г. до н. э. – 19 г. до н. э.) в “Буколиках” поэтизировал Аркадию, область Древней Греции, где счастливо пасут свои стада пастухи. Латинское выражение Et in Arcadia ego в силу своей грамматической неясности трактовалось по-разному. Так, в стихотворении Батюшкова, вошедшем в либретто “Пиковой дамы” Чайковского (романс Полины), оно цитируется как “И я, как вы, жила в Аркадии счастливой”. Однако и стихотворение это называется “На гробе пастушки”, и на упомянутой в книге картине французского живописца Николя Пуссена (1594–1665) изречение исходит от Смерти: “и в блаженной Аркадии я есть”.
11
Илиум – возможно, подразумевается Трой, город на востоке штата Нью-Йорк, под именем Илиум фигурирующий в ряде романов Курта Воннегута (1922–2007). Саммертон – возможно, аллюзия на Саммертаун в штате Теннесси, где до сих пор существует община “Ферма”, подобная той, что описана в этой книге.
12
Нет, я ни о чем не жалею (фр.).
13
Пиньята – полая игрушка довольно крупных размеров, изготовленная из папье-маше или легкой оберточной бумаги, с орнаментом и украшениями.
14
“Tiptoe through the tulips” – песенку, написанную в 1929 г. для кинофильма “Золотоискатели Бродвея”, в 1968 г., когда происходит действие этой книги, перепел фальцетом популярный певец Тайни Тим (1932–1996), Крошка Тим.
15
Очень приблизительный пересказ фрагмента второго сонета из “Сонетов к Орфею” Райнера Марии Рильке (1875–1926).
16
Песня канадского композитора Джеффри О’Хара (1882–1967) в исполнении Энрико Карузо (1873–1921), запись 1913 г.
17
Секретариат – чистокровный американский скакун, прославился тем, что выиграл Тройную Корону в 1973 г.
18
Сейтан – пшеничная клейковина. С середины XX в. вегетарианцы на Западе используют ее как альтернативу мясу.