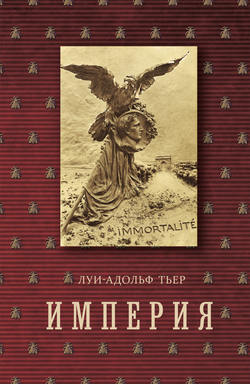Читать книгу История Консульства и Империи. Книга II. Империя. Том 4. Часть 2 - Луи-Адольф Тьер - Страница 3
LV
Правление Людовика XVIII
ОглавлениеПосле возвращения Бурбонов не прошло и двух месяцев, а Франция уже являла собой самый странный контраст с тем, чем была или казалась последние пятнадцать лет. Ведь при начале Империи, на исходе кровавой революции, во время которой люди с таким неистовством бросались друг на друга, всех подхватила могучая рука Наполеона, и французы погрузились в полную физическую и моральную неподвижность, будто забыли самих себя, свои страсти и мнения. Внезапное падение Наполеона, освободив их от его железной хватки, восстановило чувства, сообразные ситуации. Роялисты ощутили необычайную радость, революционеры – радость и тревогу, бонапартисты – потрясение внезапностью удара. Мнимое единство Империи внезапно рассыпалось, и вновь оказались лицом к лицу дворяне и буржуазия, богомольцы и философы, присягнувшие и не присягнувшие священники, солдаты Конде и солдаты Республики, готовые схватиться, если правительство не сдержит и не укротит их примером здравомыслия.
Разобщение проявилось и при дворе. Граф д’Артуа, глубоко задетый всеобщим осуждением его недолгого правления, сокрушенный тем, что невыгодный мир приписали заключенной им конвенции, а трудности взимания налогов – его поспешным обещаниям, удалился в Сен-Клу предаваться своим горестям, а тем временем его друзья образовали при дворе группу недовольных. Вокруг нее сплотились все, кто открыто называл короля якобинцем и находил, что Революции делают слишком много уступок.
Тогда как в Тюильри образовалась партия роялистов бо́льших, чем сам король, в Пале-Рояле формировалась партия совершенно противоположная и без участия человека, который должен был бы ее возглавить, – партия герцога Орлеанского. Старый солдат Республики, герцог рано набрался опыта, ведя жизнь, исполненную бурных волнений, был образован, умен и дальновиден, хорошо знал эмигрантов и высмеивал их в своем семейном кругу. Он был так рад возможности вернуться на родину, что думал только о том, чтобы обезопасить себя от нападок роялистов, ненавидевших его с той же силой, с какой они ненавидели его отца. В то время как герцог Орлеанский, не ища себе приверженцев, занимался исключительно воспитанием своих детей и собиранием их рассеявшегося состояния, ему тысячами подготавливали приверженцев роялисты, преследуя его своей ненавистью и привлекая к нему внимание революционеров всех мастей.
Итак, справа от короля стоял граф д’Артуа, окруженный недовольными роялистами, а слева – герцог Орлеанский, окруженный недовольными либералами.
В иных краях, несколько оправившись от падения, начинали с осторожностью и без враждебных выпадов объединяться высшие сановники Империи, не сумевшие или не пожелавшие примкнуть к Бурбонам. То были Коленкур, который не получил пэрства, несмотря на заступничество императора России, и держался в тени, весьма сокрушенный невзгодами Франции и оклеветанный из-за похищения герцога Энгиенского; Камбасерес, живший уединенно и принимавший лишь немногих старых друзей; герцоги Бассано (Маре), Кадорский (Шампаньи), Гаэтский (Годен), Ровиго (Савари) и графы Мольен и Лавалетт. Они обсуждали меж собой катастрофу, свидетелями которой стали, со злорадством, дозволительным для проигравших, взирали на трудности, одолевавшие их преемников, и с осторожностью навещали королеву Гортензию, которая вернулась в Париж, дабы отстаивать, под покровительством императора Александра, интересы своих детей. Гортензия недавно потеряла мать, императрицу Жозефину, умершую от простуды, которую подхватила, принимая в Мальмезоне императора Александра. Приветливую и добрую Жозефину единодушно оплакивали все, кто ее знал, оплакивал ее и народ, видевший в этой смерти очередное падение. Итак, одна из двух жен узника Эльбы умерла от горя, а другая удалилась в земли своего отца, без короны и с дитятей без удела, уже почти забывшая мужа, с которым разделяла власть над миром.
В Париж также прибыли Сульт, лишившийся командной должности и неосмотрительно выражавший свое недовольство; Массена, забывший о несправедливостях Наполеона перед лицом несчастий Франции, – оскорбленный тем, что его сочли иностранцем, нуждавшимся в натурализации, он жил уединенно и тихо и не ходил в Тюильри за своей долей почестей, обеспеченной всем маршалам; наконец, Даву, который гордился своей обороной Гамбурга, вовсе не тревожился о болтовне роялистов и неприятельских генералов и удалился в имение Савиньи, где трудился над мемуарами.
Близко к этим людям, но не смешиваясь с ними, собирались революционеры всех оттенков, ничуть не враждебные армии, но отделявшие себя от нее, а особенно от ее вождей. Испытав недолгое удовлетворение при виде падения Наполеона, они начинали волноваться. Наиболее скомпрометировавшие себя собирались у Барраса, где оплакивали крах свободы, который приписывали Наполеону. К ним присоединились и некоторые военные, к примеру, Лефевр, который отличился при Империи и был вознагражден ею, но сохранил в душе прежние чувства и под раззолоченным костюмом маршала скрывал республиканца. Республиканцам симпатизировали жители предместий, не такие смелые, какими были некогда, но готовые вновь восстать под влиянием событий и политических дискуссий. Также в стороне, но неподалеку держались более заметные революционеры, которых Наполеон принял поначалу хорошо, но впоследствии отдалил от себя из-за их убеждений или ошибок, и многие сенаторы, не ставшие пэрами по причине того, что голосовали за казнь Людовика XVI.
Между тем во Франции имелись не только партии, мечтавшие о восстановлении старого режима либо сожалевшие о временах Революции или Империи. Многие выдающиеся люди обращали свои взоры в будущее, не имея предубеждений против какой-либо эпохи, и искали свободы при Бурбонах, о возвращении которых, по их мнению, не следовало сожалеть, если суметь ужиться с ними и если они научатся уживаться с Францией. Такие люди собирались, к примеру, у госпожи де Сталь, вернувшейся из изгнания и нуждавшейся в Париже не меньше, чем Париж нуждался в ней, ибо она была душой просвещенного общества. Она принимала в своем салоне и побежденных, и победителей и с горячим красноречием старалась всем доказать, что при Бурбонах надобно добиваться свободы в британском духе. Наиболее выдающимися членами ее кружка были Бенжамен Констан и Лафайет. Первый также вернулся из изгнания и готов был пролить свет на спорные вопросы конституции с помощью своего блестящего пера, другой не без удовольствия встретил Бурбонов, при которых прошла его молодость, и был склонен примкнуть к ним, если они будут добры к стране. Эти люди блестящего ума начинали формировать партию, которая впоследствии получила название конституционной.
Именно этой партии, как никакой другой, симпатизировала парижская буржуазия. Миролюбивая и лишенная честолюбия, она не искала должностей, а требовала только возрождения деловой активности; надеялась на Бурбонов; желала получить вместе с миром разумную свободу (которая прежде всего состоит в возможности препятствовать ошибкам власти) и даже была готова предоставить новой власти свою поддержку в виде гвардии, лишь бы слишком явно не задевали ее мнений, чувств и достоинства. Вышедшая из Революции, но не запятнавшая себя преступлениями, стремившаяся только к общественному благу, буржуазия в ту минуту выражала подлинные интересы Франции.
В провинции господствовали те же чувства, но более разнообразных оттенков и более свободно выражаемые. Нижняя Нормандия, Бретань и Вандея, провинции, спокойные при Империи, ныне поднялись. С невероятной быстротой собирались шуаны во главе с прежними вождями и вооружались, еще не зная, с кем будут воевать, но уже грозя своим старым противникам и поддерживая короля. Местные власти призывали их к спокойствию, заверяя, что королю не грозит никакая опасность и в их помощи нет нужды, но тайные вожаки шуанов, из тех эмигрантов, что сожалели о потерянных имениях или притязали на должности, утверждали, что префектам верить нельзя, а государи, напротив, желают, чтобы они оставались наготове. Это движение было направлено главным образом против приобретателей государственного имущества, малочисленных в больших городах, но формировавших весьма значительный класс в сельской местности. Почти все они в 1789 году сочувствовали Революции и, поскольку считали священников и дворян врагами, без особых угрызений совести приобрели за бесценок их имущество, весьма подняв на него цены впоследствии. Теперь они тревожились за себя и свою собственность. Не веря в искренность властей, эти люди еще не взялись за оружие, но вскоре могли начать вооружаться.
Ко всем этим волнениям следует добавить страсти духовенства, намного более неосторожного, чем все те, кто мечтал о восстановлении старого порядка. Возродились старые распри между присягнувшими и не присягнувшими священниками. В некоторых епархиях еще служили старые номинальные епископы, не подавшие в отставку по требованию папы в 1802 году, они отказывались повиноваться действующим епископам, назначенным императором и утвержденным папой. Немало подобных случаев имело место в Турени, Перигоре и Мансе, где Конкордат попирали и объявляли детищем Революции. Признававшие его священники, обычно из числа присягнувших, попадали в немилость.
Духовенство и дворянство всюду твердили, что хотя Бурбоны и не смогли воздать им по справедливости тотчас по возвращении, они сделают это в ближайшее время, потому что этого желают граф д’Артуа и его сыновья, а они заставят короля желать того же.
Положение начинало сильно беспокоить буржуазию, у которой не было интересов в вопросе государственного имущества, но которая дорожила общественным порядком и страшилась попытки восстановления старого режима. За два месяца дело дошло до того, что Нант, один из тех приморских городов, где более всего ценили мир и Бурбонов, сделался почти враждебным Реставрации из-за окруживших его со всех сторон шуанов. Бордо, именовавший себя городом 12 марта, потому что в тот день он отворил ворота герцогу Ангулемскому, не переменил настроений, но тоже предъявлял исключительные требования, противоречившие общим интересам[2].
Город категорически отказывался платить droits rJunis[3], горько сетовал на потерю Иль-де-Франса и безудержно ругал англичан, которых встретил поначалу с пылким энтузиазмом. Тулуза выказывала почти те же чувства, с некоторыми, однако, отличиями. В этом городе, чуждом морским интересам, меньше чувствовалась враждебность к англичанам, но там царила лютая ненависть между роялистами и революционерами. Жители Монпелье и Нима демонстрировали те же чувства, к которым прибавлялось прискорбное осложнение в виде религиозных ссор: католики ненавидели протестантов, считали себя лишившимися за последние двадцать пять лет всех преимуществ и готовы были дойти до крайнего насилия, от которого их с трудом удавалось удерживать. Протестанты, со своей стороны, начали вооружаться, дабы защитить свою жизнь. В Арле и окрестностях приобретатели государственного имущества подвергались не только угрозам: у некоторых из них прежние владельцы силой отбирали имения.
Марсель превосходил всё, что мы рассказали о южных городах. Он, естественно, не хотел платить droits rJunis, но еще и требовал, чтобы ему вернули прежнюю торговлю с Востоком, освободили от торгового законодательства, действовавшего во всей Франции, и сделали вольным городом, чтобы он мог торговать со всем миром, не терпя никаких ограничений, установленных для защиты национальной промышленности. Всё, что мешало исполнению этого пожелания, следовало упразднить как порождение узурпации, а чтобы король был волен делать то, что устроит его наивернейших подданных, ему следовало получить всю полноту власти и не быть связанным ни хартией, ни какими-либо иными институтами революционного происхождения.
В Валансе и Лионе эти чувства постепенно менялись на почти противоположные. Если в Лионе и имелись пламенные роялисты, помнившие об осаде 1793 года, то там имелись и многочисленные сторонники Империи, помнившие о благодеяниях Наполеона в отношении их города и расцвете промышленности в эпоху его правления; присутствие и бесчинства оккупационных войск только укрепляли их расположение. Во Франш-Конте, Эльзасе, Лотарингии, Шампани и Бургундии – провинциях, сделавшихся военным театром, – попранные патриотические чувства превращали жителей в бонапартистов. Увидев, как упорно и стойко сражается Наполеон с европейской коалицией, и разделив с ним тревоги и тяготы войны, эти провинции снова примкнули к нему. Они ненавидели иностранные армии и были холодны к Бурбонам, потому что те вернулись, следуя за врагом.
Таким образом, правительство сталкивалось в восточных провинциях с холодностью и неприветливостью, менее для него обременительными, впрочем, чем беспорядочная пылкость друзей с Запада и Юга.
Ко всем взыгравшим одновременно стихиям добавлялась еще одна – старые солдаты, возвращавшиеся во Францию из плена и иностранных крепостей. Через Перпиньян из Испании вернулись 20 тысяч человек; через Ниццу и Тулон из Генуи и Тосканы – 10 тысяч; через Шамбери из Итальянской армии – 30 с лишним тысяч; через Страсбург, Мец, Мобёж, Валансьен и Лилль – не менее 80 тысяч солдат из Вюрцбурга, Эрфурта, Магдебурга, Гамбурга, Антверпена и Берген-оп-Зома. В Дюнкерке, Кале, Булони, Дьеппе, Гавре, Шербуре и Бресте высадились более 40 тысяч солдат, переживших ужасы английских понтонов[4]. Ожидалось еще возвращение значительного количества пленных из России, Германии, Англии и Испании. У всех этих солдат на шапках красовалась трехцветная кокарда, которую их тщетно убеждали снять. Большинство из них были старыми солдатами, сохранявшими в душе чувства, царившие на их родине, когда они ее покидали; и хотя они не раз возмущались Наполеоном, но видели в нем представителя величия и независимости Франции, а в Бурбонах – его полную противоположность. Среди них укоренилась мысль, что в их отсутствие враг при помощи дворян и священников осуществил гибельную для Франции и армии революцию. Эта мысль вселяла в солдат ярость и глубокое презрение к правительству – ставленнику и сообщнику врага.
Потому понятно, с какими трудностями сталкивалось королевское правительство, пытаясь подчинить возвращавшиеся во Францию войска. Большинство солдат перенесли жестокие невзгоды; среди них было немало таких, кому уже год-полтора не выплачивали жалованья. И они гневались за это не на Империю, а на Реставрацию.
Заискивания перед армейскими военачальниками являлись слабым средством успокоить и завоевать армию. Наши солдаты не считали себя почитаемыми в лице своих маршалов, обнаруживая Бертье, Удино, Нея, Макдональда, Ожеро или Мортье восседавшими при дворе рядом с королем и принцами и осыпанными самыми лестными знаками внимания. Напротив, эти почести солдаты считали наградой за преступный переход на сторону врага. Тем самым, заискивая перед военачальниками, монархия только теряла собственное достоинство и лишала достоинства военачальников, ничуть не завоевывая любви офицеров и солдат.
В Париже собралось множество офицеров, которые прибыли в столицу узнать о своей участи и посетовать на превратности судьбы. Повторные приказы военного министра вернуться в строй, грозившие потерей прав, если инспекторы на смотрах обнаружат их отсутствие, оставались невыполненными. Пользуясь общим беспорядком, офицеры задерживались в Париже, собирались в общественных местах, осыпая Бурбонов оскорблениями и насмешками. Рядом с ними можно было видеть многочисленных служащих, вернувшихся из отдаленных провинций, – таможенников, сборщиков налогов, комиссаров полиции, – которые никого не оскорбляли и не насмехались, но оплакивали свою нищету. Поминутно случались потасовки, в которых военные одерживали верх, а правительство, не имевшее возможности применить для восстановления порядка иностранные войска, прибегало к помощи национальных гвардейцев, один вид которых возрождал спокойствие. Им повиновались, потому что видели в них защитников общественного покоя, нередко разделявших чувства молодых людей и даже если подавлявших их порывы, но лучше, чем они, понимавших необходимость покориться обстоятельствам, ожидая благополучия Франции не от прошлого, а от будущего.
Прежде всего, новому правительству следовало привлечь к себе армию, произвести ее неизбежное сокращение, которого требовал переход от войны к миру, и, принуждая ее к болезненным изменениям, провести их так, чтобы она не могла приписать свои лишения ни злой воле, ни пристрастности в отношении эмиграции. Нельзя было задевать революционеров, ибо оставалась опасность подтолкнуть их к сторонникам Империи, с которыми они пока не объединились. Затем нужно было успокоить приобретателей государственного имущества и не дать им превратиться в бонапартистов. Следовало сдержать сохранившее верность Бурбонам духовенство, помешать ему травить присягнувших священников, составлявших подавляющее большинство, и не вызвать в последних тревоги за Конкордат, их единственную гарантию. Словом, нужно было постараться не обратить в своих неумолимых врагов встревоженные классы, сожалевшие о нелюбимой ими Империи, и не подтолкнуть в стан недовольных буржуазию, ибо разумная, беспристрастная и умеренная буржуазия и была главной и почти единственной опорой правительства.
Из всех дел самым неотложным стала реорганизация армии. Прежде всего решено было выплатить задержанное жалованье, в котором солдаты испытывали величайшую нужду. Барон Луи тотчас согласился выделить 30–40 миллионов наличными. Он открыл необходимые кредиты военному министру, но использование этих кредитов сдерживали два фактора: трудность доставки бухгалтерских документов из отдаленных пунктов и сумятица при реорганизации военного министерства. Поспешив вернуть прежнему владельцу здание министерства, представлявшее собой непроданное имущество, генерал Дюпон вызвал временное расстройство управления и задержки в работе. Однако он сделал всё возможное, чтобы выплатить авансы корпусам, прибывавшим из дальних гарнизонов и оказать некоторое вспомоществование пленным, стекавшимся из всех стран.
После первых мер следовало приступать к реорганизации армии и ее сокращению до соразмерной нашей территории и нашим финансам величины. После возвращения гарнизонов и пленных численность армии должна была дорасти до 400 тысяч солдат всех родов войск, что надолго избавляло от необходимости прибегать к конскрипции и позволяло ее временно отменить, отложив обсуждение закона о воинском призыве на более позднее время. Отпустив часть людей, к примеру, наиболее уставших, в отпуск и удержав других, можно было получить великолепную армию из самых испытанных солдат. Но хватит ли денег на ее содержание и обеспечение участи 40–50 тысяч офицеров?
Вопрос бурно обсуждался на королевском совете, где заседали, как мы знаем, члены бывшего временного правительства и министры. От Дюпона потребовали представить план, а тот, в свою очередь, потребовал, чтобы барон Луи назвал сумму, которую он может выделить на армию. Министр финансов объявил, что не сможет ответить, пока не получит бюджеты всех департаментов и не сумеет восстановить сбор налогов. Герцог Беррийский, вкладывавший в заботу об армии искреннюю склонность и законный расчет, потребовал от министра финансов объяснений, и тот обещал дать не более 200 миллионов. Для содержания 400 тысяч солдат и офицеров этого было недостаточно. При соблюдении строжайшей экономии удалось бы сохранить под знаменами 200 тысяч человек;
но при неизбежных затратах, проистекавших из перехода от войны к миру, это было почти невозможно: удавалось сохранить от силы 150 тысяч. При этом требовалось воздержаться от трат на роскошь. И тут вставал вопрос об Императорской гвардии. Ее роспуск казался весьма затруднительным и опасным, однако сохранить ее и при этом не доверить ей охрану особы государя было еще опаснее. Дюпон и принцы решили, что и осторожнее, и приличнее сохранить Старую гвардию в качестве элитного корпуса, с высоким жалованьем, привилегиями и почетным титулом, не доверяя ей, тем не менее, охрану короля, которую передавали Военному дому. Остатки Молодой и Старой гвардий объединили в два пехотных полка по четыре батальона в каждом: полк французских гренадеров и полк французских пеших егерей. Так же поступили с кавалерией, разделив ее на четыре полка – кирасирский, драгунский, егерский и уланский – с прежними привилегиями. Артиллерийский резерв был распущен и разослан по корпусам, из которых набирался. Общая численность гвардии доходила до 8 тысяч человек пехоты и кавалерии, которые должны были обходиться казне как 15–18 тысяч солдат. На важный вопрос, подобает ли экономящему государству иметь элитные корпуса, правительство дало, как мы увидим, необычный ответ, создав два таких корпуса.
Затем наступил черед линейных войск, которым следовало срочно обеспечить посильное содержание. Министр предложил создать 90 линейных пехотных полков, по три батальона из шести рот в каждом, и 15 полков легкой пехоты, что составляло 105 пехотных полков, способных содержать 300 тысяч боеготовых пехотинцев. Cтолько пехотинцев и было в настоящее время: они собирались после возвращения из-за границы. Имея возможность содержать не более половины из них, остальных предстояло отправить в неограниченный отпуск, в котором люди рисковали умереть с голода, если не освоят какую-нибудь профессию, а если освоят, то будут потеряны для армии, которая лишится несравненных солдат.
Решение участи офицеров представляло еще большие трудности. Согласно предложенной организации без должностей должны были остаться 30 тысяч офицеров. В их отношении, как и в отношении Императорской гвардии, было принято половинчатое решение: тех, кто не мог быть включен в предложенную систему, оставляли на счету полков с уплатой половины жалованья и правом на две трети освобождавшихся мест. Это значило одновременно создать весьма опасный класс недовольных и запретить почти всякое продвижение оставшимся кадровым офицерам.
Так же поступили в отношении кавалерии, обойдясь с ней чуть менее строго. Оставили 56 кавалерийских полков, по четыре эскадрона в каждом, в том числе 14 полков тяжелой, 21 полк средней и 21 полк легкой кавалерии, с действительным составом в 36 тысяч конников. Сохранили 12 артиллерийских полков, в том числе 8 пеших и 4 конных, включавших 15 тысяч артиллеристов и 3 полка инженерных войск, общей численностью 4 тысячи человек. В этих войсках, как и в пехоте, незанятым офицерам предоставили половинное жалованье с правом на две трети освобождавшихся мест.
Общая численность всех родов войск должна была дойти примерно до 206 тысяч человек, а вместе с Императорской гвардией – до 214 тысяч, и потребовать расходов, которые министр оценил в 200 миллионов. Однако, как вскоре выяснится, Дюпон, за отсутствием опыта, заблуждался и не мог сохранить под знаменами 150 тысяч человек подобной ценой. А потому не следовало восстанавливать Военный дом короля и создавать конный и пеший дворянские корпуса, которые обойдутся во столько же, во сколько 50 тысяч солдат. Но старым дворянам, преданным и несчастным, нужны были должности; пылкие молодые дворяне желали таким путем попасть в военное сословие; предполагалось, что несколько тысяч доблестных молодых дворян станут неодолимым щитом против будущих революций; наконец, таким образом всем дозволялось вернуться к званиям и чинам, которыми они некогда обладали. Поэтому решение о воссоздании Военного дома короля обсуждению не подлежало, оставалось только найти средства для его выполнения.
Организацию нового подразделения поручили генералу Бернонвилю, служившему и до и после Революции. Он справился с задачей, в точности скопировав прошлое. Были восстановлены старые красные роты [Maison rouge] под наименованием серых мушкетеров, черных мушкетеров, жандармов и легких всадников, в каждую из которых должно было войти по 300–400 дворян в офицерском звании для несения почетной службы в дни церемоний и под командованием самых знатных придворных вельмож. Затем восстановили роты телохранителей, которых теперь стало шесть. Четыре роты предназначались их прежним командирам, герцогам Авре, Грамону, Пуа и Люксембургскому, а еще две роты решили вверить новым маршалам: Бертье, по причине его высокого положения, и Мармону, которого хотели вознаградить за услуги.
Легко догадаться, какое раздражение основной части армии вызвал бы подобный корпус своей надменностью и роскошью. Нескольких случайных встреч офицеров Военного дома и офицеров армии было бы довольно, чтобы привести к злосчастным стычкам и непримиримой ненависти.
Сокращать, дабы соразмерить с территорией и финансами, требовалось не только армию, но и флот, и в этой части предстояли сокращения еще более значительные и ощутимые. Вместо ста линейных кораблей и двухсот фрегатов Наполеона мы могли, при состоянии наших финансов, сохранить на плаву в мирное время от силы два-три корабля и восемь – десять фрегатов; в соответствующей пропорции надлежало сократить снаряжение и персонал флота. Матросы и рабочие могли перейти в торговый флот, но морским офицерам и инженерам предстояло оказаться в трудном и даже мучительном положении. Для них, как и для сухопутных офицеров, установили режим половинного жалованья, с правом на две трети освобождавшихся мест. Кроме того, им предоставили возможность служить на торговых суднах без потери прав и чинов в королевском морском флоте. Но эти полумеры не способны были остановить обнищание обеих армий.
Оставалось принять решения по поводу одного из наиболее дорогих военным института – Почетного легиона. Хартия предусматривала его сохранение, и никто не осмелился бы предложить его упразднение. Но нужно было примирить существование ордена Почетного легиона с существованием других старых и новых орденов. Речь шла, в частности, о возрождении креста Святого Людовика, почетного ордена, учрежденного при Людовике XIV для особого вознаграждения за военные заслуги и в ту эпоху еще встречавшегося у старых офицеров, достойно служивших в войнах минувшего столетия. Было решено, что оба ордена будут существовать одновременно, а для омоложения креста Святого Людовика им наградят наиболее отличившихся офицеров императорской армии, которые получат тем самым два креста вместо одного.
Сохраняя Почетный легион, следовало изменить его наградной знак, ибо нельзя было вынуждать Людовика XVIII и принцев носить на груди изображение Наполеона. Договорились, что на одной стороне пластины, служившей знаком отличия, поместят изображение Генриха IV, а на другой – три лилии. Договорились также, что, как только изменения будут произведены, все Бурбоны станут носить этот крест на груди.
Различные меры, о которых мы рассказали, в большинстве своем продиктованные крайней необходимостью, жестоко обидели бы армию, даже если бы не доставили недоброжелателям прямых поводов. Но вкупе со всем тем, что добавили к этим мерам принцы ради угождения своим друзьям, вкупе с раздражением, царившим среди военных, и несправедливостью, к которой оно их побуждало, нововведения должны были получить весьма дурной прием, вызвать повсеместную злую критику, а нередко и опасное сопротивление. Это, к примеру, произошло с Императорской гвардией. Она всё еще оставалась в Фонтенбло и узнала о том, что будет сохранена, но лишена миссии охраны государя, а потому не останется в Париже, столь желанном для любых войск. Прошел даже слух, что расположение гвардии в Фонтенбло находят слишком близким к столице, а потому пехоту отправят в Лотарингию, а кавалерию – во Фландрию, Пикардию и Турень. Это известие вызвало горячее волнение, и часть солдат даже прошла по улицам Фонтенбло с криками «Да здравствует Император!».
Король, со своей стороны, продолжал выказывать армейским военачальникам самые лестные знаки внимания. Он принял маршала Массена, много хвалил его за подвиги и объявил о скорой его натурализации, предложенной палатам. Он принял также Карно в качестве главного инспектора инженерных войск и адмирала Верюэля в качестве морского офицера, оставшегося на службе Франции: король, казалось, забыл, что первый являлся цареубийцей, а второй оборонял до последней крайности Тексель. Между тем, похоже, Бурбонам, сделавшим над собой столько усилий, хотелось облегчить душу за счет одного из великих военных того времени. И такой жертвой, отданной на растерзание роялистам, сделался маршал Даву. Его оборона Гамбурга возмутила иностранных государей, на него сильно гневались и к тому же считали фаворитом Наполеона, что доказывает только неосведомленность роялистов, ибо Даву пребывал в опале с 1812 года. Он стал единственным из маршалов, которого король вовсе не пожелал принять. Военному министру было поручено объявить, что Даву следует объясниться по поводу своего поведения, прежде чем быть допущенным ко двору, поскольку он скомпрометировал имя француза за границей. Маршал весьма холодно встретил это сообщение и продолжил трудиться над своими мемуарами.
С этой минуты до той поры почитаемый, но не любимый военными Даву внезапно сделался их кумиром. У офицеров, покинувших корпуса и не спешивших вернуться, несмотря на повторные приказы военного министра, образовался на Итальянском бульваре и в Пале-Рояле своего рода форум. Они собирались, на свой лад истолковывали действия правительства, высмеивали немощного короля, сравнивая его неповоротливость с резвой повадкой человека, чью дьявольскую активность еще недавно проклинали, смеялись над Военным домом короля, а особенно над старыми эмигрантами, депутации которых ежедневно являлись в Тюильри и нередко выставляли себя в смешном свете.
Мы уже говорили о тысячах служащих всякого рода – таможенниках, сборщиках податей, офицерах полиции, – последовавших за армией на ее пути назад, разделивших с ней все опасности и теперь умиравших от голода в Париже с женами и детьми. Они присоединялись к группам недовольных офицеров и добавляли к их веселью сокрушительное зрелище собственной нищеты. Напрасно барон Луи, пекшийся более о финансах, нежели об облегчении их бедствий, отказал им в помощи, которая не сильно обременила бы бюджет, но положила бы конец незаслуженным страданиям: многие из несчастных сводили счеты с жизнью. Подобные душераздирающие сцены производили на парижан удручающее впечатление и начинали их сильно тревожить.
Одним из задуманных средств восстановления военной дисциплины было наделение высокими постами маршалов, не получивших придворных должностей, и перевод под их командование, с расширенными полномочиями и высокими окладами, главных военных округов. Во-первых, находили весьма выгодным разбросать маршалов по стране; во-вторых, хорошо знали, что хотя они и не всегда довольны двором, при котором чувствуют себя чужаками, пусть и обласканными, но не желают возвращения Наполеона и при переводе в провинции постараются воздействовать на войска своим авторитетом и вернуть их к исполнению долга. Парижский округ находился слишком близко к верховной власти, чтобы командование в нем имело большое значение, однако и тут требовался твердый человек. Выбор пал на генерала Мезона, который выказал в Лилле редкостную энергию и никогда не слыл другом Наполеона. Журдана оставили прямо там, где он водрузил белое знамя, то есть в Руане; Мортье – во Фландрии, Удино – в Лотарингии, Нея – во Франш-Конте (троих последних – в их родных краях); Келлермана отправили в Эльзас, где он всегда занимался сборными пунктами; Ожеро – в Лион, где он командовал недавно; Массена – в Прованс, где застала его Реставрация; Макдональда – в Турень; Сульта – в Бретань. Скоро мы увидим, насколько успешны были эти блестящие назначения, на которые в ту минуту возлагались счастливые надежды.
Еще меньшего успеха добились с другими классами общества, которые следовало поберечь, дабы не превращать их в союзников военных. Тотчас по возвращении королевская семья пожелала почтить поминальной службой память Людовика XVI, Марии-Антуанетты и других августейших жертв, чьи головы пали на эшафоте. Ни одно из революционных событий не навевало, разумеется, столь мучительных чувств, как смерть несчастного Людовика XVI, заплатившего за благородные намерения самым несправедливым приговором, и желание воздать ему посмертные почести было естественным. Шестнадцатого мая, в день смерти Генриха IV, в церквях Парижа отслужили поминальную службу и зачитали завещание Людовика XVI, в котором он накануне казни в трогательных выражениях прощал своих врагов.
В провинции, последовав примеру в отношении самой церемонии, поступили иначе в отношении способа ее проведения. Духовенство произносило надгробные речи, и по этому случаю прозвучало немало подстрекательских слов. Революция представлялась одним нескончаемым преступлением: преступными были названы и люди, и события, всё подлежало осуждению, даже принципы справедливости, во имя которых Революция совершалась и которые только что получили закрепление в хартии. Роялистская пресса обострила ссору, ответив тем, кто призывал к обещанному хартией забвению, что оно обещано авторам революционных злодеяний, которых не станут подвергать судебному преследованию, но никто не обещал заткнуть рот общественной совести; эти люди должны почитать за счастье свою бесстыдную безнаказанность, но никто не гарантирует им ни уважения, ни молчания честных людей. Легко догадаться, какое впечатление производили такие речи и на непосредственно упомянутых людей, и на тех, кто был с ними связан не общими делами, но общими принципами.
2
12 марта 1814 года герцог Ангулемский под защитой англичан торжественно въехал в Бордо, где именем короля обещал отмену конскрипции и всех налогов, а также полную свободу вероисповедания. – Прим. ред.
3
Так называемый соединенный сбор, один из новых налогов, введенных Наполеоном в 1804 году, налог на вина. – Прим. ред.
4
Понтон (ист.) – плавучая тюрьма. – Прим. ред.