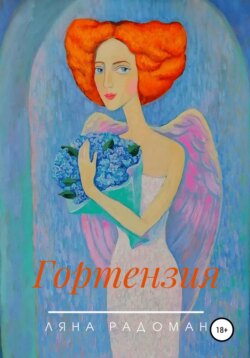Читать книгу Гортензия - Ляна Радоман - Страница 3
Часть первая
2
ОглавлениеБабушка, безумно любившая своего единственного внучка, звала его юбочником. Журила за многочисленных прелестниц, которые звонили ему постоянно, наперебой и некоторых из которых (самых недоступных красавиц) внук приводил домой и непременно знакомил с бабулей. Он гордился и дорожил этой интеллигентной миниатюрной старой женщиной с милой улыбкой, приятными манерами и слегка сгорбленной спиной. Всегда ухоженная, с короткой мальчишеской стрижкой, в белоснежной рубашке и отглаженных брюках, в замшевых туфельках (кроме замшевой обуви она ничего не признавала), с дорогими украшениями на руках.
Его ненаглядная бабуля. Из всех драгоценных камней она ценила только яхонт лазоревый.
– Не камни, а кусочки небес. Сапфир – магический камень все-таки! Талисман любви, – искренне восхищалась старушка.
– Всего лишь оксид алюминия, бабуль. Химическая формула: AI2O3. Разновидность минерала корунда. Твердость по шкале Мооса: девять. Камень царапается только алмазом или схожими по твердости веществами. Плавится при температуре 2040 градусов. И никакой романтики вкупе с магией! Обычный камень, бабуль, – по-доброму смеялся внук в ответ.
Старушка лишь снисходительно махала своей старческой ухоженной рукой (тонкие пальцы унизаны сапфирами) – а, мол, много ты понимаешь, балбес, – в вас, в мужчинах, романтики ноль целых ноль десятых!
В этой, активной до бесед, немолодой женщине, была какая-то природная способность очаровывать людей на раз, не прилагая никаких усилий. Она слушала внимательно, смотрела прямо, задавала много вопросов и не перебивала, – ценила каждого собеседника. Была рада гостям: наливала чай в красивые фарфоровые чашечки, угощала сладостями и с интересом расспрашивала о том о сем каждую из представленных ей внуком девушек. Беседовали о жизни, о книгах, о … О многом. С его добродушной бабулей можно было говорить долго и о многом.
Старушка умела увлекать разговором. Даже самые холодные красавицы таяли после таких вот, почти семейных, посиделок. Сердца их смягчались и плавились, превращаясь в мягкий податливый воск, из которого ему можно было лепить все, что угодно. А затем, спустя время, когда уже все было слеплено и интерес испарялся, он тихомолком уходил, между делом оставляя свой отпечаток в очередном покинутом им женском сердце.
Бабушке все его зазнобы нравились. Все как одна. Она никого не критиковала: в любой находила изюминку и неоспоримые положительные черты. Потому что: если внук выбрал – значит девушка хорошая. Если ему нравится на данный момент, то и ей тоже нравится.
– Ну и юбошник ты! Ну и юбошник! И когда ты уже остепенишься? – говорила бабуля. И, по-свойски взъерошив густые волосы внука своей старой морщинистой рукой с непременным аккуратным маникюром и нанизанными на каждый палец кольцами, добавляла: – Любимый ты мой! Драгоценный. Сапфирчик.
Она всегда целовала внука в макушку: целовала нежно и когда он был маленьким сорванцом, и когда вырос и превратился в красивого мужчину. В ответ он нежно обнимал эту родную, пахнущую ванилью, женщину и чмокал ее в сморщенную, словно печеное яблоко, щеку.
– Сладкая моя бабулечка-красотулечка! Им всем до тебя далековато. Далеко и до тебя, и до мамы. Как от Земли до седьмой точки, до апогея, не меньше. Они все – перигеи, бабуль, ближайшие точки.
Старушка смеялась хриплым скрипучим смехом и шутила: “Перигеи… Ну, насмешил… И сколько у тебя уже этих барышень-то было? А? Погоди, найдется и на тебя та самая дамочка, до которой, как до апогея и тебе не дотянуться. Вот тогда и ты попляшешь!”. С нескрываемой любовью смотрела на своего ненаглядного внука и продолжала ласково журить: “Ох и юбошник ты! Ну и юбошник!".
Именно так: "юбошник", со сладким "ш" вместо сурово-четкого "ч" в середине слова. От этого “ш” слово преображалось: становилось мягким, совершенно безобидным, и даже каким-то теплым и обволакивающе-пушистым, как невесомо согревающий уютный пуховый платок.
Бабушка его обожала. И родители, у которых он был одним-единственным сыном, – тоже души в нем не чаяли. Все ему разрешали, все прощали и никогда ни за что не ругали. В его семье вообще умели любить, но любили только своих. Любили безгранично, самозабвенно, беспричинно. Просто потому что свои. И точка.
Нет, он не был подлецом. По крайней мере, по отношению к своей семье – точно. Таскал до последнего свою бабулю на руках, когда она уже не могла ходить. Читал ей книги по вечерам перед сном, когда она сама уже ничего не видела, ослепла. Она часто просила Ахматову: “Чудесные стихи! Волшебные!”. Он в душе кривился: “Чешуя какая – эти надрывные строки про разбитые сердца, терпкую печаль, безысходную боль, темную вуаль и надломленные души". Кривился, но читал. С выражением декламировал. И готов был для нее и ради нее на многое, почти на все. Ибо любил эту уходящую в небо скукоженную, высохшую и почти невесомую старую женщину. Любил до слез, до кома в горле. И никуда не уходил. Да… Любить он умел. Но только своих.
Он, до последнего прожитого ею дня, целовал свою бабулю-красотулю в морщинистую щеку, а она его – непременно в макушку. "Внучек ты мой… Драгоценный… Сапфировый…" – находясь между небой и землей, не говорила уже, а лишь шевелила тонкими сухими губами, но он понимал. И пытался запомнить ее всю, каждую черточку, ясно осознавая, что эти, последние мгновения рядом с ней – и есть самые бесценные. Потому что "потом" – уже не будет. Никогда не случится в его жизни. Больше – никогда и никаких новых моментов рядом с ней, эти – последние… Бабушка так и осталась для него навсегда: пахнущей ванилью и даже на смертном одре – сладкой на вкус.
Преданный любящий сын и со своими родителями был до последних мгновений их жизни рядом: сначала ушла мама (“Ты уж позаботься о гортензии, сынок!”). А вслед за ней и отец ("Держись, мой мальчик. Один остаешься, – крепко сжимал его руку и закрывая глаза, шептал в забытьи – Ты, пожалуйста, следи за маминой гортензией. Не забывай поливать. Поливать… Ухаживать… Ради мамы… Сынок…"). Его папа не смог без жены. И полгода – не смог. Оба – безумно любившие друг друга и единственного сына. И которых безумно любил он.
А к женщинам… Которые его тоже – безумно (непонятно, правда, за что и почему) любили, он относился… ммм… никак. Да никак он к ним не относился! Потому что – не свои. Просто брал их за живое, а потом по этому самому живому и резал, прижигая на долгую память свое тавро И плыл дальше, не оборачиваясь и не сожалея ни о чем. Подолгу ни у одного причала не задерживался, неспешно продолжал свой путь: к другим, неизведанным берегам. Совершенно не задумываясь о том, что и кого оставляет позади: "Отзвонил и с колокольни".
Его неизменная привычка: никогда не оставаться с кем-то на всю ночь, конечно, женщин злила и расстраивала. Но ему было все равно. Всегда уходил спать к себе домой. В чистую постель, пахнущую свежестью. Никому не давал шанса проснуться с ним рядом. Не хотел. Не видел в этом ничего романтичного. Утро все меняло: лохматые волосы, неумытое лицо, неряшливый вид, несвежая одежда, чужой запах – что в этом привлекательного? Ровным счетом ничего.
Он так и не смог прикипеть душой к кому-то. Ни одна из тех, кого он встретил на своем пути, не зацепила. Так и не стала своей. Не смогла занять особое, постоянное место в его жизни. Многие, почти все – страсть как желали, но ни у одной не получилось стать его любовью навсегда.
А она? Она, пожалуй, смогла бы стать той, что закроет своим присутствием все и всех. Не прилагая никаких усилий, оказалась бы единственной из женщин, самой пресамой. Лучшей. Своей. Обожаемой до фанатизма. И любимой так, как никого и никогда он не любил. Он бы точно поставил ее пьедестал и встав перед нею на колени, не уставал бы ежедневно, ежечасно благодарить Всевышнего за то, что она, эта прелестная девочка с точь-в-точь такой же, как у него, родинкой на щеке, есть в его жизни.
Но вот как раз ее-то он и не признал, когда встретил. Дважды в жизни пересекался с ней нос к носу, но не распознал намеков все еще холившей и лелеявшей его Судьбы. Не узнал. Не понял, что своя. Не почувствовал ту незримую нить, которая их связывала на самом тесном и самом важном – генном уровне.