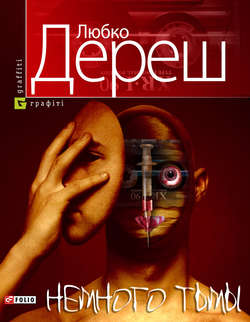Читать книгу Немного тьмы (на краю света) - Любко Дереш - Страница 2
Оглавление[начало пленки]
(на фоне отдаленного щебета воробьев и ласточек слышна речь. Два мужских голоса поочередно выкрикивают фразу: «Я призываю магический театр!» Каждый из них делает это трижды, после чего аудиопленка фиксирует приблизительно минутную паузу)
V.: Прежде всего нужно определить роли для камней.
Λ.: Я буду называть героев поочередно, как они появляются, а потом буду думать, какая им больше всего подходит каменюка, о’кей? Первым появляется персонаж, который говорит от своего имени, то есть рассказчик. Он тот, кто скрыт от самого себя… Наверное, так его сейчас и назовем. Я не знаю, кто этот персонаж. Он – то, что я скрываю в самом себе. Что-то сокровенное… какая-то тайна. Бррр, мороз по коже. Я думаю, им, наверное, будет тот камень (подходит к камню № 1). Мне нужно на него наложить руки?
В.: Просто дай установку, что он будет исполнять роль Того, Кто Скрыт От Самого Себя.
Л.: (делает пасс в сторону камня, торжественно) Ты будешь Тем, Кто Скрыт От Самого Себя. Ты будешь моим личным секретом, который я скрываю.
В.: Если хочешь, можешь сказать ему что-нибудь еще.
Л.: Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ!
(пауза)
В.: Слышишь какой-то ответ от него?
Л.: (тихо) «Я тебя тоже». (К Тому, Кто Скрыт От Самого Себя) Я рад, что мы в конце концов можем посмотреть друг другу в глаза. (к В.) Он печален, он весь в тени.
В.: Ты видишь, где он сейчас?
Л.: Да. Он сейчас на лужайке, уставший с дороги. Он старше, лет 30–34, смуглый, черный. Его кожа темна из-за его интересов.
В.: Ты знаешь, что это означает?
Л.: Нет. Я вижу на нем одежду темного цвета. Темнозеленые цвета, он увлекался когда-то наркотиками, опиатами. Темно-зеленый – это цвет прихода. На его плечах тяжкое бремя. Я вижу это бремя как кожаную куртку с блестящими металлическими клипсами. Сейчас он просто смотрит на горную долину, он ищет людей. В нем чувствуется сильное напряжение. Он не получает ответов от мира… кажется, последние годы он что-то беспрерывно ищет. Но постоянно остается без ответа. Он стремится с кем-то поговорить, излить душу, но сам себя сдерживает, считает это проявлением слабости. Поэтому решает сидеть на месте. В его жизни много темного света.
В.: В каком смысле?
Л.: Я не понимаю этого. Возможно, у него внутренний мир темный. Но это не связано с субкультурой: ни с металлистами, ни с блэкерами, ни с готами. Хотя он близок к этим людям. Вижу в нем «темные эпизоды». Тусклое освещение в детстве, темные помещения. Постой, я понимаю. Сейчас его работа связана с тьмой, он работает в ночную смену… Он привык быть один.
В.: Ты чувствуешь его где-то в своем теле?
Л.: Печень.
(пауза)
Наркотики средней тяжести. Это – самая большая часть его нынешней жизни. Сейчас у него глубокий кризис.
В.: Чем вызвана твоя ненависть к нему?
Л.: Не знаю. Когда смотрю на него, у меня аж грудь сжимает.
В.: Попробуй это ему сказать.
Л.: (Тому, Кто Скрыт От Самого Себя) Старик, я когда смотрю на тебя, у меня аж грудь распирает от эмоциональной волны, когда я думаю о тебе. Я боюсь… тебя… а может, боюсь вместе с тобой… Страх… он боится чего-то. Боится будущего. Он не знает, что будет дальше, так как для него все очень неопределенно. Сейчас у него жизненный перелом. Все падает из рук, и все расползается по швам. Он ничего не может нормально делать, ничего не может довести до конца, и это очень раздражает его.
(пауза)
Л.: (тихо) Я чувствую, что вру, когда говорю о нем.
(пауза)
Л.: (спрашивает и отвечает разными голосами) Почему я вру, когда говорю другим о тебе? – Потому что обо мне никто не знает. – Ты хочешь открыться? – Я стыжусь. – Кого ты стыдишься?
Л.: (к В., тихо) Ему кажется, что на него направлено множество глаз, хотя он всегда один. (к Тому, Кто Скрыт От Самого Себя) Кого ты ищешь на Шипоте? – Он сам толком не знает. Может, кого-нибудь, чтобы побазарить. Он хочет общения. Он хочет, чтобы на него обратили внимание. Он ощущает недостаток внимания. Он чувствует себя очень несчастным. Возможно, поэтому у него так темно внутри.
В.: После этого маленького диалога что ты чувствуешь к нему?
Л.: Теперь я могу согласиться, что такой человек имеет право на существование.
В.: Это то, что ты думаешь. А что ты чувствуешь?
Л.: Я бы так не хотел, чтобы такой человек существовал… Чтобы это все оказалось неправдой! Чтобы его не существовало! Он пропитан сожалением, и я пропитан сожалением.
В.: А сейчас, в этот момент, какое чувство в тебе?
Л.: Будто мы оба расплакались.
В.: Где ты чувствуешь свое сожаление?
Л.: Где? Задняя часть шеи, возле черепа. В горле. Ухо правое.
В.: Попробуй сейчас не игнорировать эти ощущения, а усилить их.
Л.: Спина… А-ах, сильная боль… Он смертельно устал…
В.: Если ты сейчас переключишься на другой канал, ты сможешь эту усталость увидеть.
Л.: Так, проявляется. Теперь я это все вижу. О господи, как все четко! Это горы, Карпаты. Я сижу на лужайке, первая терраса горной долины возле Шипота. Самый низкий уровень, сразу возле входа, там, где большая коряга. Я всегда останавливаюсь сперва на нем, перевожу дыхание. Плечи просто отваливаются от изнеможения… (к В.) я чувствую, что мои слова становятся его словами. У него свой стиль.
В.: Это даже лучше. Открой себя полностью этим картинам. Тому, как он это поведает.
Л.: На Шипоте жара. Едва ощутимый ветер с гор шелестит бледно-зеленой листвой буков. Меня глючит… Справа, метрах в двадцати от меня, разлеглись ленивые хиппи. Они вовсе не устали, им просто лень. Меня приветствуют равнодушными пальцами, сложенными буквой «peace». Отвечаю тем же. Все вокруг отрывистое от усталости. Но все удивительно остро. Я снова обвожу взглядом террасу, ищу красные тряпки-флажки.
В.: Кого ты видишь?
Л.: Слева остановились панки, они всегда останавливаются на ровной площадке сразу возле входа. Им на все насрать, и я, конечно, не подхожу и не здороваюсь, потому что и мне они по это самое. Их девушки все в черном: черные кожанки, черные банданы. Футболки в тон только подчеркивают их панковскую непохожесть. Это какие-то молодые панки, подгнивающие. Девушки еще довольно свеженькие, юноши бодрые и матюгливые. Пьяные в стельку. Дерутся из-за папирос. Билет на самолет и пачка сигарет. Тоска, блин, какая тоска.
Справа и выше стоят олдовые хиппи-ежегодники. Они всегда останавливаются в круге деревьев, натягивают цветастые полотнища и слушают на магнитофон «Jefferson Airplane». Это патриархи Шипота, старые друганы-хипари: поляки, украинцы, русские, словаки. Они заботятся об атмосфере вокруг себя – ретропацифизм. Я приветствую одного, с которым встречаюсь взглядом, поднятой рукой.
В ответ – улыбки и поднятые руки.
Правее, в сторону обрыва, над водопадом, еще одни хиппи, влюбленные в американских индейцев, разбили типи. Из дымового отверстия курится дым. Над всей лужайкой властвует покой и блаженство. И ни одного красного флажка.
Смотрю выше и, соответственно, дальше. Зрение плывет, но я все равно различаю стайки палаток, собранных благодатными гроздьями, к которым так и хочется подойти и рассмотреть, и расспросить, что по чем, да где, да откуда.
Замечаю несколько украинских флагов. Это точно Львов или Тернополь. Как правило, на Шипот приезжают кагалами, и, за небольшим исключением, подтягиваются свой к своему.
Выше и дальше взгляд открывает новые скопления палаток, аж до верхней черточки, откуда начинается лес. Мысленно оцениваю расстояние. По прямой, наверное, чуть меньше километра. Терраса поднимается временами полого, временами стремительно. Как бы ни двигался – медленно или быстро – на подъеме упреваешь.
Не вижу ни одного красного флажка. Мой собственный пока что спрятан в рюкзаке, глубоко под спальником.
Закидываю на спину рюкзак и медленно, шаг за шагом, продолжаю движение наверх.
Останавливаюсь. Украинский флаг, пять натянутых палаток. Дотлевает утренний костер, сбоку лежит перевернутый котелок. Трава кругом порядком вытоптана. Можно предположить, что эти молодые люди приехали одними из первых – числа этак третьего-четвертого. Девушки разнузданного телосложения, в одних трусиках, греются на солнышке. Сейчас – спинами к небу, но я готов подождать.
Снова снимаю рюкзак и падаю на землю.
– Я вам не помешаю? – спрашиваю у девушек не глядя.
Они, так же не глядя, молчат.
Из палатки вылезает бухой в дупель хипарик. Он по-собачьи космат и весь покрыт красными полосками от коматозного лежания в траве. Хайер чувака похож на гнездо птеродактиля. Его руки по локоть покрыты феньками, а на шее болтается стальная пацифика. Его джинсы мятые, пописанные ручкой и мокрые на заднице и ниже. Это значит – спал на мокрой земле.
Вообще, немного припаривает. Делаю вывод, что ночью был дождь. Мутными глазами чувак смотрит на меня, поправляет очки и прилепляет к губе сигаретку.
– Будет?.. – выпукивает волосатый пошатываясь и делает жесты чирканья спичкой.
Я бросаю спички. Коробок пролетает мимо, а он медленными глазами прослеживает его траекторию. Опухшее лицо принимает выражение, которое бы я охарактеризовал как «офигелое». Чувак медленно качает головой и выдавливает:
– Как я вас, хипаблудов, ненавижу…
Наклоняется за спичками, теряет равновесие, обламывается и валится на траву.
Из палатки вылезает еще один гость, уже совсем другой стилистики. Он длинный, тощий и обчмоканный. Тоже голый по пояс. Две тонкие косы свисают аж до локтей. Этот чувак прикурил цигарку еще в палатке и ясными глазами глядит мне за спину, на горную гряду и долину далеко внизу. Он затягивается и вздыхает. Ясно – лирик-самородок.
Патлатый в очках поднимается. Он вроде уже немного оклемался и решил прикурить от тлеющей головешки из пепла.
Закуривает, смотрит на меня и изрекает:
– Ненавижу очкариков… особенно патлатых. Пьешь?
Я пожимаю плечами. Ни хайера, ни очков у меня нет.
Чувак тоже пожимает плечами и делает глоток из военной фляги.
– Мукта, – говорит он.
Еще немножко вежливого молчания. Вдруг меня осеняет, что это такое прозвище.
– Гера, – представляюсь я. – Но можешь меня называть Гер.
– А-а-а…
Медленно затягивается сигаретой и ворчит:
– Геррр… Типа, геррр Шнитцель?
– Именно так. Или герр Штрудель.
– Пудель, бля! Будешь теперь герр Пудель!
Длинный сухарик тем временем вытаскивает гитару и берется наигрывать что-то из «Кранберриз». Выходит убедительно. Насчет пуделя не возражаю. Подбираю свои спички, кладу назад в карман.
– Чаю, может, выпьем? – спрашиваю у них. Чувак с гитарой, не переставая играть, кивает в такт главой. Мутный юморист Мукта не отвечает ничего. Похмелье учит людей человеколюбию, и у Мукты сейчас важный экзамен.
Одна из девушек при упоминании о чае начинает шевелить ногами. Переворачивается к небу лицом, а к моим глазам грудью, но картина почему-то не настолько волнующая, как можно было надеяться. Вслед за ней на спину переворачивается и другая ляля. На этот раз ощущаю крепкий прилив оптимизма.
В глубокой бессловесности, под мастерскую гитару сухарика мы выпили по кружке чаю. Ничего не говоря, герр Пудель собрался и пошел дальше.
По левому флангу от самого низа и аж до кладки над ручейком, вдоль вымытого водой оврага, растянулся лагерь панков. Панки из Киева, панки из Винницы, панки из Стрыя. Панки из Ровно, из Одессы и самое страшное – панки из Шостки.
Где-то года два тому на Шипот приперлись какие-то невнятные типы – не совсем гопники, не полностью рэперы, не до конца кислотники. С ними была упитанная собачара породы мастино наполитано. Пес бегал, лаял, пугал детей, пускал слюни и вел себя непристойно по отношению к ногам отдельно взятых товарищей. Кислотники от этого перлись. Их любимой шуткой было идти в село под «феном» и спрашивать: «Бабуля, а где здесь мака можно намацать?»
Однажды ночью кислотники-рэперы до того обколбасились, что украли в Пилипце (селе под Шипотом) косу, устроили в хозяйстве переполох и исчезли в неизвестном направлении. Приехали стремные воловецкие милиционеры, начали в потемках с фонариком шнырять по палаткам и доводить миролюбивых, но ментофобных хипунчиков чуть не до инфарктов.
Милиция обнаружила гоп-кислотников наутро на чужом огороде, застав за непривычным в здешних краях занятием: первый кислотник жал маковые стебли косой, будто пшеницу, другой натирал мозоли, связывая маковые снопы. Повязали обоих.
На дневном сборе патриархи Шипота глубоко осудили чужеземцев, которые сделали здешним лояльным отдыхающим такую антирекламу. Вдобавок в наследство от кислотников жителям горной долины перешел тот самый мастино наполитано. Панки из Шостки прониклись судьбой животного больше всех. Недолго думая, они пригрели псину обухом, освежевали и съели.
А когда через неделю вернулись юноши неопределенной ориентации со следами отдыха на лице и поинтересовались, ГДЕ ЖЕ, ЁХАНЫЙ БАБАЙ, ИХ РЕКС, всем стало слегка стремно.
Всем, кроме панков из Шостки.
Справа и сверху, со стороны подъема на гору Стий, раскинули свои шатры позитив-парапацифисты — люди, настроенные вообще на все оптимистическое, конструктивное и жизнеутверждающее. Они не били по ночам бутылок, не орали матюгов, не пели страшных песен «Гражданской Обороны». Более того, над ними не чувствовалось того кармического фатума, который панки старались сгустить над собой и передать другим.
На правом фланге было светло и спокойно. Здесь нежились полуобнаженные, не всегда зрелые, но уже разопревшие нимфы, на которых время от времени наскакивали их козлоногие, перевозбужденные избытком кислорода фавны – в драных джинсах, голые и босые. Фавны хотели трахаться и, не имея возможности реализовать это немедленно, делали юным девам разные пакости: брызгали холодной водой, щекотали травинками, срывали купальники и т. п. Здесь всем чего-то хотелось, но это не касалось по большому счету ни курева, ни выпивки, ни, наконец, секса (хотя после секса это хотение притуплялось). Неуловимое марево хотения делало все одновременно и желанным, и скучным. Чудная амплитуда. Из врожденной деликатности я не заглядывал в палатки, не втыкал на сиськи. А при встрече с очередным ню выказывал вершины галантности, целуя нагим панночкам ручку.
Еще выше, почти на краю возможного, разбила палатку ужгородская молодежь протеста. Эти молодые люди с самого утра сидели возмущенные, повернувшись лицом в сторону долины, и созерцали горизонт в знак неповиновения. Один из них возмутился до такой стадии, что я предложил ему попить воды, но остальные велели мне не лезть, у них сессия. Так и сказали: сессия.
Я поинтересовался, много ли у них еще протестного материала и где его насобирали. Они сказали, что это их, региональный, а в запасе его столько, что хватит, чтобы возмутилось пол-Шипота до конца сезона.
«А если наоборот, – переспрашиваю, – весь Шипот, но только на полсезона?» Они на это: «No woman no cry».
Я спросил, как насчет линии партии. Мне ответили: «Всё зигзагообразно». Подобной политподкованности можно только позавидовать.
Меня спросили, не откажусь ли я. Не откажусь, так и ответил.
Через десяток с лишним минут отхожу на несколько шагов, чтобы насладиться этим экзотическим явлением издали: семеро протестующих, как один, сидят клином и созерцают северо-восток. Глаза красные от лозунгов, а на лицах – вселенская печаль.
Я внимательно прошелся вдоль палаток, несколько раз поднимал приветливо открытую ладонь, но так и не нашел ни одного красного флажка.
Над ручейком по обыкновению оседали растаманы. Они разбивали типи, готовили есть «всё для всех» и были отлично сплочены. Чужаков принимали радушно, но на расстоянии, к палаткам не подпускали, разрешая переступать свои пороги только настоящим джа растафарай.
Даже короткое путешествие в те места производило впечатление. Растаманы целыми дням сидели в типи, били в барабаны, гремели маракасами и пели негритянские псалмы. Все как один были набожные и намоленные, но, в отличие от оцепенелых протестантов из Ужгорода, их состояние было подвижным, замешанным на ритме даб.
От беспрерывного моления к Джа между растаманами устанавливалась телепатическая связь, как у тех индейцев из устья Амазонки, которые варили из лиан аяхуаску — «вино душ». Это чувствовалось сразу, как только проникал на их священную территорию за ручейком, которая, отмечу, была настоящим анклавом Эфиопии, спроецированным сюда коллективным подсознательным. За растаманскими песнями слышался рык гепардов и звуки пустыни. Я искал взглядом доказательств Африки и узнавал в местной флоре типичные эндемики экватора.
Я вошел на их землю с открытыми ладонями – ни копья, ни палки, ни камня, – и меня встретили вежливым молчанием. Дреды сидели тесным кругом вокруг выварки с подкипающим супом. Телепатически я ощутил, как они обсуждают между собой, не вознамерился ли я перевернуть им казан с хавкой или развалить типи и продырявить тамтам, а новый натянуть из кожи их ребятишек. Да нет же, более мирного существа, чем я, на Шипоте не сыщешь. Я просто обвел глазами все палатки. Практически перед каждой висел зелено-желто-красный флаг Ямайки. Флагшток украшался в соответствии со вкусом владельца перьями, клыками кабанов, камешками и конечно же растами.
Раста с точки зрения чужеземца выглядит как шнуровка-триколор (традиционная краска) или какое-нибудь другое объединение доступных цветов. Как правило, расту вплетают в волосы, туго обматывая нить сперва вокруг пучка волос, а потом – вокруг плетеной веревочки. Для балласта на кончик расты привязывают камешек с отверстием, кто знает – «куриный бог».
Вообще, растаманы смотрятся на полонине наиболее ярко в плане внешности. Те психо– и географические территории, где их тела пустили roots, должны быть экзотическими с точки зрения осевших и фиксированных туземцев, которым, кроме «файки» и «майки», больше рифм к слову «Ямайка» не дано.
А растаманы – они как львы. Африканские воины саванн, buffalo soldiers, со страшными локонами на головах, с белыми зубами и красными глазами, они просто звереют, когда оказываются на природе. Звереют и кричат: аллилуйя, Джа!
Как пел Африк Симон, «mwlungu wa mwlandi hafanana» – «нет разницы, черный ты или белый». Когда ты куришь траву так долго, как мы, – твоя кожа не черная и не белая, а скорее землистая.
Тщательно осмотрел все палатки, но так и не увидел нужного мне сигнала: красного платочка, красного флажка или хотя бы малейшего лоскутка тряпки красного цвета. В конце концов, я и не ожидал найти среди таких расслабленных, таких неконфликтных растаманов людей, которых можно опознать по цвету насилия.
Не добыв и на этот раз ничего, я решил бросить якорек. Большинство стратегически удобных мест – чтобы и к воде можно было, и за дровами недалеко – уже было занято. Над левым краем темнела карма панков. Поэтому я поднялся на покатый правый край полонины, к благодатным черничникам, что сочным поясом отмежевывали твердь луга от тверди леса. Там и остановился.
Не спеша раскладываю рюкзак. Разбиваю двухместную палатку головой на юго-запад. Два места – это для меня и для рюкзака. Больше ни на кого я не рассчитываю.
Раскрутил свернутый в рулон каримат, расправил спальник. Оттуда выпала красная тряпка. Я спрятал ее в карман и подумал: «С этим подождем».
А потом прикинул, сколько уже здесь людей подумало так же: «подождем». Двое? Пятеро? Сколько?
Решаю, что при таком расписании можно будет ждать до бесконечности и обратно. Сходил в лес, нашел подходящую палку и привязал к ней красный клок. Воткнул флаг рядом в землю. Ветерок подхватил его, и кумач затрепетал. В Тибете бы спросили: что находится в движении – флаг или ветер? Я осмотрел всю горную долину – пестрые палатки под дыханием полуденного ветра поднимались и трепетали. Где они, эти люди из красного? Что в движении – палатки или ветер? Люди или обстоятельства? Движется что-то внутри нас самих. Так говорят об этом в Тибете. Что ни край, то обычай.
В.: Ты знаешь, о каких «красных флажках» он говорит?
Л.: Нет. Еще нет. Но это что-то муторное. Он сейчас не хочет об этом думать. Что-то связанное с тьмой, которую он носит в себе. Он хочет отвлечься. Хочет пойти и покорить какую-нибудь девушку.
В.: Пусть пойдет и сделает.
Л.: Он сидит возле своей палатки…
В.: Говори от его имени, тогда связь будет полнее. Взгляни на свою тень. Твоя тень лежит на Шипотской траве.
Л.: Да, я сижу возле палатки… Замечаю тень на траве и решаю провести ориентировку. Потираю шею. Тень моя, она слушается моих движений. Наверное, на шее будет кожа облазить. Солнце перешло зенит, и я испытываю потребность сварганить себе чего-нибудь поесть. Меню на ближайшие дни выглядит вполне прозрачно. Шмат сала, нашпигованного чесноком, и буханка хлеба, купленная в Воловце. Есть несколько пачек вермишели быстрого приготовления, а также килограмм гречневой крупы. Вообще-то продовольствия, при моем режиме, должно хватить дней на пять. За хлебом можно спускаться в село Подобовец, где также есть очень сладкое молоко по гривне за литр.
Оцениваю свои запасы как вселяющие аппетит. Вообще, сейчас я – воплощение приподнятости и благодати.
Блядь. Зачем я вру себе? Зачем продолжаю врать? Мне так хуево, как не было еще никогда. Мне хочется выть волком и наложить на себя руки прямо сейчас. Я понимаю, что мне хуево после винта, чей отходняк я пытался смазать трамадолом. Но действие трамадола закончилась вчера ночью около трех и наложилось на среднюю, тяжелейшую, фазу винтового отходняка. Меня прошиб холодный пот, и чтобы снять страх, который навалился на меня, я подрочил, потом включил компьютер и попробовал посмотреть какой-нибудь фильм, уже не помню названия, но это было какое-то психоделическое говно, от которого хотелось лезть на потолок. Я понял, что снова совершаю ошибку – вместо того чтобы снимать страх чем-то легким и светлым, рука сама тянется за чем-то бесовским и одержимым, за альбомом «Coil», например, и мысли снова понесутся по проторенному пути. Так лежишь в кровати – третий час ночи, и кажется, до утра не доживешь. В эти моменты совсем не понимаешь, на хрена было его колоть – на хрена? Чтобы попустило. Чтобы попустило от чего? От того, что колол. И т. д.
Поэтому моя ирония по поводу запасов, «вселяющих аппетит», равно как и «аватара приподнятости и благодати», доступна только мне одному, поскольку остальная публика не посвящена в амбивалентность значений этих выражений, как и в то, что когда мне хуево, я говорю длинными и путаными фразами, стилистически эклектичными, семантически идиотическими и тэ дэ и тэ пэ.
Всё. Дальше буду молчать.
Подбрасываю еще поленце в огонь. Солнце перемещается на запад.
Я выбрал тенистое местечко для постоя. Через час у меня будет полумрак и тьма комаров. Сажусь лицом к дыму – над потом назойливо вьются мушки. Облизываю верхнюю губу. Соленая.
Смотрю вниз. Решаю снова наведаться к тернопольцам. Чем-то они мне симпатичны.
Тернопольцы только что пообедали и собираются пить чай. Сидят разнеженные, все как один оперлись на локти и дуют в кружки. Среди этой пасторали я изумленно узнаю К., с которой познакомился здесь же, на Шипоте, года этак три тому, когда «друззя» из Житомира угостили дурманом. Тогда она была совсем сопливой, нетронутой. Я уже и сам не помню, что из передуманного мной тогда я сказал, что сделал, а что только дофантазировал. Слава богу, она меня не помнит. Наверное, нафантазировал я тогда самое-самое.
Уголком глаза замечаю: К. превратилась в настоящую куколку. По ее светлому, прозрачному взгляду понимаю, что девушка наделена необыкновенным музыкальным слухом.
Приглашают садиться. К. заинтересованно изучает меня, потом вытаскивает папиросу и прикуривает от зажигалки. Взгляд вниз, на индейские типи. Она меня узнает, хотя и пробует это скрыть. Я стараюсь не заметить, как мне от этого становится неудобно. Она старается не замечать то, что я стараюсь не замечать ее.
У К. просит прикурить какая-то девушка, вылезающая из палатки. Девуля в одних трусиках и майке. Она костлява и неприглядна. Девуля нагибается к огню, предложенному красотулечкой К. В одной руке папироса. В другой – лоскут красной ткани.
Внимательнее присматриваюсь к девуле.
Солнце золотит воздух. Временами ветер приносит куски холодных ароматов из леса. Кожа покрывается мурашками. Вечереет.
Сижу возле огня. У себя на холме. Немым взглядом уставившись в черную листву пламени. Слышу: кто-то приближается. Поднимаю взгляд (на сетчатке зеленая тень от черного костра, темно-зеленое на темно-зеленом) – под гору прет та самая костлявая девуля. Она идет и курит на ходу. Теперь видит, что ее заметили. Не машет в ответ, но медленно вылезает на пригорок.
Стоит передо мною, переводит дыхание. Молчит и хватает ртом воздух.
– Вика, – представляется наконец она.
У нее в ноздре сережка-звездочка. Дырка от нее красная, раздраженная. Меня передергивает. Сережки над правой бровью бесят тоже, но не так сильно.
– Садись, – говорю я. – Герман.
Вика садится на бревно слева от меня. За ее плечами виден край горы Стий и далекий горизонт Карпат. Изучаю Вику взглядом. Тонкая серая шея, на ней кожаный ошейник с колючками. Темные кольца вокруг глаз, прическа под каре. Когда она двигает головой, волосы падают на лицо и губы. Проскальзывает что-то сексуальное, даже вульгарное.
Волосы покрашены в черный. Смотрится неестественно, потому что похоже на парик. Глаза у нее жестяно-серые.
К вечеру Вика натянула штаны. Майка та самая – тонкая, голубая, на узких лямках. Выступают костлявые плечи. Когда эта девушка курит, она очень сутулится.
Из-под майки выглядывают сиськи, но их созерцание не является чем-то заманчивым. Оцениваю их равнодушным взглядом мясника. Вика – типично наш персонаж. То есть одна из тех, кто согласился встретиться под красной тряпкой.
Я с любопытством поглядываю на сгибы ее рук, ищу следы от уколов. Кажется, нет, но мысль о венерических заболеваниях, в том числе СПИДе, никуда не девается.
На левой руке – кожаный напульсник. Почему-то представил, как под напульсником скрыт уродливый шрам от пореза. Пальцы у девушки черно-фиолетовые – не иначе как от черничного пережора.
Вика смотрит на меня своими дрожащими зрачками. Она вся какая-то замороченная. Глаза бегают, суетятся, создают раздражающее впечатление – я не могу вглядеться в них, своей нервностью они ломают мой взгляд. Что-то вспомнив, она лезет в карман джинсов. Вытаскивает скомканный, истертый по краям листочек и протягивает мне. Я разворачиваю бумажку. Это ксерокопия документа.
Вика выжидательно смотрит на меня.
– Ты координатор, да?
– Я?! Нет! Свят-свят-свят!
Отдаю ей листочек, и Вика засовывает «документ» назад в карман. Мы снова молчим. Вика крутит браслет на руке. Она думала, что я координатор. А теперь просить у меня предъявить свою анкету она не отваживается.
– Их еще, наверное, нет. Координаторов. Наверное, завтра появятся, на открытие.
Вика молчит.
– Ведь завтра открытие? – уточняю я.
Она кивает.
– Ну да, – говорит она с особой интонацией, в которой успеваю разглядеть едва не половину ее жизненного пути. По крайней мере ту часть, в которой она впервые осознала, что назад дороги нет.
Завтра шестое июля, ночь на Ивана Купала. Завтра же – открытие ежегодного Шипотского фестиваля. Вика говорит:
– Они пасут нас. Зырят в бинокль. Прямо щас. Сто пудов.
– Кто?
– Они. Координаторы. Присматриваются к нам с тобой…
– Да ну. На хрена им это? Сами же нас пригласили… Ты, кстати, как узнала про сборище? – спрашиваю у Вики, чтобы немного сместить акценты. От упоминания о координаторах мне и самому неуютно.
Вика смотрит в огонь, шевелит бровями.
– Откуда узнала? Да подружка одна рассказала. Ну, типа не подружка, а так, одна девчонка знакомая. Ей пришло это мейлом, она зависала на вашем сайте, и ей приходили разные рассылки.
Я киваю.
– Она, короче, тоже с проблемами была, ну, у вас там только такие и тусуются. Но ей, – Вика кивает, имея в виду наш фестиваль, – ей такое не хавается. А я прикололась, я такая, люблю всякое интересное в жизни попробовать.
Вика немного отпускает себя, снимает барьер.
– С тем письмом – гон. Спрашивала я у пиплов, не слышал ли кто-нибудь о подобном. Говорили, типа шо-то такое слышали, но никто ничего конкретно не знает. Никто чего-то не ездил. Типа, иногда такие фишки организовывают какие-то люди. Семинары, типа шоб попустило… – Подумав, она добавила: – Может, это какая-то секта?
– Какая еще секта? – не возьму в толк.
– Ну, пригласила сюда нас. Типа, рассылает анкеты. «Прочитай сам и передай другому». Кому уже все пофиг, такие верят и едут. А здесь сейчас нам начнут какую-то херовину проповедовать, мозги зомбировать.
– Не знаю. Может, и так. Надо дождаться организаторов.
– А ты, кстати, не сектант? – смотрит она подозрительно.
– С чего ты взяла?
– А чего голова побритая?
Я объясняю, что мне так на голову легче. Тогда мыслей дурных меньше.
Вика с подозрением пялится на меня.
– Дурной што ли? – спросила Вика, хотя узнала о моих привычках совсем не много.
На спине у меня наколка в виде алхимической монады – еще со времен, когда мы увлекались не только прогрессивной алхимией, но и творчеством группы «Coil». Примерно тогда же я пробил себе губу. Сам. Дома, под трамадолом. Циркулем.
Смеюсь и предлагаю попить чего-нибудь теплого. Ставлю на огонь казанок с водой. На небе восходит звезда.
– И все равно. Ты не похож, – говорит Вика.
– Чего?
– Ты не похож на суицида. Ты похож на координатора. Покажи анкету.
Безразлично пожимаю плечами и достаю из кармана «паспорт самоубийцы». Вика читает вслух:
– Герасимов Герман Иванович. Ого! Да тебе уже тридцать семь! Так, так. Местожительство: Одесса. Ого, и я когда-то в Одессе жила! Как там сейчас?
Пожимаю плечами.
– Да нормально, – говорю. – Так, как везде.
Мы пьем кофе.
Вика просит рассказать что-нибудь о себе. А у меня как раз настроение выгнать на-гора пару мулек. У меня появляется желание отомстить этой девушке – непонятно за что, правда.
– Я врач, – говорю. – Врач-гинеколог.
Вижу, Вика этого не ожидала. Смотрит на меня уже другими глазами. Наверное, перестраивает сейчас свои первые впечатления.
– У меня что-то не в порядке с головой, – начинаю я вдохновенно.
– Это я заметила, – без иронии говорит Вика.
– Понимаешь, я не хотел быть гинекологом. Я хотел стать эндокринологом, – добавляю медленно. – Эндокринологом, Вика. Лечить стыдливых гермафродитов, прислоняться фонендоскопом к страдающим ожирением подросткам… Любоваться безобразными криптохорами-мутантами с письками, как окаменевшие слизнячки.
– Фу-у… ты в натуре больной, – почти одобрительно замечает девушка. Только почему одобрительно?
– Вот и я говорю: больной на всю голову. Поэтому эндокринология – это мое. Мое. А судьба отправила меня на гинекологию. Тоже будто бы живописная профессия. Ничего не скажу, поначалу я был доволен. Иногда такое случалось увидеть, ночью весь в поту срывался. Пока молодой был, интересно было. Был энтузиазм, понимаешь? А потом попустился. Запала не стало.
Я-то ждал, когда меня отправят на медосмотры. В вузы, в техникумы. Вот что меня манило. Ставить клизмы нежным красавицам. Вытирать губки их «ротиков» марлевыми тампонами. А крючочки? Шпатели? Пинцеты?! Вместо этого я имел дело с сорокалетними закомплексованными прихожанками местной православной церкви. Их даже клизма не разбудит.
Меня отправили на периферию, в районную больницу. Моя профессия духовно старит человека. И так уж эта работа устроена, что к самому интересному ты сможешь получить доступ только тогда, когда оно уже станет абсолютно непривлекательным. Мои глаза постарели на этой работе, а сердце покрылось илом. И что с того, что теперь у меня были и клизмы старшеклассницам, и аборты пенсионеркам? Ничего.
Вика меряет меня взглядом и с пониманием кивает.
– А потом… знаешь… потом совсем другими глазами посмотрел на свою профессию. Совсем другими. Я представил себе, что я повар и имею дело с моллюсками. Без гадливости, без ажиотажа – но и без паники. Моя профессия меняет человека.
Вздыхаю, и Вика будто чувствует всю тяжесть креста, который несут гинекологи.
– Да, гинекология меняет людей, особенно мужчин. Как правило, в не слишком хорошую сторону. Это как радиация. Сначала весело – счетчик трещит, сердечко колотится, а потом бац – и отвалилось. И нигде ничто не шевельнется, не затрепещет. Ну, ты понимаешь, о чем я. У женщин этого нет, у вас всё по-другому.
– Вместо того, – продолжаю, – чтобы возлюбить девушек всей душой и сердцем, я наоборот. Я замкнулся, стал бирюком, перестал мыть голову. Я знал: у каждой дамы между ног живет моллюск. И, глядя на контуры женского лица, на разрез губ, на форму скул, на нос, на подбородок, я в деталях мог спрогнозировать, какой будет мантия у моллюска. Предчувствовал, ясным или темным будет его глубоководный взгляд, а также предрасположена ли дама к грибковым заболеваниям.
– Ну ты, блин, псих… Почти как мой Витас, – с уважением добавляет она.
– А ты думала, у нас жизнь – малина? Жизнь гинеколога – это суп-молочница из немытых моллюсков.
– Буе-э-э! А это уже противно!
– Слушай-ка, что дальше было. Это же не смешно, это моя боль! У меня начались параноидальные состояния. Поэтому я пил. А с бодуна снова оказывался в компании жителей соленых вод, которые дышали мне в лицо трясиной и йодом. Я трогал их липкие поверхности, пальпировал живот, брал мазки из самых глубин их трясины! Промасленными пальцами я проникал в их сухие земляные норки на предмет утолщений на внутренней стенке матки. Я на этом гастрит заработал!
Перевожу дыхание. Я будто переключил канал в своем бодуне и выпускал через эту историйку.
– И еще знаешь шо? Никель. Или хром. Черт, это полная шиза. Мои инструменты были из блестящего никеля. Не, ты просто не шаришь, насколько это антигуманно! Гинекология – это фашизм в миниатюре! Шпатели, щипцы, зеркальца! Сдавленные вскрики, надломленная стыдливость и вытесненный стресс. Это поругание над женским достоинством. В гинекологию идут отставные генералы КГБ.
– Это точно, – соглашается Вика задумчиво. – О, вспомнила! «Throbbing Gristle»! – вдруг выкрикивает она, будто нашла отгадку. – Ты бы послушал «Throbbing Gristle», – и все понял!
Я никак не врублюсь, о чем она говорит, хотя «Throbbing Gristle» слушал, даже очень. Вика объясняет:
– «Throbbing Gristle» – это такая музыка. Называется индастриал. Я их фанатка, я тебе о них еще расскажу. Но если бы ты их услышал, то посмотрел бы на свою болячку совсем по-другому.
– Почему ты так думаешь?
При упоминании о «Throbbing Gristle» глаза у Вики загорелись.
– Понимаешь, они фашисты! Они садисты! Больные на всю башку. Они… блин, они такие, как ты!
– Так это комплимент?
– А ты сам раскумекай! Но, чувак, ты действительно на всю башку порванный. Меня, может, тоже не из консерватории выпустили, но ты – номер один. Хорошо, шо ты голову побрил, если тебе от этого легче.
– Воистину легче. Но самого прискорбного ты не услышала. Я категорически не мог.
– Чего не мог?
– Ничего не мог. Вообще. И не хотел, главное. Даже бросил пить. Хотел все поменять. Увлекался фиточаями, делал очистительные клизмы из урины и клевал проростки пшеницы, а по выходным вязал крючком и слушал Шопена… И судьба как будто улыбнулась мне. Однажды ко мне пришла Она. Надежда Григорьевна. Пенсионерка. Образованная, интеллигентная особа, в прошлом – врач-андролог. Можно сказать, моя половинка. Добрая. Радушная. Еще вполне цветущая. Эх… Мы с ней знаешь шо делали? В больнице на Новый год двумя Снежинками переоделись! То-то веселья было. Любились, одно слово. Но счастье длилось недолго. Поползли по поликлинике слухи. А она, голубонька, была такой тонкой душой! Она повесилась, Вика, рыбонька, взяла и повесилась. Ты слышишь? Я не простил этого людям. И с того времени, – делаю завершающую интонацию, – в принципе, готов к последнему, решительному шагу… – Я изобразил, будто затянул у себя на шее удавку. – И, будто не случайно, ко мне в почтовый ящик подбросили письмо об этом вот фестивале. Вот такая вот оказия.
Несколько минут Вика сидит и дышит еле-еле. Страшный ошейник, из которого я на протяжении всей истории черпал вдохновение, мешает ей нормально глотать. Могу поспорить, сейчас Вика жалеет, что пришла к неизвестному вечером.
И тут я в самом деле удивился: Вика наклонилась ко мне и похлопала утешительно по руке.
А мне даже не стыдно. Мне ужасно хуево. Какой я поц, зачем я это все рассказал? Я вспомнил тесную, жаркую кабинку, где я продавал пополнение на мобильные телефоны в ночную смену, и жгучую горечь трамадола, если рассосать желатиновую капсулу. Почему, как только меня спрашивают о личной жизни, я начинаю врать что-то вроде вот этого? Потому что как только я решу для себя в одиночестве, что вот этому человеку можно будет открыться, как встречаю этого человека и сразу почему-то меняю свое положительное мнение о нем.
Повсюду сереет, и воздух наполняется таинственным серебристым блеском. Из палаток начинают вылезать намоленные растаманы и другие существа, которым яркие лучи режут по зрачкам. Эти высохшие создания двигались, как паралитики на морозе, но при том ухитрялись обмениваться восторженными репликами о местных красотах и удивительной свежести воздуха.
– Поужинаешь со мной? – спрашиваю у Вики. Та утвердительно кивает, и я отправляю ее за миской и ложкой.
Запариваю в кипятке три пачки «Мивины». Вика приносит с собой немного растворимого кофе в жестянке. Небо усыпается звездами. Снизу, где все добрые и недобрые отдыхающие собираются возле общего костра, доносятся радостные голоса и мажорные аккорды гитары. Стрекочут тамтамы и бубны. Там, внизу, радость и праздник. Здесь сидит понурая девка с ошейником (она любит, когда ее привязывают?) и лысый субъект без следов паспортных данных на лице – ненадежный компаньон на вечер. Они едят кару небесную быстрого приготовления. Лысый субъект – это я о себе. На побритом затылке у меня тоже татуировка. Она означает алхимический знак «сульфур». Эх, шкворчать мне за дела мои в аду. Впрочем, я не верю в ад.
Как известно, «Мивину» можно употреблять как первое блюдо, так и как гарнир. Мы остановились на «первом блюде». Я наваливаю путаные клубы вермишели себе в пасть и чувствую сытое удовлетворение. Я снял ботинки и грею пятки у огня. Ветер дует из долины, задувает дым в глаза. От этого гляделки слезятся. Наутро будут как разваренные галушки. Закуриваю и угощаю сигаретой Вику. Я взял с собой целый блок сигарет с фильтром. В розницу они стоят одна гривна за пачку. В кругу моих друзей (если их так можно назвать) это считается особым «протестным» пафосом. Они не знают, что я курю эти сигареты из соображений более прагматических. Носков я не ношу также не из-за идеологии.
По долине ползет холодный сумеречный покой. В лесу оживляется птичий гомон. Становится чуть прохладнее – не настолько, чтобы беспокоиться о какой-то одежке. Вика, отмечу, вернулась уже в рубашке.
Наконец девушка заканчивает есть. При свете огня ее черты слегка смягчаются. В умеренных дозах ею даже можно любоваться.
Снова ставлю на огонь котелок с водой. Я придумал красивую треногу для котелка. Вместо того, чтобы пердолиться с рогатками, которые нужно крепко вбить в землю, я связал вместе три палки. Получилась тренога, поддерживающая котелок силой натяжения шнурка. Ее легко регулировать. Она прочная и простая – жемчужина «зеленого» хай-тека.
Вика закуривает. Она постоянно курит и, даже когда выдыхает, сигарету держит тут же, возле губ. Вика хватается ртом за фильтр, будто за кислородную трубку. Ее кожа выдает в ней большого друга никотина.
Вика курит и засматривается на огонь. Засматриваться – это что-то уникальное в человеке. Когда ни с того ни с сего взгляд замирает в неожиданной позиции и замечает точку, в которую хочется впиваться глазами. Неграмотно говорить в таких случаях «задумался», потому что когда засматриваешься, на самом деле не думаешь, а только смотришь. А еще говорят, нельзя человека отрывать от того, на что он засмотрелся, потому что тогда в голове у него может что-то там соскочить с резьбы, и он бросится на тебя и покусает голодными глазами.
Поэтому я решил не беспокоить Вику, а сам начал засматриваться в малиновый жар. Из веток потоньше собралось достаточно раскаленной золы, чтобы занялось толстое бревно. Я прибавил поленце из своих запасов за спиной.
С детства люблю сидеть у огня и имею в этом немалый опыт. Сам очаг я, по возможности, обкладываю камнями. Если этого не сделать, в один прекрасный момент (может, именно тогда, когда ты задремлешь) трава, подсушенная жаром, вспыхнет и огонь разлетится дымным кольцом, пожирая тебя, и твой дешевый полиэстеровый спальник, и не менее убогую палатку. Это одна из вещей, которых я стараюсь не допустить. Поэтому, еще раз говорю, всегда обкладываю костер камнями.
Интереснее за огнем наблюдать, конечно, ночью. Для этого желательно подготовить какое-нибудь бревно, на котором удобно сидеть. На голой земле в горах долго не посидишь, даже летом. Чтобы делать меньше движений, я особым образом организовываю пространство вокруг своего места для сидения. Складываю дрова на таком расстоянии, чтобы до них можно было дотянуться без особого напряга. Лучше держать дрова за спиной, подальше от огня, опять-таки чтобы не сжечь себя вместе с горной долиной. Если дрова мокрые, их хорошо выкладывать аккуратными конструкциями вокруг жара. Так они понемногу будут подсыхать.
Типичное занятие – сушить на ночь носки. Особенно когда вечером налазишься по горной долине – вся трава покрыта густой росой, и ноги промокают вместе со штанами аж по колено. По опыту знаю: сушить носки лучше, предварительно сняв их с ног. Разве что кто имеет охоту сделать из ступней жаркое в синтетической упаковке. Такие люди попадаются нечасто, и если уж попадаются, их оригинальные желания на этом не заканчиваются. Часто они оставляют на ночь под открытым небом ботинки. Наверное, эти профессионалы от выживания знакомы с техниками спецслужб по добыванию воды в засушливых местностях, потому что наутро из обуви воду можно пить, как из кувшина.
Эти и похожие на них отдыхающие порой демонстрируют беспричинную любовь к мелким грызунам. Забегая вперед, скажу: на мой взгляд, нечестно играть в поддавки. Зачем оставлять настежь раскрытый рюкзак? Мышки и так прогрызут его, причем там, где нужно. И не только рюкзак, но и спальник, и стенку палатки. И человек, который в припадке сентиментальности предлагал мышке-полевке руку и сердце, а также дружбу и все сухарики, едва лишь увидит дыры в дне рюкзака, будет орать: «Сука! Сука!»
Я добыл из гармоничного пространства за спиной еще поленце (буковое – леса вокруг Шипота буковые), положил поверх уже нагроможденного дерева.
Мы приготовили себе кофе.
– Ты когда сюда приехала?
– Позавчера. Прилезаю, смотрю – а здесь свои люди. Я с тернопольскими в Крыму познакомилась. Я ж без палатки приехала, – и так знала, шо где-то впишусь.
Вписаться – значит втереться к кому-нибудь под крышу. Можно сказать, вступить в сношения с хозяевами палатки (когда-то – в благородном, а в наше время – в каком угодно значении).
– И они тебя вписали?
– Да. Мы с ними на «Рейвахе» классно оторвались прошлым летом. Я их в пещеры водила. Я ж в Крыму родилась, у меня бабка татарка.
– Вот как. А шо, потом с родителями переехала?
– Да, в Мукачев. – Вика задумывается. – А у меня в Стрые пацан жил. Ну и я к нему на квартиру уже вписалась.
– Шо, из дома убежала?
– Та чего убежала. Так, ушла себе. У меня предки были больные.
– Ясно. А нормальный хоть был? Этот пацан?
– Шутишь? Афигенный! Мы с ним стопом всюду ездили, в Болгарии даже были. Но он был слегка с этими… со странностями.
– Например?
– Ну, раз взял меня, голую, бинтами к батарее примотал, как мумию. И ушел из дому. На два дня. Прикидываешь?
Я пробую прикинуть.
– И шо, ты развязалась?
– Не смогла. Он потом пришел, набрал ванну воды… правда холодной. Отмотал меня и прямо такой, как была, взял в ванну и положил. Говорил, как увидел меня, испугался, как бы я часом не умерла. Любит меня. Переживает.
– А зачем он так привязывал?
– Ну я ж говорю, со странностями пацан. Потом, правда, признался, шо ходил блядовать, но боялся, шо я увижу. Нормально, да? – Вика затягивается. – Ну, я ему, ясно, простила. Я ж тоже не святая.
– А еще шо-то такое, оригинальное?
Вика задумывается.
– А… Ну мы, я говорила тебе, мы с ним индастриалом увлекались. Слышал, может?
– Слышал. Сам интересуюсь.
– А мы умирали за этой музыкой. Нам один пацан из Бундеса таких кассет наприсылал! Мы там все в Стрые в шоке ходили. Это такая музыка, я тебе не могу описать…
– Сильная? – подсказываю.
– Пудово. Сильная! Мне башку так срывало, я такие истерики закатывала!.. Слушай, как вообще тебя… я шо-то забыла…
– Герман.
– Герман. – Вика пальцем зафиксировала это слово в воздухе. – Хошь, я тебе про эту тему расскажу?
– Ну давай. Валяй.
– Но ты ж не поверишь.
– Да ты рассказывай, не ломайся.
– Ну, тогда слушай. И не говори, шо такого не бывает.
Я чувствую, как голос, если вслушаться в него, прокладывает путь к ее памяти. По голосу можно узнать что угодно. Я разрешаю голосу войти в мою голову, а потом по нему, как по нити, сам проникаю в память Вики и уже не различаю, где заканчиваются слова, а где оформляется ее память. Я попадаю в психическое телевидение.
– Короче, мы с Витасом были классными друганами. Реально классными. Он меня везде с собой брал. Рассказывал разные истории. Всякое мне показывал, шо я никогда бы не додумалась сделать… Ну ладно, я ж говорила, мы с ним и к бабке в Крым ездили, и в Кишиневе тусовались, в Болгарию даже как-то заехали. Та мы и в Стрые нормально гуляли. Правда, в Стрые у Витаса было много дружков и кроме меня, ну и подружек тоже. А у меня, кроме него, там никого не было. Пока я не знала его еще так близко, он ширялся дай бог. А я пришла и…
Как Вика сказала, Витас был слегка не в себе. Он испытывал непонятную неприязнь к мелким и немощным существам. Всячески демонстрировал это, часто именно в присутствии Вики. Она должна была ассистировать Витасу в том, что он окрестил «естественной тягой к познанию». Домашние препарации, в детали которых Вика вдаваться не желала, должно быть, оставили у нее осадок на всю жизнь.
Витас мечтал научиться делать чучела. А поскольку никакого представления об основах этого ремесла он не имел, то должен был начинать с малого. Воробышек там, лягушонок. Ну и так далее, по восходящей. Некоторые экспонаты сперва нужно было догнать – не каждый хотел стать Витасовым чучелом.
На первый взгляд Витас напоминал молодого криминального элемента. Стриженный под нулевку, с лицом землистого цвета и полным ртом ароматных сгнивших зубов. Вика говорила, что у него зубы от недостатка кальция шатались. Когда Витас давил на них изнутри языком, они выгибались наружу, как гребенка.
Когда-то Витас неслабо ширялся, но Вика помогла завязать. Жаль, но тяжелые тучи «хмурого» так и не развеялись над его головой. Создавалось впечатление, что, когда Витас заходит в комнату, сразу гаснет свет. Темная персона, никуда не денешься[2]. В компании Витас мог прицепиться за какую-то ерунду и бесконечно долго и нудно пристебываться к человеку, пока не получал по морде. Ловя кровь изо рта, улыбался страшными зубами и обещал показать, где йетти зимуют. С такими смешками Витас хватал Вику за руку и тянул ее куда-то на несколько недель от светской жизни подальше. Витас был… чересчур навязчивым, что ли?
– Моего Витаса никто, кроме меня, не любил, – продолжает Вика, – потому что он был реально напряжный. Вот уж точно, трудный характер у человека… А еще мой Витас интересовался колдовством. Читал книжки про черную магию, называл себя сатанистом и устраивал даже какие-то там мессы. Пока ширялся, имел собственную банду малолеток. Был для них верховным.
Но то были одни пацаны, а Витас хотел еще и девушек. Поэтому с сексуальной магией он обратился уже ко мне. А малолетки, между прочим, его уважали. Вместе там котов на кладбище жгли, гробы раскапывали, ну, такое. Не сатанисты, короче, а просто живодеры. У них там все не по каким-то правилам было, а так – шо на душе лежит, то и делают. Хотят – целочку поймают, изнасилуют. Хотят – мальчика поймают, заставят каку есть. Ублюдки. Но Витас ушел от тех малолеток, и вот почему, слушай.
Раз нажрался циклодола и пошел к своей малышне на кладбище, где они тусовались. И шо-то он такое им там начал говорить, шо та малышня просто взбесилась. Взяли и так его побили, шо чуть не угробили. Только листьями сухими притрусили и оставили подыхать. Полтора суток пролежал под дождем, в сырой могиле. Представляешь? Все почки себе попростуживал.
С тех пор Витас со своими малолетками больше не встречался. У них теперь новый пахан появился, среди своих выбрали. Но буквально через неделю, когда они Витаса отдубасили, их всех менты повязали. Половину в трудколонию в Прилуки забрали, а старших – посерьезнее. По полной дали, за изнасилование малолетки.
А как Витаса отпиздили, так с того времени мы и подружились. Это ж я его и выходила, и выкормила, короче, сделала из него нормального человека. Кстати, Витас говорил, что это именно он своими чарами нагнал ментов на тех уродов. Но мне почему-то кажется, он на них настучал. Я все хотела те книжки пожечь, но он не разрешил. Говорил, что теперь в изгнании, должен познавать черную науку. А я должна была быть его послушной рабыней. А мне шо – я согласилась. Лишь бы любил.
Оккультными вещами Витас интересовался еще с тех пор, как подвисал на «черном». Любил он это дело – повтыкать, почесаться, Кроули почитать на приколе. Добрый такой, тихий.
Один из друганов-чернушников, из тех, что имели родственников где-то в Бундесе, подбросил ему пару кассеток с записями ранних «Psychic TV».
Витас, так сказать, приторчал. Так он впервые узнал об очень близких ему людях – Гене К-Кашке, Неряхе Кристоферсоне и Иване Балансе. Витасу рассказали об их сексуальных практиках. В частности о том, что в поисках вдохновения трое лондонцев проводят ритуал, во время которого вступают в сношения с животными. Записанные звуки при этом сэмплируются и непосредственно используются во время записи альбома. Витас пришел в восторг. Подобное мировоззрение оказалось близким ему по духу, а Витас относил себя к людям, глубинно сопереживающим музыке в стиле industrial.
– Ну вот. И тогда нам его друган из Бундеса прислал целую коробку кассет, с разными индастриалами. Тут-то мы уже пошли вразнос. Винт, кетамин, ну, трава… Я еще так-сяк, а Витасу башку снесло капитально. Он, знаешь, всегда имел склонность ко всему болезненному…
– Патологическому, – поддакиваю.
– Во-во.
Те, кого слушали Витас и Вика, были настоящими поклонниками тьмы. Она назвала мне их имена: Джон Беленс, Питер Кристоферсон по прозвищу Неряха и, ясен пень, мистер Дженезис (Женя) Пи-Орридж. Вика перевела мне эту языковую игру как «господин Бытие К-Кашка».
– Страшный человек.
– Не то слово. Я слышала, он себе сделал пластическую операцию на половом хуе и имеет там теперь женский орган.
Чем-то подобным, очевидно, грезил и Витас. Он выискивал всякие факты из биографии кумиров и старался подражать им в демоничности. Трое британцев изучали и уважали Алистера Кроули – развратника и проказника, педрилу и наркомана. Все трое с детства испытывали странное влечение к потустороннему и демоническому. Витас рассказывал Вике, что мистер Беленс с детства был наделен видением мира потустороннего. И насмотрелся столько жуткого дерьма, что чуть не загремел в Бедлам. Часто перед сном к нему приходили черти и забирали на всю ночь в темные сферы, где показывали всякую нечестивую срань. Как результат появились такие распрекрасные вещи, как «Фетиш говна» или «Хвала сточным водам», или «Анальные ступеньки».
Но товарищи – уже упоминавшиеся Неряха (в оригинале «Sleazy») и К-Кашка (в оригинале «P-Omge») – помогли не поскользнуться и сплотились в первый свой широкоизвестный музпроект. Они назвали детище «Throbbing Gristle» – это живописное имя приблизительно значит «Пульсирующий Хрящ». «ПХ» выступал на андеграундной сцене Лондона поздних семидесятых. Такие дела.
Они (новоприбывшие монстры) поняли: бороться нет смысла. Если конец света предотвратить не удается, то нужно его возглавить. А первые попытки «ПХ» возглавить апокалипсис казались весьма убедительными. Их музыка напоминала скрипение тоталитарной машины. На сцене «Throbbing Gristle» топтали ботинками фекалии, громыхали гинекологическими инструментами («Это место – в самый раз для тебя», – отметила Вика), визжали, шипели, фонили гитарами и вытворяли на своих музыкальных секвенсорах такую чертовщину, что избалованные итальянским диско геи ощутили на себе первое дыхание Бледного коня Апокалипсиса.
Ключевое слово для понимания «Хрящей» – перверсия. Особенно на почве дерьма. Их родной стихией были отходы, стоки, нечистоты. Их любимые словосочетания для песен и альбомов – скатология, анал, изнасилование. Такие дела.
– Натуральная клиника, – делает вывод Вика и добавляет: – Теперь ты понимаешь, почему я говорила, шо гинекология – это фашизм. Знаешь, если бы ты не был таким больным, я бы тебе этой истории и не рассказывала. Там дальше такое будет, шо я и не знаю, поверишь ты или нет. Но я тебе поверила, имей в виду.
– Поверю, – уверяю я. Господи, скажи, почему мне так везет на всяких ублюдков?
Себя Вика считала светлой стороной Витаса. Мало того, что помогла подвязать с «медленным», так еще и вытянула на поверхность его социальное сознание. Она невыразимо страдала от того, каким иногда Витас бывал жестоким, но понимала, что больше никому не по силам остановить этот полет на дельтаплане над долиной смерти. Вика ощущала святую праведность от осознания своей миссии. И для нее не имели существенного значения ни Витасовы хождения к этой Маринке, ни его не совсем удачные шутки насчет того, что однажды он задушит ее ночью подушкой и изнасилует в жопу (что после чего, непонятно), ни пьяные вспышки агрессии, когда Витас силой отрывал у нее прижатые к грудям руки и гасил о них окурки.
(Когда Витас попробовал забычковать папиросу ей под мышкой, Вика не утерпела и сбежала в Мукачево, к родителям. Но уже на второй день ей показалось, что она слишком круто с ним обошлась. Села на электричку и поехала назад. Витас за такой фокус очень обиделся на нее, не разговаривал целый день, пока Вика в слезах, на коленях не вымолила у него прощение.)
Даже когда Витас прибинтовал ее к батарее под окном, когда она чуть не сдурела от зуда, она все простила ему. Ведь Витас сознался, что ходил к Маринке, и боялся, что она увидит его в ее компании. А раз боялся, значит, ему было не все равно, что о нем думала Вика, да? Значит, она ему небезразлична. Это утешало.
Вдобавок, у Вики и самой случались романы на стороне, правда, не больше, чем на вечер. Витас, когда ему докладывали его кенты о таких ее похождениях, психовал и приходил в раздражение, даже плакал, что было настоящим кошмаром. Вика вроде и чувствовала, что имеет такое же право на адюльтер, как и ее бойфренд, но не могла четко сформулировать мысль. Витас иногда, как ей смутно казалось, подавлял ее.
– Ну и, короче, так мы с ним жили. Витас иногда ходил на работу, он подрабатывал ночным продавцом в киоске[3]. Но что-то в его голове пошло не в ту сторону.
– Что именно?
– Я не знаю. Это вообще очень стремная история, если честно. Мне шо-то расхотелось рассказывать ее.
– Ну давай, колись.
– Ладно. Прихожу я раз домой, смотрю, а двери не закрыты. Вхожу на кухню, а на кухне Витас сидит, котика к груди прижимает. Котик вырывается, психует, а Витас его своими клешнями только сильнее к себе прижимает. Я уже ему сколько раз говорила: чтобы я больше не видела, как ты животных мучаешь. А то ведь этот псих знаешь шо делал? Он котов разрезал, псов разрезал. Говорил, шо изучает их. Ага, я знаю, шо он там изучает. У него хуй без того не вставал. Ну, это после «черного» такое, просто пойми его. Так вот – я ему категорически запретила животных мучить. И трупы домой приносить запретила. Он из трупов отдельные части использовал. А мне уже тех чучел хватало по горло. Найдет на дороге курицу сбитую – подберет. Найдет ворону дохлую – тоже подберет. Все домой тащил. А потом из них разные ужасы лепил. Он же не простые чучела составлял. Каких он страшилищ умел делать, ты бы заценил! Прикинь – череп собачий, вместо ушей вороньи крылья, а в глазницах рыбьи головы торчат. Ну там копыта козлиные – это его любимая тема была. Он же все равно сатанистом себя считал. И это все добро у него дома могло месяцами валяться. В доме штын стоит, шо можно матку вырыгать. Заходишь в ванную, хочешь хоть руки помыть – а там шкура какая-то двухмесячной давности в рассоле плавает. Ну, я когда к нему переехала, то он это дело забросил, все трупы повыкидывал, только чучела свои чертовы оставил. Ну, для прикола. С этим я уже смирилась…
– Так шо там с котиком?
– А. Ну, котик вырывается. Я захожу на кухню, говорю: «Ну-ка не мучай животных!» Он испугался, и котик убежала через двери. А котяра такой зачуханный, шо страшно дотронуться. Весь в парше какой-то, облазит, блохастый – фу! Я к Витасу, у тебя шо, блядь, совсем головы на плечах нет? Соображаешь, шо делаешь? А он только стоит и лыбится. И тут я смотрю – а у него вся грудь в крови. У меня аж ноги занемели, как я то увидела. Короче, он себе всю грудь порезал, аж до живота. А от котика еще кровь размазалась, шерсть поналипала. Меня там чуть не стошнило. Ты, кричу ему, ты шо делаешь, демон? А он стоит, улыбается. Ну и рассказал, наконец, шо он задумал. Сказал: готовится стать первым космонавтом.
– Кем-кем?!
– Первым космонавтом, так и сказал. За несколько дней те его раны, шо он к ним кота прижимал, загноились и начали сочиться. Он это все дело аккуратно бритвочкой соскреб – и на блюдце. И все выделения, вместе с кровью, с коркой засохшей схавал. Ну, ты представляешь, какой человек больной?
– А чё он это делал?
– Он хотел научить свой организм питаться самим собой. Мечтал вырастить на себе колонию лишая, выделения которого можно было бы хавать. Витас больше не хотел делать чучела. Он захотел стать первым космонавтом на самоподдержке. Которого не надо было бы обеспечивать хавкой. Типа, что будущие космонавты все такими и будут – с лишаями на теле, которые они будут жрать. Я, когда это услышала, поняла, шо пора сматываться. Ясно: у пацана предохранители перегорели. А тут он заявляет, что в космос хочет лететь не один, а со своей боевой подругой. Которая тоже, между прочим, должна быть самодостаточной. Короче, хотел и мне на животе раны сделать. Чтобы не голодала на орбите.
– А ты?
– А я не согласилась. Сказала, пусть ищет себе новую подругу. И ушла. Но я ж такая, ты знаешь… Где бы я человека больного бросила. Ну, и вернулась. Через две недели…
А Витас стремительно двигался к своей цели. Кроме собственных струпьев он практически ничего не ел. Живот превратился в сплошную гнойную рану, и Витас методически откраивал на коже каждый раз новые и новые наделы для гнойных культур. От него разило гнилью. Казалось, Витас совсем не понимал, что делает, однако делал все методически, последовательно, и главное – очень целеустремленно. Чтобы снять напряжение перед полетом, Витас громко слушал «Throbbing Gristle».
– Я пришла к нему всего на пару минут, только посмотреть, как он там живет, – Вика сглотнула слюну и замолчала.
– Но он заманил тебя в ловушку. Захлопнул двери…
– Замолчи. Не говори ничего.
Я промолчал. Я просто уже увидел все, что случилось, в самой Вике. Я бы никогда не поверил, что такое на самом деле бывает в жизни. Несчастливая любовь. Есть люди, которые только к саморазрушению и стремятся. Потом это называют несчастливой любовью. Я тоже такой, хули здесь прибавишь.
– После того хотела прыгнуть с девятого этажа. Ты себе не представляешь, как такое можно пережить. Неделю, привязанная к батарее. С лишаем на животе. Знаешь, чего я такая худая? Потому что я пообещала себе не есть свой гной. Неделю я не ела ничего… а потом не выдержала.
Вика начинает плакать.
Меня тошнит от ее истории, и я рад, что не услышал всего, что имел шанс услышать. Честно сознаюсь, не ожидал, что придется столкнуться с чем-то подобным. Особенно теперь. Поэтому я обнимаю Вику, а Вика обнимает меня и некоторое время не плачет, но мелко дрожит.
Когда я размыкаю объятия, от огня остается только красный мерцающий глаз золы. Вокруг нас густая тьма. Уже замолкли внизу вопли и бренчание на гитаре. Горят огни, и поздние пташки сидят неподвижно, засматриваясь на огонь, курят папиросы и изредка перекидываются простыми словами. Темнота между кострами заполнена ацтекским пением цикад.
Я узнаю финальную, как по мне, куда более жуткую часть истории. Вика, находясь в трансе, села на поезд «Мукачево – Львов». В туалете последнего вагона перерезала себе вены куском бритвочки. Но ее нашли. Кто-то вошел в туалет и нашел ее, поднял шум, и Вику на остановке передали на «скорую».
– Я ложусь спать, – говорит Вика.
Молчу. Она встает, потягивается и исчезает куда-то во тьму. Глаза сосут картину тлеющих угольков. Глаза – два пустых нуля.
Вика возвращается со спальником на плечах. Под рукой – свернутый каримат.
– Я с тобой буду спать, как ты на это смотришь?
– Смущенно, – брякнул я. – Но ничего, ночуй.
Вика лезет в палатку. Вытирает рукой ноги от налипшего сена. Залезает в глубь мешка. Слышно, как мостится.
Через некоторое время я делаю то же. Думал, буду чувствовать какой-нибудь конфуз – чужое дыхание, незнакомое тело, не те запахи. Но ничего – внутри все спокойно и мирно. Вика пахнет только дымом. Как и я. Нащупываю в рюкзаке свитер: надо спать в свитере, иначе остынет грудь. Меня мягко впитывает сон. Решаю не мешкать и поскорее поддаться этому властному повелителю.
Угнездившись на своей половине (слева), сладко вздыхаю. Слышу, Вика поворачивается и кладет руку мне на темя. Ее рука гладит лысину, раз по щетине, раз против.
– Хочешь, я тебе хорошо сделаю?
– Например как?
– Ну… ртом.
– Не. Извини, я не вытерплю этого. Моя Снежинка не простит мне.
– А так, просто – не хочешь? – дальше гладит она, все деликатнее, одними лишь коготками.
– Как «просто»?
– Как собачки.
– У собачки хуй не встанет. Спи давай.
– Спокойной ночи, – рука убирается.
– Спокойной ночи.
– Извини.
– За что?
– Та не. Ничего. Я такая дура! Спокойной ночи.
– Не говори так. Спокойной ночи.
Л.: Она себя исчерпала, эта девушка. Тоже наркоманка. Бывшая или периодическая. Тоже с опиатами связано. Ей кажется, будто уже ничего не изменишь, и она хочет погубить себя, чтобы не понимать, что произошло. Уже было в жизни в какой-то момент вроде нормально все, какой-то порядок просматривался. А потом она сама не поняла, как это все случилось, что все понеслось. Она себе не может этого простить. Просто какая-то ее глубинная частичка не может поверить, что все зашло так далеко. Что была эта мерзкая история. Вика сразу среагировала на Германа. Дает понять, что она хочет его. А он, Герман, в душе еще и садист. Поэтому он не хочет ее трахать… со зла.
В.: Что она значит для тебя?
Л.: Она какая-то такая мимолетная…
В.: А вообще она нужна здесь?
Л.: Нет. (пауза) Вика, бай-бай. Ты исчезаешь из этой игры (бросает камень Вики дальше, но камень отлетает совсем недалеко). Похоже, у камня свои планы относительно Вики.
(пауза)
Утро. Разлепляю глаза. Рядом сопит Вика. Лицом к стенке. Веки у меня отекшие, как после плача. Это от дыма. Выбираюсь из спальника, расстегиваю клапан в палатке и лезу на колющий свет. Глаза слезятся, нос заложен. Моя носоглотка раздражена дымом. Утром она всегда так ведет себя. Вика что-то промычала и перевернулась на другой бок. Закрываю клапан, чтобы ее не беспокоить. Светает. Смотрю вдаль, с высоты холма, на долину внизу. Но вижу только мглу. Серо. Утренние сумерки. Горы спят, деревья в дреме – спокойные и все в себе. Зато галдят птицы. Прислушиваюсь к их щебету, и слух магически раскрывается: я слышу все в радиусе многих километров. На рассвете леса – гигантские павильоны птичьего пения. Чириканье воробьев. Покрикивает каменка. Тарахтит дятел. Каркает ворона. В утреннее время птицы очень активны. Еще раз они так же оживут перед сумерками – уже вечером.
От спанья в синтетическом мешке я вспотевший и липкий. Утренний бриз влетает под гольф и создается впечатление, будто на дворе холодно. Это заблуждение, если его немедленно не развеять, можно весь день проходить закутанным в свитер и даже не заподозрить, что температура воздуха в тени плюс двадцать пять.
Я медленно оголяюсь по пояс, снимаю с себя свитер, войлочную рубашку, но оказывается, что я не снял шлеек от комбинезона, хотя я не припоминаю, чтобы ложился спать в комбинезоне. На пару секунд меня охватывает клаустрофобия, когда я пробую снять еще один свитер через голову, голова уже пролезает через него, но панически застревают руки, и я одну за другой снимаю с себя кучу тряпок, одну за другой, одну за другой, пока наконец волевым усилием не решаю прекратить это… и, будто во сне, обнаруживаю, что уже раздет догола. Точнее, до пояса. Я озираюсь, ища, куда подевались мои шмотки. Неестественно яркий свет солнца кажется слишком густым.
Снимаю сырые носки и прохаживаюсь по мокрой траве. Пока роса приводит меня в чувство, нащупываю мятую пачку папирос и на автомате закуриваю. Невольно припоминается, будто только что я пережил довольно сильный дискомфорт, даже панику, но мысли какие-то настолько непривычные, что я просто разрешаю вниманию проскальзывать между вещами, как змее.
Небо в серебристой дымке – похоже, будет вёдро.
Сажусь возле огня. Пепел еще излучает тепло. Кладу пару сухих и не очень тонких палок.
Через какое-то время палки начинают дымить.
Солнце восходит, но его не видно за горой. Верхушки крон из густо-зеленых становятся золотыми.
Положу еще пару веток на огонь. Буду готовить чай. Дым тянется прямо вверх.
Палатки все спят. Далеко снизу слышны треньканье и голос, меня охватывают иллюзии: то кажется, будто звуки далеко внизу, а то – будто прямо под ухом.
Минут через двадцать внизу появляются овцы и чабан. За чабаном бежит маленькая собачка, беспородная, но с дерзко закрученным хвостом.
Пока нет жары, решаю полезть на гору. Обуваюсь и отправляюсь в восточном направлении – вверх, по склону хребта.
Когда возвращаюсь, солнце уже припекает. Место, где стоит моя палатка, вечером в тени, что не очень хорошо. И прямо на солнце сразу после рассвета, что тоже, ясное дело, не всегда комфортно. Уже с самого утра находиться в палатке просто невозможно – воздух прогревается, становится душно и пот липнет к телу.
Издали вижу Вику. Она сидит возле огня с коматозным выражением лица. Подхожу ближе.
Вика замечает меня.
– Приве-е-е-ет, – тянет она. – А я тока шо вста-а-ала.
Я рад за нее. Хорошо, что мы вчера не трахались. Проснулся – а никто никому ничего не должен. Легко как!
Вика уже поставила котелок с водой на огонь. Вода выделяет пар, скоро можно будет попить чего-нибудь тепленького. Снова разуваюсь – так приятно быть босым. На Шипоте это тенденциозно – ходить босым. Битого стекла нет, гадюки не наблюдаются. Время от времени Шипотские босяки даже организовывают акции массового обосячивания. За день до нее они ходят от стойбища к стойбищу и на полном серьезе сообщают о том, что завтра состоится сожжение обувки. Все смеются, отшучиваются, а на другой день не могут найти оставленных без присмотра шкар. Босяки устраивают налет, сгребают всю обувь в кучу и сжигают на большом костре.
Мне мои шкары могут пригодиться, поэтому я напряженно слежу, не оставил ли часом что-нибудь жизненно необходимое так, без надзора. Хотя за всем не уследишь.
Может, в этом году будут жечь палатки? Акция «Сон под открытым небом».
– Ты злишься на меня? – спрашивает Вика.
– С чего бы это?
– Молчишь, не говоришь ничего.
– Э-э-э-э, – машу рукой. – Не обращай внимания. Утром я неразговорчивый.
И улыбаюсь так страшно, что Вика от счастья бросается мне на шею.
– Но-но! Неразговорчивый, но раздражительный, – говорю, отталкивая ее. – На тебя не злюсь, но если будешь дразниться, могу цапнуть за ногу. Одного уже покусал, потом ходил, плакал как маленький.
Вика отодвигается на метр. Упоминание о собаках, которых Вика почему-то панически боится, – идея не очень удачная. Но девушке ничего – вытаскивает из нагрудного кармана папиросу и прикуривает от уголька.
Восстановился ненавязчивый разговор. Наверное, Вика тоже почувствовала, что никто никому ничего не должен. Она снова приготовила нам кофе. Собственно, из растворимого кофе выходит разве что кофейный напиток, но на природе это ерунда.
– Есть сахар? – спрашивает Вика.
Нет, нет у меня ни сахара, ни цукатов, ни крендельков к чаю. Вика задумывается.
– Надо сейчас пойти к тернопольским. У них там всякого добра навалом. Заодно и позавтракаем. Там у них гитарка есть, поиграем. Ты умеешь на гитаре играть?
– Нет, а ты?
– Немного умею. – Вика притворяется, будто бьет по струнам, и ревет: – «З-за-курила девачка-а-а! И зас-снула пьяная-а-а-а!»
– Ух ты! – хмыкаю я. – Сыграешь ее мне полностью, хорошо?
Допив кофе, прислушиваюсь, как в горле распускается, будто горький лотос, кофейный привкус. Вика сжимает зубами папиросу и восторженно притворяется, будто играет на гитаре. Волосы скачут по ее волчьему лицу. С удивлением осознаю, что возле меня сидит волк, а возле его лап блестит на солнце старая гитара. Ой.
– Слушай, – отвлекаю себя и снова вижу Вику. – А ведь это сегодня открытие? Да?
– Та! Сегодня Ивана Купала. Будет большой огонь, все будут на гитарах играть, петь будут!.. Мы в прошлом году с Витасом на открытие не попали, нас в электричке менты хапанули.
– А это чего?
– Та… Витас кумарился, приставал к пассажирам. Но мы потом доехали сюда на попутках. Рассказывают, очень весело было, какие-то придурки даже кетамин привезли.
– Вот как… Ну ладно. Идем к тернопольским.
Я прячу ботинки в палатку (мало ли что), и вдвоем босиком сбегаем вниз.
Чуть дальше переходим на шаг. Вика отчего-то корчит мины, вздыхает. Будто импульсивно (а на самом деле после немалых колебаний) она подает голос:
– От мы идем щас к тернопольским, да?
– Ну, наверное…
– Так ты знаешь, ты так очень близко ко мне не садись… Ну, и делай вид, будто мы не очень знакомы.
Делаю вместо этого вид скорее удивленный.
– Ну, понимаешь, там есть один мальчик, Робин. Ну, ты его сразу узнаешь. Он такой русый, загорелый. С волосами длинными, где-то досюда, – Вика проводит ладонью посередине плеча. – На эльфа похож. И он мне сразу чего-то понравился очень. Ну и мы с ним немного там говорили, о жизни там, о всяком. А как он тебя увидит, испугается и не будет на меня даже смотреть. Будет думать, шо я с тобой черт-те что вытворяла.
– А то, шо ты в моей палатке спала, это тебя не компрометирует?
– Не сильно, – говорит Вика неуверенно. – Главное, ты не очень… мммм… не очень на меня смотри. Будто ты здесь ни при чем.
– Хорошо. Буду тихо, как суслик.
– Но ты не обижаешься?
– Боже упаси.
Тернопольские только начинают чухаться.
Заглядываю в крайнюю палатку. Там, по-турецки сложив ноги, сидит Мукта. Он голый по пояс. Сквозь дыры на джинсах торчат мохнатые колени. Рядом лежит нагое тело молодой женщины, едва прикрытое матерчатым спальником. В палатке пахнет женским: острым и щекочущим. Мукта осоловелым взглядом смотрит мне на подбородок. Рот немного приоткрыт, очки набекрень.
– Ге-ге-е-е, – узнает. – Так это, блядь, лорд Кабель пришел!
– Герр Пудель, – исправляю его с чувством собственного достоинства. – Или граф Кобель. Как спалось?
– Ни хуя не помню. Помню, пришел Омар… Говорит: «Мудак, блядь. Водяру пьешь?» А я ему: «Пошел на хуй, блядь. Хипаблуд ванючий». А потом говорю: «Ладно. Давай, говорю, давай сюда свою водяру. Давай выпьем. По чуть-чуть»… И пиздец. Канец фильма.
Мукта выпучивает глаза и руками хлопает у меня перед лицом, при этом издает губами короткий неприличный звук. В натуре, конец пленки.
– Органично, – отмечаю. – Есть что-нибудь пожрать?
Мукта переводит взгляд на голое женское тело в анабиозе.
– Натка, мудак есть хочет. Надо накормить.
Тело не отзывается.
– Спит, сука. – И вдруг, сложив руки рупором, кричит почему-то в небо: – ВАЛЬКА! ШО У НАС ЕСТЬ ЖРАТЬ НА ЗАВТРАК?
Тишина.
– ВАЛЬКА!
Из соседней палатки слышен сонный голос:
– Заткни пасть. Пойди и возьми себе сам.
– ВАЛЬКА!
– Заткни рыло, сколько можно рычать?
– КТО ТУТ, БЛЯДЬ, ХОЗЯИН? Уй-и-и!
Мукта сгибается пополам, руками держится за живот, а с его губ невольно срывается этот звук: «Уй-и-и…» Это спящее тело женщины нанесло кулаком тычок прямо под дых, даже не поднимая головы.
– Шо за человек, – бормочет тело, не раскрывая глаз. – С самого утра вопли, маты. Пока в кишку не дашь, не успокоится.
Мукта раком вылезает из палатки и доверительно говорит:
– Каратистка, блядь. Третий дан.
Распрямляет спину. По-дружески хлопает меня по плечу.
– Не ссы, Шницель. Пока я с тобой, она тебя и пальчиком не тронет. О! А вон и мадам Ку-ку. – Мукта тычет в Вику. Та сидит возле другой палатки и шепчется с каким-то пареньком лет семнадцати. – Твоя тёла?
– Нет. А чего «мадам Ку-ку»?
– У нее в голове кукушка живет. Все вроде хорошо-хорошо, а раз в час должна прокуковать. Врубаешься?
Мукта находит сигареты и сразу же закуривает.
– Будем, блядь, мужской завтрак готовить. Даян, ты еще спишь?
Из третьей по счету палатки показывается растрепанная девичья голова.
– А ну цыц. Не буди мне короля. А то будет еще больше шума, чем от тебя.
Мукта пахнет дымом. Рот его перекашивает лыба.
– Король дрыхнет, бляди дрыхнут, а я тут должен, как вассал, вкалывать? Я КОГО, МАТЬ ВАШУ, СПРАШИВАЮ? Я ТУТ ДОЛЖЕН ВКАЛЫВАТЬ?
Из третьей палатки слышится тот же голос:
– Ну ты, Мукта, доигрался. Король уже проснулся. Сейчас он тебе даст.
– Но-но, шо я – короля не знаю?
Из палатки вылезает совсем голый молодой мужчина с примечательно длинным и тонким пенисом. На мелком смуглом личике – элегантная щетина. Темные волосы заплетены в тонкую косичку.
– Доброе утро, – тихим голосом здоровается юноша и подает мне руку. Я не знаю, жать ее или поцеловать. – Мы Король Галичины Даян Первый.
– Герр Хельг фон Пудель. Герман, – жму его ладонь.
– Пудель, – говорит король. – Очень мило. А откуда вы будете?
– Из Жовквы, – не моргнув глазом, соврал я.
– О, Жовква – это наши земли. Там живет один наш рыцарь, брат Василий. Он сейчас в Креховском монастыре. Вы не знакомы, случайно?
– Такой с бородкой? – тычу пальцем в небо.
– Именно он.
Король улыбается, подносит ладони к межбровью и произносит:
– Ом-м-м.
Мукта хлопочет возле огня, кляня мир, газеты и спички, называя их при этом пережившими неестественный половой акт.
Спутница короля, незаметно вылезшая из палатки, набрасывает монарху на плечи банный халат с полосатым узбекским узором.
– Оденься, – говорит она. – Стоишь, как мудак, яйцами светишь.
– Есть закурить? – с неизменно просветленным выражением спрашивает король.
– Не кури натощак, тебе нельзя. После еды покуришь.
Я решаю, что это королева. Женщина высокая, крепкая и волевая. По всему видно, правая рука его величества.
Когда королева отворачивается, его высочество наклоняется к Мукте и поднимается уже с папиросой в зубах. Король не разменивается на мелочи, а стоит в своем банном халате, выставив правую ногу вперед, и потягивает папироску. Стряхивает пепел в маленькую декоративную пепельницу, которую держит в левой руке. Король смотрит на север.
Королева возвращается из палатки, уже одетая в свое одеяние – джинсы, футболку, шлепки на босу ногу. Она выдергивает из его августейших зубов папиросу и бросает в огонь. Король невозмутим и держится в высшей степени достойно. Он смиренно кивает головой.
– Ом-м-м…
– Иди мойся.
Король неспешно исчезает. Я наблюдаю за этой сценой, сидя возле огня. Мукта рядом, скалит зубы и почесывает мохнатую грудь. Потеет, бедолага – дело уже идет к полудню. Я тоже покрываюсь потом. Что-то не вижу Вики.
Из четвертой палатки (всего палаток пять, они расположены буквой Г) вылезает еще пара: молодой юноша, похожий на тюленя в матроске, и моя знакомая К.
– Доброе утро, – здороваются они. Я оцениваю, как пара смотрится в тандеме. Весьма слаженно. Даже чем-то похожи. Говорят, это свидетельство близости душ. Все тернопольцы такие уставшие, что приходит в голову, будто они связаны между собой изнурительными оргиями.
Молодые люди берут туалетные принадлежности и идут к воде.
Никак не могу понять, куда заныкалась моя Вика. Вероятнее всего, сидит в пятой палатке. Оттуда в самом деле доносится какое-то шушуканье и возня.
Только я призадумался над этим крепче, как последняя палатка расстегивается и оттуда вылезает Вика. Подозреваю, что она попробовала вытереть слезы еще в палатке (и ей это удалось), но, пока вылезала, набежали свежие. Пробую поймать ее взгляд, и она демонстративно отворачивается и идет вверх, к нашему постою. Видно, как рукой она вытирает лицо.
Мукта тоже уловил ситуацию. Он смотрит на меня.
– Ку-ку! Ку-ку! В Петропавловске-на-Камчатке – полночь. – Мукта качает головой.
Из палатки выдвигается голова еще какой-то девушки и испуганно смотрит Вике в спину. Та не оглядывается.
Девушка из пятой палатки снова залезает в середину. Слышно, как она говорит кому-то: «Всё уже, ушла».
– Ох, девки, девки… – вздыхает Мукта, неведомо о чем думая и почесывая мохнатое пузо. – Будем есть гречку с килькой в томате. У нас, Петя, той кильки – немерено. На, открывай ты, потому что я уже заебался их зубами разгрызать.
Он бросает мне сперва консерву, а потом нож – весьма необдуманно с его стороны, едва отскочил. Открываю кильку и вываливаю ее содержимое в котелок с дымящейся кашей.
Мукта кладет мне в миску добрую порцию гречки. Так же искренне наваливает и себе, мужской завтрак. Накрывает котелок крышкой и снимает с огня.
Я методично нагребаю кашу в пасть. Чувствую, как с каждой ложкой становлюсь все добрей, ласковей и покладистей. Возвращаются шумной толпой остальные тернопольские.
Пригревает солнце.
Не проронив лишнего слова, сижу возле огня, как раз так, что дым летит прямо на меня. Из глаз бегут слезы. Обитатели пятой палатки все еще внутри. Все уже поели и теперь раскинулись живописной труппой вокруг костра – кто потягивает чай с сахаром, кто грызет песочное печенье. По тому, как непринужденно здесь курят папиросу за папиросой, делаю вывод, что у людей немерено не только сахара и печенья, но и других потребительских благ. По легкому флеру разврата, царящему над стойбищем, создается впечатление, будто я попал на банкет к контрабандистам.
Гитарист потихоньку бренчит, настраивает лады. Стоит жара, место тернопольских – как раз на припеке. Начинает припекать в спину. Хорошо было бы выкупаться. Жаль, нет панамы – темечко прикрыл бы.
На небе тонкая поволока туч. Синоптики называют их страто-циррус – перисто-слоистыми. Еще можно прибавить «фракталис» – рваные. Выискиваю взглядом атмосферный фронт. Судя по взаимному расположению туч, он за хребтом, далеко на западе. Я недавно статью читал о погоде, она во мне все просто перевернула. Это, наверное, из-за трамадола я так ее близко к сердцу принял. Ловлю себя на мысли, что от аццкого бодуна, пережитого мной вчера, не осталось и следа.
Вдали, за Мукачевым, идут проливные дожди. Где-то холодные нисходящие потоки разрезают теплые коржи воздушных масс из долины. Где-то завихряется циклон. А здесь, над головой, – страто-циррус фракталис, и легкий ветерок, и жара.
Сверчки.
Король Даян сидит, сложив ноги по-турецки, а руки в «чашу девяти драгоценностей» – ладонями кверху. Он едва улыбается и смотрит прямо на меня. Я вижу вокруг него невесомую янтарную дымку. Дымка рассыпается в радугу – ближе к телу красный контур, потом выразительно-желтый цвет, потом, ярко после желтого зеленый контур и темно-синий, за которым закрывает эту невидаль ярко-фиолетовый, почти круглый абрис. Даян улыбается каждой из своих оболочек.
Мало-помалу цветное видение тает.
Чувствую, нужно что-то спросить.
– А вот вы мясо едите?
Даян, не переставая улыбаться, отвечает:
– Нет. Даянизм не принуждает меня есть мясо. А вы?
– Тоже нет. Только иногда, когда уже некуда бежать.
Король понимающе кивает.
– Ну да, ну да… Некуда бежать. Гм… Красивый лозунг для нашего королевства.
– О, – удивляюсь. – Так у вас есть королевство?
– Да. Теократическая монархия. Господствующая религия – даянизм. Скоро мы провозгласим нашу монархию торжественно открытой. Это произойдет двадцать восьмого августа, в Тернополе. Между прочим, присоединиться не желаете?
– На правах кого?
– На правах вассала, конечно. Кто первый присоединился, получил аванс в виде титула. Жаль, вы не первый.
– Так есть уже и другие?
– Натурально. Круглый стол и двенадцать рыцарей. Вот один из них, – Даян десницей показывает на Мукту.
– А что делают рыцари?
– О, рыцари правят подвассальными им дамами. Вот как, например, вчера. Вчера у нас был типичный вечер отношений «сеньор – вассал». Приходите и вы к нам вечером. У нас очень весело.
Король мечтательно смотрит на небо.
– Жаль, Вики не было. Она такое любит, – Даян едва кивает головой, при этом закрывая глаза. – Хорошая девушка. Она, наверное, вас вчера посвящала? Интересно, как: устно или задним числом?
– Нет, нет, что вы. Боже упаси! Ом гате гате парагате, – торопливо крещусь я.
– Парасамгате. Абсолютно согласен. Тоже этого не люблю. Простите, вылетело, откуда вы…
– Из Жовквы.
– Жовква. Наши земли, – мурлычет Даян. – Мы вас завоюем.
– Не нужно. Мы сами сдадимся.
– Нет, разрешите все-таки вас подчинить. Вот вы, такой проницательный, такой серьезный молодой человек. Организуйте против нас в Жовкве сопротивление. И нам приятно, и вам воздастся. А когда мы освободим жолковчан от сопротивления, я представлю вас к ордену. Это очень почетно.
– А как насчет официоза?
– У нас – на высоте.
– А в Жовкве?
– Мы действуем тихо. Без помпы. Скромность – украшение монарха. У него и так неоспоримые достоинства.
– Бом шанкар?
– Но пасаран, – и составленными, как при молитве, ладонями, король дотрагивается до лба. – А вот и Вика. Вика, подождите. Вика, вы уже не сердитесь на меня? Прошу, сядьте у моих лотосовых ступней.
– Пошел на хуй, чурка долбаный.
– Ом-м…
– Хуй столбом! – огрызается Вика. – Представляешь? Этот гондон хотел меня на цепь посадить!
– Ну, это же все были шутки, Вика. К чему бы, интересно, я вас привязывал здесь?
– Тебе только поводок в руки дай. – Вика снова поворачивается ко мне. – Прикинь, доебался к моему ошейнику, говорит: «Давай, ты моей чи-хуа-хуа будешь».
Даян блаженнейше улыбается и кивает головой.
– Давайте покурим драпа, – предлагает монарх. – Вика, вы покурите с нами драпа?
– Я иду купаться. Идешь? – Это относилось ко мне. Самое время идти к воде. Я благодарю монархистов за завтрак и ускоряю ход, чтобы догнать Вику.
Водопад находится в живописном обрыве, засыпанном светло-желтой листвой, заваленном камнями и стволами деревьев. Шум водопада доносится аж наверх. (На Шипоте везде стоит легкий шорох рек.)
Вика сбегает к обрыву, даже не смотрит под ноги. А зря – как раз тут можно наступить на битое стекло.
Река бежит по порогам живописного обрыва. Поочередно слезаем по крутому склону к водопаду. Добрые отдыхающие когда-то высекли тут ступеньки. Мысленно благодарю благодетелей – по укрепленным ступеням спускаться намного легче.
Я останавливаюсь на массивном каменном выступе, нависающем аккурат над водопадом. Внизу, метрах в семи подо мной, любуются стихией руссише туристен в ярких тряпках. В Карпатах в этом году наплыв гостей с Востока.
Тучные тётечки в рейтузах несмело пристраиваются на мокрых, обросших мхами глыбах и замирают перед объективом в незатейливых композициях, акробатических ровно настолько, насколько разрешает чувство равновесия. Обрыв дышит холодом. Шумит, аж закладывает уши, Шипот. На фоне прогретого воздуха кожей чувствуешь ледяные токи от камней и воды.
Тетки с детьми. Детишки бегают вокруг мам и передают друг другу оплеуху-«лов». Шум воды заглушает все звуки.
– Эй, не втыкай! – кричит снизу Вика. Зрение прорезается болезненной контрастностью: я вижу белую кожу в проборе ее смоляного каре. Вика заходит в воду по щиколотки, но с перекошенным лицом выбегает и начинает прыгать.
– Ну и холодная! Попробуй!
Я пробую. Действительно – холодная, как ё-моё. Купаются в водопаде, как правило, над кручей, в «джакузи», за пару метров от места, где вода летит с шумом с высоты. Через поток положили ствол дерева. За него держатся, чтобы не снесло течением. Купаются на Шипоте голяком.
Я снимаю штаны и майку. Складываю их по-армейски и кладу на камень – под ногами теплое черное болото вперемешку с листвой. Смотрю на Вику. А та смотрит на меня. Мне стыдно за свои наколки, они привязали меня к истории. Из-за них я невольно вспоминаю все, что меня гнетет и мучит.
– Я почему-то думала, он у тебя другой, – в конце концов находится она и снимает через голову майку. Ничего нового. У нее под майкой, я имею в виду.
Ступая по камням, захожу в воду – холодно, аж выворачивает кости. Вика заходит по-другому – забегает с размаху и с головой погружается в самом глубоком месте.
Выскакивает и с воплями вылетает на берег. Я набираю воздуха. И тоже – с головой!
– ААА! Мама! – Тело скручивается в узел, и я, будто каракатица, в судорогах выбрасываюсь на берег. Ледяные когти разламывают мои мышцы на длинные щепы, потом вкалывают их друг в друга и разжевывают ледяными беззубыми пастями. Мое тело, как заведенное, само начинает скакать на месте, а руки описывают круги. Вика пригибается от удара и ради безопасности отходит на метр в сторону. Полотенцем она растирает грудь и спину. Худой таз, обтянутый гусиной кожей, торчит костями – будто два револьвера. Жесткая бурая щетка между ног.
Вика энергично растирает полотенцем спину. В том, как ее волосы окаймляют лицо, мерещится что-то волчье, опять эти глюки. Она следит за моими глазами и выражением губ. Ей интересно, куда я смотрю. Ну вот, перехватывает взгляд и начинает вытираться между ногами. При этом не отрывает от меня глазищ. От их блеска у меня дергаются яйца. Губы у Вики фиолетовые от холода и мелко дрожат. Одну секунду мне хочется их поцеловать и прижаться животом к ее животу. Горячая кровь прибывает в пещеристые тела, и я в срочном порядке еще раз забегаю в воду.
К-К-К-К-К. Один звук про холодную воду – К-К-К-К.
И еще пару:
– А-АА! ОО-О-ОО! – Меня снова пережевывают беззубые духи водопада, и я выскакиваю на берег. Вика услужливо протягивает уже мокрое полотенце, и я хватаю его, одновременно пробую растираться, брыкаться ногами и делать махи руками. Наплывает волна сочного тепла, и внутри делается тепло-тепло. Только зубы стучат. Перевожу дыхание и аж подскакиваю от боли – Вика смачно шлепнула меня по заднице.
– Ку-ур-р-рва! – выдавливаю сквозь дрожь. Вмазала, аж в носу закрутило.
Еще и хихикает. Бросаюсь за ней, Вика пробует лезть наверх, но напрасно – шлепок правосудия таки впечатывается в ее ягодицу. С визгом Вика хватается за зад.
Мы гоняемся, больно хряскаем друг друга ладонями по сраке, по спине, плечам, так что все тело пышет от красных отпечатков, пока Вика, наконец, не хватает меня за прутень и не сжимает его крепко в ладони. Он сразу же втягивается в тело, а в живот проскакивает тень томительного предчувствия.
Не отпуская меня, Вика подходит так близко, что ее грудка касается холодными сосками моей кожи. Меня пробивает мороз. Ее губы шевелятся:
– Ну шо, будешь кусаться?
Я пробую отстранить ее от себя, но это выходит так неудачно, что Вика, не выпуская моего пиндюра из рук, падает задом на землю. От неожиданности я вскрикиваю: «Сука!», а она в ответ: «Хуй!». Вика больно ударилась о камень. Она разжимает ладонь. Смотрит на меня.
Слава богу, ее ладонь пуста.
Мне нечего сказать. Зато Вике есть что. На глаза набегают слезы боли.
– Прид-дурок! – плаксивым голосом выкрикивает она и лезет вверх, время от времени хватаясь немного выше поясницы – там содранная кожа пропотевает кровавой росой. Вика кряхтит от удара и надрывно воет, но при этом ловко карабкается вверх.
– Подожди! Я же нечаянно! – после продолжительной паузы, да и некстати, выкрикиваю вслед. Но Вика даже не озирается. Только мелькают белые пятки. Исчезает. Куда-то уже побежала плакаться.
Мне досадно. Почему-то мечтаешь об одних телках, а попадаются всегда другие. Я вытираюсь, надеваю на голое тело штаны и подкатываю брючины где-то до середины голени, чтобы не промокли. Споласкиваю в ручейке майку, ищу взглядом полотенце. Подбираю Викины шмотки (эти цветастые трусики умиляют даже меня) и лезу вверх. Приказываю себе не думать, а быть внимательным – можно улететь в пропасть. Ступаю по листве, ноги увязают в рыхлой земле. Пальцами чувствую мягкие корни.
Вылезаю к типи над обрывом. Возле огня сидит загорелый чувак в джинсовой безрукавке и помешивает что-то в котелке. У меня бурчит в животе. Обмениваемся взглядами.
Я получаю безмолвный ответ на невысказанный вопрос, так как глаза неожиданно смещаются с чувака на камень далеко влево. Там, обняв колени, сидит голая Вика. Она плачет, просто ревмя ревет. И почему-то на нее никто не обращает внимания.
Подхожу. Тень в траве короткая и нерезкая – небо все в барашках. Уже где-то полдень.
Вика замечает меня и умолкает. Прячет голову между колен и накрывается сверху руками, будто тюлень ластами. Я вправду не знаю, что мне нужно делать, поэтому просто сажусь на камень рядом и кладу возле Вики ее одежку. Пользуясь минутой, расправляю на горячей поверхности свои трусы – пусть сохнут.
Вика бубнит под нос:
– Какая я дура, как-кая я дура! – снова шмыгает носом и дальше, более адресно: – Ну почему мне так не везет с пацанами? Тот блядун… этот казел… Почему?!
Я молчу, и Вика начинает плакать сильнее. Тогда я подсаживаюсь ближе и осторожно обнимаю ее за острые плечи. Вика с готовностью ложится мне на колени калачиком, и я несколько минут глажу ее по мокрым волосам.
– Мне же просто нужно любви! Просто-напросто! Мне в жизни так не везет на любовь! Никто, никто-никто меня…
Но я не слушаю. То есть слушаю, но не очень внимательно. Глаза сами поймали интересного пришельца. Не могу сообразить, чем он привлекает внимание, однако внимание упрямо выделяет именно его фигуру.
Глаза хватаются за каждое его движение – это низенький полный человечек с округлым лицом, когда-то брюнет, а теперь капитально лысеющий субъект. Сейчас он разговаривает с двумя хиппи – высокими бородатыми парнями с аурами на голове. (Аура, на хипповском арго, это не то, что я думал вначале, а всего лишь лента, которую завязывают вокруг головы. Она проходит горизонтально посреди лба и создает узнаваемый типаж.) Мохнатые бородачи сутулятся над коротышкой и время от времени кивают ему в разговоре. Видно, бородачи не то растеряны, не то рассеянны, – а коротышка продолжает что-то рассказывать, рисует руками в воздухе какие-то колбасы, нарезает их… Все это – с легенькой улыбкой на сыром лице. Круглолицый хорошо знает, какое производит впечатление, так как к растерянному выражению парней относится с очевидным пониманием. В одной руке дядя держит белый цветок, только что сорванный.
Дядя, между прочим, немолодой – уже давно за полтинник. Растянутые спортивные рейтузы (наверное, носит их только в доме), грязно-зеленого цвета куртка (грибник, стало быть) и белая панамка с козырьком. И еще, в тон ветровке, старомодный рюкзак-«колобок». Я их не перевариваю – эти «колобки» не просто режут плечи и спину. Они противоестественны, аморальны, антигуманны. Они просто абсурдны.
Глядя на «грибника», я в живых тонах вообразил, как буду говорить все, что думаю о «колобках», прямо ему в лицо. А он, даже не снимая этого абсурда с плеч, будет улыбаться, кивать и деликатно нюхать ромашку, склонив голову на плечо.
Человек, наболтавшись вволю, мягко машет ладошкой (дескать, забудьте все, мон ами, не принимайте к сердцу, силь ву пле), комично отдает честь (хипаны скалятся, сквозь бороды сверкают зубы, они такие прикольные, эти бородачи – они тоже козыряют старику). А старик разворачивается к горной долине лицом, подбирает с земли свою палочку-подпиралочку и принимается брести в нашем направлении. Но что это? К палке у путника привязан выцветший лоскут красной ткани!
– Смотри, – тихо говорю Вике. – Вон еще один появился. Идет к нам.
Вика сразу же замолкает.
– Смотри, смотри, – разворачиваю ей голову на краснолоскутника. – Кого он тебе напоминает?
– Какого-то учителя. Дай подумаю… М-м-м… Учителя музыки в средней школе! Такой, на баяне играет. А тебе?
Я пристально вглядываюсь в полное, аж слишком румяное лицо типичного гипертоника. Он рукой протирает глаз, сдвигая очки на затылок.
– А мне, Вика, он напоминает инженера. Любитель кроссвордов и типичный грибник. Разведен, но в душе семьянин. Это жена ушла, между прочим.
– Откуда знаешь?
– А так. Брякнулось. Будем знакомиться? Предлагаю делать, как нас просят координаторы. Подобрать и обогреть.
Вика посматривает через плечо. Меня снова глючит на тему волков.
– Подождем.
Человек идет прямо на нас и смотрит так, будто доподлинно знает, кто мы и что мы (в особенности я). Почему-то я уверен, что очкарик остановится. Но камрад в белой кепочке только улыбнулся нам и махнул ладонью. Потом смешно спохватился – «ах, как я мог забыть?» – и показал нам два мирных пальца, мол: «свой».
Отвечаю взаимностью. Вика не реагирует никак, только разворачивается телом вслед за ним. Выше, возле компании из Здолбунова, он остановился и что-то попросил. Ему дают баклажку с водой, и человек пьет. При этом, как мне показалось, косит глазом на меня. Благодарит кивком головы и семенит потихоньку дальше.
– И шо ты на такое скажешь?
– Шо ты меня, козел, не любишь, – говорит Вика. Садится, нервно натягивает на себя шмотки. – Догоняем его. Это же один из наших!
И первой соскакивает с камня, бежит под гору. Ну вот, споткнулась и чуть не зарылась носом. Поднимается и идет уже медленно. Я тоже бегу, догоняя Вику.
Человечек сидит возле нашего огня и жует бутербродик. Расшнурованный рюкзак лежит возле ног. Рядом с моим флагом он попробовал воткнуть свой, но неудачно. Его флагшток повалился, мой полощется на ветру.
– Добрый день, – первым здороваюсь я и пробую изобразить из себя того, кем себя всегда воображал. Слышал, как говорили обо мне за глаза: «Апасный штрих». Да, это типа я. Апасный штрих с пробитой губой.
– Приятного аппетита, – говорит Вика.
Человечек смешно вздрагивает, выпучивает глаза в радостном привете и машет свободной ручкой. У него полон рот еды. Второпях прожевав откушенное, он несмело кричит:
– Добрый день, добрый день!
И, преодолевая стыдливость, обнимает меня с немного преувеличенным усердием. Я тоже обнимаю толстячка и похлопываю по вспотевшей спине. У него, наверное, в голове некоторые совсем не молодежные ассоциации от всего этого – весна народов, интернационал и другие куски нездешнего мяса.
– Хогой! – Снова разводит руки коротышка (будто перезарядил ружье) и тянется обнимать Вику. Вика обнимает дядю, даже хлопает того по лысине.
– Альберт Геннадьевич, – говорит он, сев снова на поленце.
– Герман.
– Виктория, – говорит Вика и разворачивается ко мне.
– Огня? – спрашиваю. Придумала же – Виктория… А сама еле по складам читает.
– Да, будьте добры. – И Вика невинно хлопает глазенками. Дуреха.
Прикуривает от тлеющей палки в моей руке. Кокетливо держит папиросу, отставив мизинчик. Дуреха капитальная. Или это у нее такой юмор?
Зубы у Альберта Геннадьевича крупные и редко посаженные, темноватые. Когда улыбается – рот при этом приоткрыт, – зубы придают его круглому лицу специфическую декоративность. Очки в пластмассовой оправе, линзы толстые, захватанные. Пот с него так и течет. Дядя снимает панамку и вытирает ею лицо и шею.
Улыбчивый такой – когда ни глянешь, все чего-то лыбится.
Замечаю, что очки поддерживает на голове резинка – может, даже резинка от трусов. Альберт Васильевич догадывается, на что я смотрю, и поясняет:
– Специально для гор приладил. Знаете, давненько уже не выезжал никуда. Вдруг еще упадут в пропасть? Я без них – ни шагу.
– Что, на олигофрена похож? – спрашивает у Вики.
Его шарм добродушного даунитоса гипнотизирует Вику. Она охотно кивает в ответ и мило улыбается.
Дядька, как будто довольный такой реакцией, несколько раз моргает. За увеличительными линзами очков это выглядит и страшно, и смешно. Я ржу.
Вика переводит мечтательный взгляд на Геннадьевича и говорит (обо мне):
– Не обращайте внимания. Он такой дурак!
Альберт Геннадьевич понимающе кивает. Я успокаиваюсь.
– А вы откуда будете? – спрашиваю.
– Ой, друзья, давайте на «ты». Называйте меня Альбертом. А лучше – Аликом. Мы же вроде все здесь равны. Такое интересное место, вам не кажется?
Вика кивает.
– Я тоже так почувствовал, сразу же. Особенное место. Знаете, я же старше вас, я в вашем возрасте о таком мог только мечтать. Здесь все такие любезные, мне так приятно, вы просто не представляете. Это же хиппи, да? Хиппи? О, я помню: «Смоуки», АББА… Да-да. Они теперь немного другие, чем когда-то, эти хиппи, вы знаете? Я их помню совсем еще молодыми. Тогда – такие наивные, а теперь – такие… такие ненавязчивые. А здесь – здесь просто чудесно. Просто чудесно, вы знаете это? Такая атмосфера, это шо-то совсем новое для меня. Так свободно! Так незакомплексованно! Нашему поколению у вас можно столькому научиться! – Алик наклонился к нам и уже немного тише продолжил: – Я вот только вылез там, внизу, чуть сердце не выскочило. Стою, дух перевожу. А тут смотрю – такие красивые молодые люди: девушки, ребята. Все такие самобытные, кое-кто даже в вышитых сорочках. Мне там двое из них рассказали, что это такой ежегодный фестиваль, я правильно понял? Да? Очень хорошо, оч-чень хорошо. Я очень рад, что вас встретил и мы вот здесь.
Я тоже уверил Алика, что, в натуре, бля, рад его приезду. И Вика – Вика тоже, без выкрутасов, сказала, что очень классно встретить среди шпаны такого торчкового дядьку, как он.
Алик вытягивает из рюкзака завернутые в бумагу бутербродики, на ходу поясняя:
– Я целлофаном не пользуюсь. Чистое безумие, этот целлофан. У меня здесь бутербродики с колбасой, в целлофане они бы уже зелеными стали. Такая духота… Как ехал в поезде, столько людей набилось…
– Так откуда вы? – переспросила Вика, беря один из бутербродиков.
– Из-под Хмельницкого. Шабановка, а?.. Не?.. Не слыхали?
Мы качаем головами: ни сном ни духом.
– О, это маленькое сельцо. У меня там сад есть небольшой, хозяйство.
– Корова есть? – спрашиваю с профессиональным любопытством.
Алик улыбается.
– Нет, коровы нет. Есть кролики. Кур двенадцать. Аквариумы держу.
– А огород?
– А как же. И огород… и сад… Я теперь ближе к природе стараюсь. Знаете, так будто шо-то само меня тянет. Раньше этого не было, а теперь-таки легче с природой общаться.
Я с пониманием киваю и жмурю на него глаз. Какой же он хитрющий тип все-таки. Самый главный момент остается вне слов и вне взглядов. Ветер полощет флаг, и это именно то, о чем не хочет упоминать ни Алик, ни Вика, – трудное и неприятное, с привкусом кислятины.
Тоже решаю не привлекать лишнего внимания к красному. Подожду, пусть всплывет само.
Алик явно почувствовал мои мысли, так как смущенно стих и опустил взгляд куда-то влево, а уголки улыбки привяли.
– Что-то ветер поднимается, – замечает он. В самом деле, ветер с гор набрал свежести, он пах промокшими склонами и гнал по небу все более густую дымку туч. Прозрачная белесость уплотнялась и превращалась в не вполне уютную серую материю, подвижную и неспокойную. Мне представилось, как высоко-слоистые облачка густеют от холодной влаги и опускаются все ниже, называясь теперь кумуло-нимбус, кучево-дождевыми.
Вика лезет в палатку, достает оттуда помятую рубашку. Расправляет на ветру и надевает. Небо темнеет (это сразу меняет что-то в настроении), и порывистый ветер треплет зеленый тент… красный флаг. Вика зябко потирает плечи.
– Вон еще одни. Тоже в нашу компанию, – вполголоса говорит Алик и показывает, как под гору еле ползут трое молодых людей. Новоприбывшие. Судя по времени (как раз два пополудни), они приехали из Воловца автобусом на Межгорье.
– А ты откуда знаешь? – спрашиваю.
Алик напряженно смотрит мне в лицо.
– Разве не видишь? – и сразу улыбается.
Я пожимаю плечами. Вика, обхватив себя руками, тоже следит за новичками. Обыкновенные отдыхающие. Парень, девушка и девушка. Не вижу в них ничего суицидального. Скажу наверняка, что до этого они были не знакомы, хотя и не объясню, почему так уверен.
Сейчас они двигаются по нижней линии террасы, подходят к каждой палатке, здороваются и обмениваются несколькими словами. Парень и две девушки. Девушки сохраняют дистанцию, значит, не подруги. И парень не приближается. Значит, не кавалер. Однако парень кажется слишком учтивым как для незаинтересованного – какая-то все-таки ему понравилась.
Небо в тучах, свет – скупой и серый. Печальные мысли о преждевременной осени.
Дольше всего троица простояла у палаток ровненских. Там люди сделали симпатичный шалаш из зеленых веток – можно сидеть даже в дождь. Под навесом много людей, тесным кругом сидят у огня. Видно, дружелюбные ровненцы пригласили гостей в свою компанию. Но гости сканируют взглядами радиус полонины. Кажется, нас засекли.
Алик отводит взгляд.
– Знаете, – говорит он. – У меня есть довольно аппетитный пирог из ревеня. Вы бы не угостили меня чем-нибудь горячим?
Мы с Викой стратегически решаем, кашу уже варить или подождать. Вика говорит, что пора уже и немедленно, так как ей бутербродика мало и она голодная, а как начнется ливень, придется сухую вермишель лопать.
Я же убеждаю, что сейчас пирога с ревенем будет довольно. А потом, когда разместим Алика, то можно расслабиться и возле кашки.
Спрашиваю у Алика:
– У тебя палатка есть?
– Конечно. Правда, небольшая, одноместная. Рыбацкая такая.
Это хорошо, что Алик с палаткой. В моей на троих места точно не хватит. Учитывая то, что Вика только что пошла к монархистам за рюкзаком. Надо понимать, перебирается на мой пансион? Над Шипотом собираются сумерки, веет холодный ветер.
Берусь за огонь. Подкладываю немного сухой травы, немного веточек и раздуваю жар. Летят искры – ветер в помощь. На горячем пепле в считанные минуты разгорается новый костер.
Алик распаковывает рюкзак, достает оттуда легкие сандалики на пенорезине. Переобувается, ставит душные ботинки подальше, выветриваться. Снимает куртку грибника, снимает мокрую тельняшку и переодевается в сухое – застиранную футболку с едва заметным словом «СПОРТ».
– Я могу тебе чем-то помочь? – спрашивает у меня.
– Сейчас, разгорится огонь, и пойдем по дрова.
Алик удовлетворенно кивает, упирается в бока (у него круглый животик) и наблюдает за народом внизу. Там веселая суета – люди стаскивают дрова на середину поляны, где должна гореть праздничный костер. Это традиция Шипота – каждый год в ночь на Купала жечь костер. Каждый, кто хочет посидеть рядом, считает за честь притарабанить пару бревен подлиннее. Молодые люди соревнуются, кто приволочет бревно помассивнее. Благо поваленных деревьев в лесу с зимы немерено. Весь лагерь, несмотря на тучи (а то и благодаря им), живо готовится к вечеру.
Ветер стихает. Когда внезапно утихает ветер, это означает, что циклон оказался как раз над головой. Безветренный круг в центре ветреной воронки циклона называется «глазом». Мы с Аликом идем выше в лес за ветками, и я мысленно смакую эти словечки: «глаз циклона», х-хе!
Вика принесла воды в пластиковых бутылках. Бутылки перемазаны болотом, с налипшими листочками бука. Вода холодная, и поверхность бутылок покрывается росой. Делаю несколько глотков. Алик тоже пробует здешнюю воду и хвалит ее за сладкий привкус.
Вика в печали – походы к тернопольцам заставляют ее испытывать болезненные ощущения. Что-то там она не поделила с девушками – не то парня, не то что-то другое… Вика ковыряет палочкой в огне, положив голову на колени. Когда палочка загорается, Вика вытягивает ее из костра и задувает. И дальше снова то же.
Ломаю ветви на подходящей длины дровишки.
– Так темно-о-о, – воет Вика. Снова задувает огонек на веточке.
– Ну, угощайтесь, – Алик разворачивает пирог и на коленях нарезает его на кусочки. – Чуток примялся, но ничего. Я его специально на самый верх клал.
Берем по кусочку. В животе бурчит. Все-таки насчет обеда Вика была права. И вдруг она вытаскивает банку растворимого кофе «Галка» и насыпает нам по щедрой ложке в кружки. Не припомню, чтобы у Вики были такие запасы.
– Кофе где взяла?
– А… у тернопольских украла. У них там хавчика – завались… Так им и надо, буржуям.
Вика заливает порошок кипятком. В котелке плавают утопшие мушки, травинки, чешуйки и тому подобное. Вика старается лить медленно, чтобы это добро осталось на дне.
– А сахару ты не украла случайно?
– Сахар в другой палатке.
Алик лезет в свою сумку и вытаскивает оттуда майонезную банку с белыми кристалликами (нет, не ЛСД, а сахарного рафинада). Где-то далеко слышен гром. Вика старается – сама каждому сыплет сахар и сама размешивает. Хочет, чтобы с ней говорили, гладили ее, уважали и любили.
Пробую пирог.
– Ничего так, – говорю жуя.
Вика тоже кивает. Она запихивает кусок всеми пальцами сразу. Алик вытаскивает из кармана рюкзака столовые салфетки и кладет возле нас. Сам кладет себе пирог на салфетку.
Снова гром, где-то ближе. От пирога остаются одни крошки. Вика, убедившись, что никто на них не претендует, стряхивает крошки с бумаги в рот.
Потягиваю кофе. От постоянного кофейничанья во рту оскомина. Для разнообразия можно пойти в село купить молока. Здесь оно сладкое и дешевое.
Порыв ветра. Кожа покрывается пупырышками. Циклон перемещается.
– Холодновато что-то, – замечает Алик и накидывает на плечи куртку. Озирается по сторонам. Буки прогибаются, шумят белой листвой. Под защитой леса ветер не так ощутим, а над деревьями, он, наверное, бесится. Мы же высоко в горах. И откуда это ненастье взялось так внезапно?
– А что это там, внизу, такое будет? – спрашивает Алик.
– Костер, – говорит Вика. – Купальский огонь. Каждый год разводят большой костер. Возле него все собираются, смеются, песни поют. Мы пойдем, правда? – Вика смотрит умоляющими глазами.
– Само собой, – отвечаю ей. – Но тогда нужно принести немного дровишек.
Алик замечает:
– Ночь на Купалу – это очень интересно. Это, друзья, мистическая пора. Духи выходят из лесов. Вы это знаете? А огонь на Купалу очищает всех.
Вика оживляется и лезет в карман за куревом. Сигареты у нее теперь тоже другие, помоднее. Наверное, из резервов монархии.
– А еще на Купалу люди собирают травы, – утверждает Алик со знанием дела. – Эти травы служат совсем по-особенному. Оберегают против нечистой силы, отгоняют все плохое, вот.
Над головой сверкает, и трещит гром. Я аж подскакиваю. Древко моего самодельного флага ломается, и знамя падает на землю. У меня за спиной, победно наступив на флаг, стоит карликоватая растрепанная девка со страшными болотными глазами.
– Шо, бляди?! Думали, мы вас не найдем?
Бьет гром.
Вылезают еще двое с рюкзаками – парень и бледная девушка, похожая на ходячий труп.
Между собой они не знакомы, встретились в Воловце. Искали, чем добраться на Шипот, даже думали брать такси на троих. У парня, я так понял, до фига бабла. Но водитель распоясался – заломил цену в пятьдесят гривен. В рассылке координаторов значилось, что в 12 дня от продуктового магазина, который за базаром, на Подобовец едет автобус «Воловец – Межгорье». Автобус стоит всего две гривны.
Из их слов следовало, что только в автобусе они преодолели смущение и взаимно перезнакомились. Парень представился Марьяном, но посоветовал называть себя Йостеком. Он высокий, угловатый. Блондин, волосы стянуты в хвост. Прыщавый бледный лоб прикрывает волнистыми локонами. В бело-голубых джинсах – слишком новых и чистых для путешествия в горы. Дальше, зеленоглазая дьяволица назвалась Лорной – так ее звали все друзья. Она темно-рыжая и длиннокосая – привлекательность на грани фола. Такой разве что в порно сниматься. Блядское лицо.
Ну а третья – тоненькая кудрявая скромница с пугливыми глазами – ту звали Жанной. Вон как интересно: Лорна, Жанна и Марьян.
«Йостек», – поправляю себя.
Народ подвигается ближе к огню (кругом что-то совсем темно), Лорна садится на корточки. Марьян сидит на своем рюкзаке, курит сигареты «суперлайт», пачка в нагрудном кармане. Эта Жанна такая слабенькая и дырявая, что, кажется, колышется в такт геомагнитным полям. Она стоит, сложив руки на груди, сжав ноги «по швам». Может, ей писать хочется? Стоит над огнем и не решается сесть рядом. На призывы присесть вымучивает улыбку: «Я и так постою». Создается впечатление, будто ее непрерывно тошнит.
Как только появились пришельцы, Алик снова начал всех обнимать. Особенно сопротивлялась та растрепанная, Лорна, или как ее. Глянула на старого с таким презрением, что тот аж извинился за нескромность. Йостек, напротив, радушно шел навстречу. Крепко обнимался со мной, с Викой, хлопал всех по спине.
Лорна смотрела на это зелеными глазами, только сказала Вике: «Дай папиросу». В приказном тоне, представляете? Вика дала, карлица Лорна присела возле огня, прикурила и задымила. Она маленькая, низенькая, но очень энергичная. И раздражительная.
Жанна обнималась осторожно, стараясь не коснуться меня грудью. Смущаясь Алика, обняла и его. Еще больше сконфузилась от того, что нужно обнимать Вику. Наверное, Вика поразила ее своим ошейником. Но с помощью всяких наигранно-веселых «О-о-ох!» и «А-а-ах!» таки преодолела этот этап.
Алик:
– Как вы добирались? Тяжело было идти под гору?
– Думала, сдохну, – брюзжит Лорна. – Какая-то бабка, бля, еще нас с дороги сбила.
– О, а это чего?
Йостек улыбается.
– Идем мы, видим, какая-то женщина, из местных, с торбами идет. А нам куда идти, непонятно. Мы спрашиваем у женщины, кудою на Шипот надо, а она давай шо-то объяснять, туда, сюда, отутво будет то, а потом такуво, короче, заморочила нас.
– А потом начинает нас грузить, – вставляет Лорна. – По всем, бля, каналам.
Конец ознакомительного фрагмента. Купить книгу
2
В.: Этот Витас мне немного напоминает нашего Германа.
Л.: Да, надо будет прощупать связь между ними.
3
В.: Герман тоже, по-моему, подрабатывал ночным продавцом в киоске?
Л.: Странное совпадение. Что б оно могло значить?